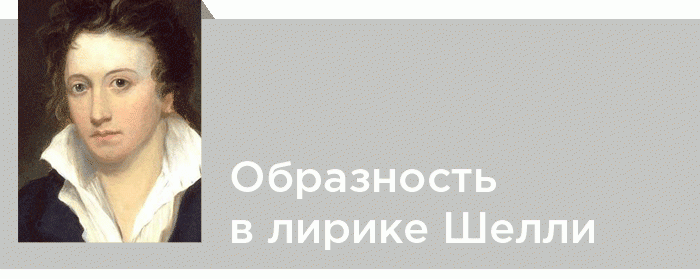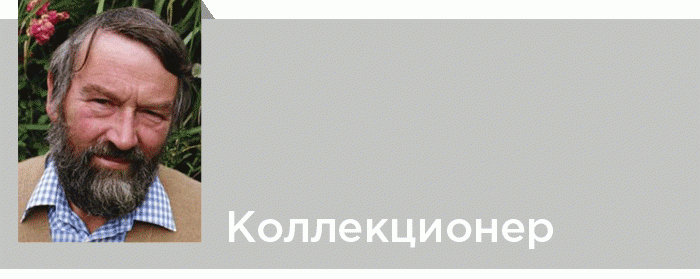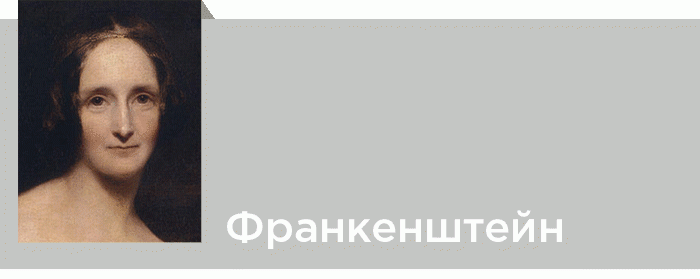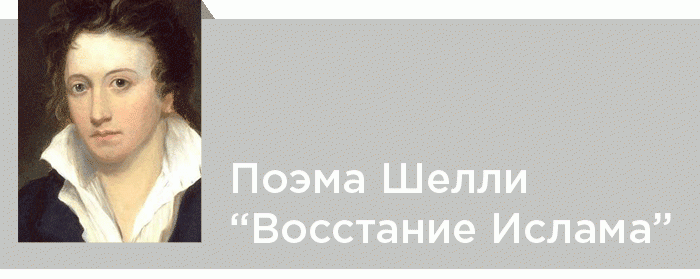Италия в лирике Шелли
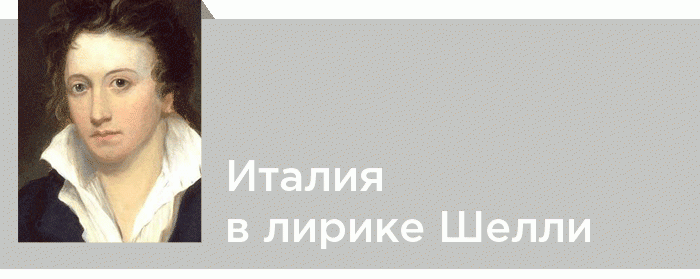
Н.Я. Дьяконова
Вся жизнь Шелли была посвящена идее общественного служения. С отроческих лет он мечтал быть среди тех, кто освободит людей от тяготеющего над ними рабства. Сперва ему казалось,, что к освобождению ведут простые рациональные средства, подчиненные законам высшей необходимости. Позднее Шелли пришел к мысли, что свободу миру принесет только «Интеллектуальная красота» (1816), источник всеобщего просветления и радости.
В духе Шеллинга, красота для Шелли — полноценное, лишенное изъянов бытие: «поэзия — это зеркало, которое дивно преображает то, что искажено». По убеждению поэта, красота совпадает с совершенством, гармонией, любовью; она несет в себе творческое организующее, исцеляющее начало и противостоит силам хаотическим, бесформенным, безобразным. Она, стало быть, отождествляется с идеалом.
Этот идеал наполнился конкретным содержанием, когда Шелли весной
Красота природы, мягкий, благотворный климат Италии противостоят для поэта холодной, сырой погоде Англии, толчее, дыму и копоти ее городов. Восприятие Шелли не всегда отделяет пейзажи Италии от чудес ее архитектуры, от произведений искусства: в его описании величественные развалины старинного дворца, колоннада которого нависает над пропастью, сливаются с окружающими лесами и горными водопадами. Изумительная по своей тонкости резьба белых мраморных башен Миланского собора особенно поражает на фоне безмятежной голубизны итальянских небес или при свете луны, когда звезды словно теснятся вокруг остроконечных шпилей.
В предисловии к «Освобожденному Прометею» поэт пишет: «Моя поэма была сочинена большей частью па холмах, где высятся развалины Бань Каракаллы, среди усеянных цветами прогалин и ароматных цветущих зарослей, которые причудливо раскинулись там на огромных площадках и головокружительных арках, повисших в воздухе. Синее римское небо, могучее пробуждение весны в этом дивном краю, ощущение повой жизни, которым она переполняет и опьяняет все паше существование, — вот что вдохновляло меня».
Шелли не указывает здесь на другой источник вдохновения, не менее «итальянский»: поэзию, живопись и скульптуру. Его письма, заметки, наброски полны описаний не только восторженных, но тонких и проницательных. Хотя он научился читать по-итальянски еще в
Особенно велико было влияние на него Данте. Шелли не устает восхвалять «изысканную нежность, чувствительность, идеальную красоту» его творений и ставит его в пример даже Микеланджело, ибо тот в отличие от Данте не знал, что «нельзя изображать ужасное без контраста и без связи с прекрасным». Данте для Шелли — поэт-философ, творчество которого оказалось мостом между старым и новым мирами. Он первый пробудил восхищенную им Европу. Глубину поэзии Данте, как и других его современников, Шелли объясняет тем, что они творили в эпоху всеобщей борьбы за свободу.
Как и Байрон, Шелли не раз принимался за переводы из Данте, экспериментировал с его терцинами в «Оде к западному ветру» (1819) и даже в поэмах, как, например, в неоконченном «Торжестве жизни» (1822).
Увлечение итальянской поэзией имело в Англии давнюю традицию. Оно возникло еще в эпоху Возрождения. После перерыва во время политических бурь в середине XVII в. и господства пуританизма оно возобновилось в XVIII столетии и особенно усилилось в начале XIX. Для поэтов-романтиков — Байрона, Шелли, Китса — и эссеистов Хэзлитта и Хента оно было связано с протестом как против классицистической французской литературы, так и против угнетателей прославленной страны, где зародилось движение, от которого «ведет свое начало новая эра человеческой мысли и творчества».
Чем прекраснее искусство и природа Италии, тем уродливей те унижения, которым подвергают ее австрийские завоеватели и мелкие тираны местного происхождения. Народ Италии, сетует Шелли, доведен до крайней степени нищеты и порабощения. «На площади святого Петра, — пишет он из Рима, — работает человек триста каторжников в цепях... На ногах у них тяжелые кандалы; некоторые скованы по двое... В воздухе стоит железный звон бесчисленных цепей, составляя ужасающий контраст мелодическому плеску фонтанов, дивной синеве небес и великолепию архитектуры. Это как бы эмблема Италии: моральный упадок на фоне блистательного расцвета природы и искусств».
Ненависть к поработителям Италии заставляет Шелли чутко прислушиваться ко всем проявлениям революционной мысли и действия. Восстановление национального единства и независимости — вот что устранит иго, искажающее красоту Италии. Призвать к этому должно крылатое слово поэта, от «трубного раската» которого люди становятся лучше и мудрее.
Воспоминания о героическом прошлом, восхищение итальянской природой и искусством, сострадание трагедии народа и мечты о его возрождении определяют для Шелли то единство мысли и переживания, которое позволяет ему увидеть в Италии настоящего и будущего воплощение своего социального, нравственного и эстетического идеала. Торжество любви, свободы и справедливости, которому поэт отдал свою жизнь, именно в Италии, полагал он, должно принять особенно величественные очертания. Оно отстранит уродства жалкой эмпирической действительности, в которой господствует анархия — «бурное море королей, священников и рабов» (1820). Италия для Шелли — «потерянный рай» мира, «цветущая пустыня, остров вечности, святилище». «О Италия! Собери всю кровь своего сердца! Победи чудовищ, которые превращают твои священные дворцы в свои берлоги».
Поэтический идеал Шелли осуществится тогда, когда Италия станет «возвращенным раем». Отсюда двоякий характер образов к его «итальянских» стихах. В одних, овеянных трагизмом, подчеркивается противоречивость, совмещение противоположностей, как в стихотворении «О леонардовской Медузе» (1819), построенном исключительно на сталкивании страха и очарования, ужаса и красоты, которые одинаково божественны, света, который страшнее мрака. По ощущению Шелли, музыка красоты, проникающая в застывший мрак боли, очеловечивает и гармонизирует. Дважды в разных стихах, повторяет Шелли оксюморон «неподвижно беспокойный».
В других образах, напротив, раскрывается вожделенный идеал единства, согласия, взаимопроникновения всего, что прекрасно, утверждению которого в поэзии Шелли помогла Италия. Так, описывая Анархию, наступающую на восставший Неаполь с севера и, «подобно Хаосу, раосотворяющую творение» (1820), Шелли взывает к глубочайшей Любви, Великому духу, который правит и движет всем сущим на италийских берегах... духу красоты.
Свойственное поэтическому видению юного Шелли равнодушие к частностям, к индивидуальным деталям постепенно исчезает. Отчасти тому причиной растущая зрелость поэта, медленно приближающегося к синтезу общего и единичного, отчасти — его восторженный интерес к Италии, отчасти, и быть может более всего то, что она сама и все с нею связанное приобретают для Шелли символический смысл. Она — поруганная красота, которую должны воскресить сильные духом, — те, кого вдохновляет поэзия.
Неудивительно, что итальянские пейзажи Шелли — это пейзажи его души. Те или другие подробности — не только объективированные выражения или аналоги переживаний, но и их символы. Так, в его глазах «лучи утра поникли, мертвые, на башнях Венеции, подобно ее давно ушедшей славе» (1818). Это стихотворение строится на контрасте цветущей природы и людских страданий. Своеобразие его в том, что вопреки обычному представлению о великой вселенной и жалком роде человеческом у Шелли изображается бескрайний, как океан, мир людей и скорби, а в нем — зеленые островки радости, дарованные природой. Вой вихря напоминает поэту вопли побежденного города, когда король-победитель скачет посреди торжества братоубийц.
Символична также параллель между океаном, которому постепенно суждено поглотить Венецию, и океаном горя и тирании, разрушающим ее величие. Символом единства духовного и физического, неотделимого для Шелли от истинно прекрасного, является соединение в облике Венеции реального, зримого очарования и «идеального» ореола, которым окружил се Байрон, когда жил и пел в ее степах. Символ грядущей победы красоты Шелли видит в солнце — оно парит в небесах, подобно окрыленной мыслью свободе.
Только в Италии, где эта идея воплощается в бесчисленных, ставших для него символическими черточках прекрасных ландшафтов, «архитектурных миражей», изумительной живописи и скульптуры, символика Шелли становится менее бесплотной. Так возникает образ Неаполя, «столицы разрушенного рая... нагого сердца человеческого, трепещущего под безвеким небом».
В самые последние годы поэтическое зрение Шелли обостряется. Он учится видеть красоту не только в прекрасном, но и в обыкновенном, не переставая воспринимать все частности как проявления единого, великого, как отсвет рая, — того, что возвратится с отвоеванной свободой. Его сияние падает и на самые точные пейзажи Шелли — как например описание «замученных бурями сосен, стволы которых переплелись как змеи».
Постепенная конкретизация образов была закономерной для Шелли, но Италия дала его развитию в этом направлении могущественный толчок. Как заметил М.П. Алексеев, Шелли в отличие от Байрона и, добавлю, других романтиков «почти не связан с народнопоэтической стихией своей современности». Образы его зрелого творчества имели иные источники. Первостепенным среди них было эмоциональное осмысление природы, искусства и исторических судеб Италии.
Л-ра: Сравнительное изучение литератур. – Ленинград, 1976. – С. 409-414.
Произведения
Критика