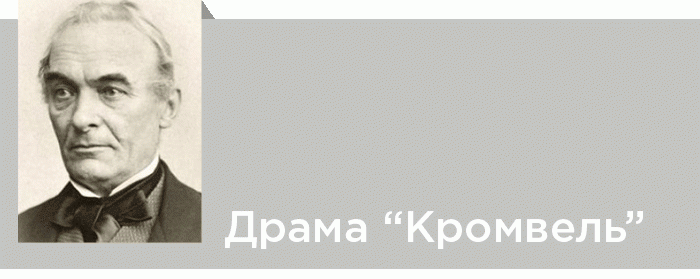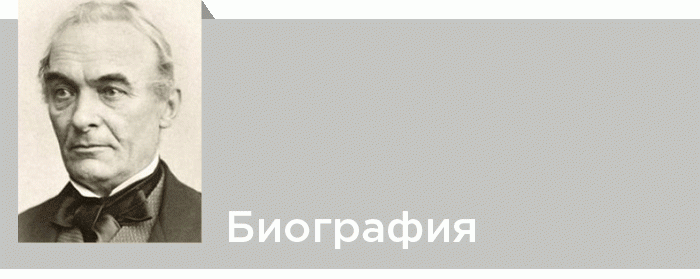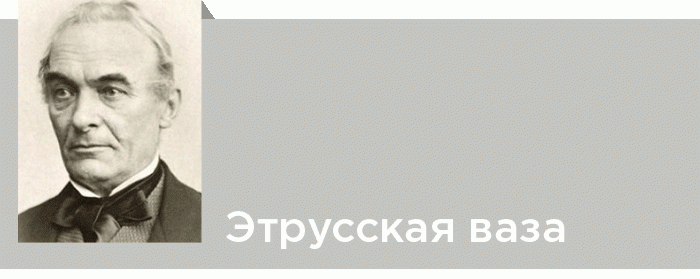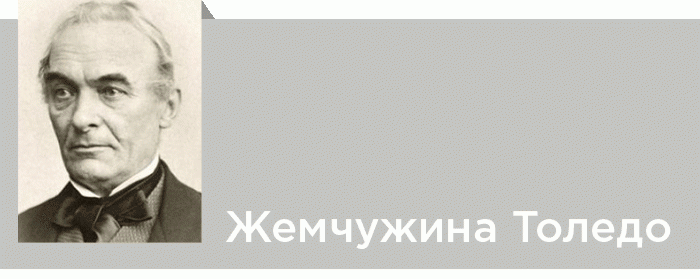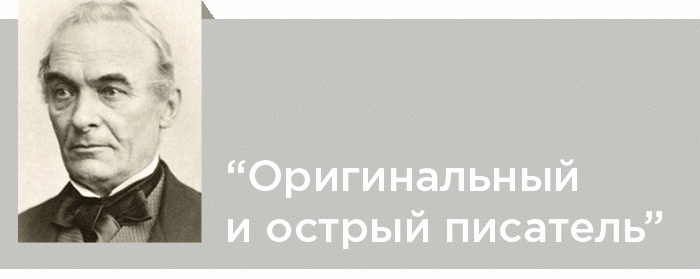О специфике жанра «Душ чистилища» Мериме
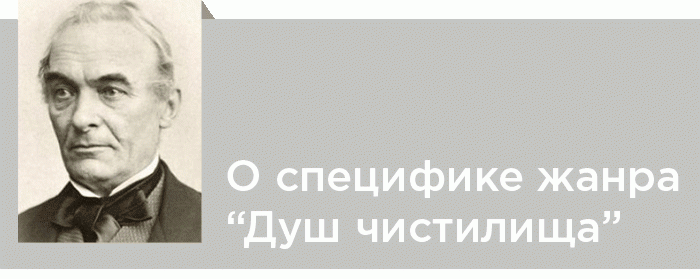
Н. С. Шрейдер
«Души чистилища» появились в
Между комедией Мольера (1665) и новеллой Гофмана (1812) единственным не только великим, но даже значительным произведением о Дон-Жуане была опера Моцарта (1787), где «гибель ветреного и распутного любовника впервые, по крайней мере музыкальными средствами, изображена как романтическая трагедия». В литературе первый романтический образ Дон-Жуана рождается как интерпретация образа оперы, но преображенного восприятием гофмановского героя — странствующего энтузиаста. Во Францию Дон-Жуан возвращается «с поколением 1830-х годов, где Фауст и Дон-Жуан господствуют, но эхо от сарказмов Мефистофеля слабее, чем от глумлений Дон-Жуана». И тут ощущается характерное для этого периода разнообразие. Сен-симонистская критика видит в нем нового человека, в котором воплотилась свобода, изменчивость послереволюционной эпохи, он жаждет освободить всех женщин. Стенио («Лелия» Ж. Санд, 1833) проклинает развративший его образец. Мюссе в лирическом монологе («Намуна», 1832) противопоставляет мольеровокому низменному распутнику вечного искателя, образ которого мог бы создать Шекспир, а Моцарту и Гофману он только привиделся. Готье в поэме «Альбертюс» (1831) констатирует, что «сердца бесплодны», «после Вертера пришел Дон-Жуан». Стендаль в концовке трактата «О любви» (1821), в
Основное отличие принято видеть в том, что легенда о Тенорио повествует о грешной жизни и наказании, а о де Маранья — о грешной жизни и длительном покаянии. Реальный прототип героя, впервые появляющегося в «Севильском озорнике» Тирсо, не найден. Существование Мигуэля де Маньяра засвидетельствовано портретом, биографией, вышедшей через год после его смерти, бумагами, поданными в
Новелла Мериме — первое художественно полноценное прозаическое повествовательное произведение, где появляется объективный образ Дон-Жуана. Мериме естественно опирается на байроновский роман — любимое свое произведение. Образ героя предстает в развитии, воспитанию его — пропорционально объему новеллы — уделено не меньше места. Но роман стихотворный, он строится на соотнесении повествования и лирического голоса, с тем щедрым обилием теснящихся мыслей, которое у великого романтика и любил, и осуждал Мериме. В новелле повествователь излагает строго отобранные факты с мнимо сочувственной интонацией, из которой сама собою рождается издевательская ирония. Благочестивый героизм отца выражен в том, что он вернулся после подавления восстания морисков «с шрамом на лице и большим количеством детей, захваченных у неверных. Он позаботился окрестить их и выгодно продал в христианские семьи». Вольтеровская традиция преобразуется в атмосфере иного художественного метода, ирония не организует сюжет, а уведена почти в подтекст. Повествователь не разит, он «заставляет читателя думать», соизмерять факты, которые излагает, с критерием гуманности XIX века. Последний нигде не декларируется, не воплощен в положительный образ, но присутствует в интонации, в «честной улыбке» повествователя.
В воинственности отца, в фанатическом благочестии матери выступает своекорыстность, низость сословия, давшего свое имя благородству, и еще настойчивее — пороки религии в ее крайней форме — испанском католицизме. Глубинное знание истории, сущности и разновидностей того, что он ненавидел, позволило Мериме динамически воссоздать атмосферу рубежа XVI-XVII веков, когда могущество Испании расшаталось, «вокруг лились потоки золота, звенели мечи и зловеще горело зарево инквизиции», когда «аристократия приходила в упадок, не потеряв самых вредных своих привилегий». Гордость отца от того, что король добавил к его гербу чашу, захваченную у мориска, голову которого он пробил до зубов; мольбы матери платить за мессы о ее душе; упражнения в рубке мавров и в молитвах — все воспитывает физическую храбрость и духовную беспомощность, нравственную трусость — свойства, которые, как показал Мериме уже в «Хронике», неумолимо ведут к утере основного свойства порядочного человека: ответственности перед собою, а не высшими силами. Интонация повествователя контрастирует с прямой речью отца и матери, не комментируемой, особо концентрирующей воздействие каждого.
Как значащий штрих, присущий литературе 1830-х годов, возникает картина в «жестком, сухом духе Моралеса». В скупом стиле Мериме она несет несколько функций: реалия дома XVII в.; трофей отца; зримое воплощение веры, жестокой и малодушной; мощное впечатление, врезывающееся в сознание и подсознание героя. Картине предназначена важная сюжетно-психологическая роль, и название ее служит заглавием новеллы. Мериме показывает, что ко времени поступления в университет в герое воспитана такая нравственная беспомощность, что он готов следовать за любой сильной личностью. Повествователь сталкивает две интерпретации Дон-Жуана. Образ дон Хуана у Тирсо, озорничающего, но пребывающего в страхе божьем, послужил материалом для местного колорита в психологии героя новеллы. Образ дона Гарсии идет от мольеровского героя, усиливается его бесстрашное аристократическое вольнодумство — и аморализм. Любовь у обоих героев новеллы — «заурядное занятие», однообразное саморасточение. Дон Гарсиа — следующая ступень цинического, предвзятого скептицизма вслед за Дарси в «Двойной ошибке», ведущего к прямой низости в таких эпизодах, как история с Фаустой, с деньгами, завещанными его другу капитаном. Опустошенность его еще отчетливее показывает, как жалок Дон-Жуан, следующий за доном Гарсией во всем, кроме единственного привлекательного: бесстрашия перед небом. Мериме, всегда сочувствующий национально-освободительной борьбе, посылает друзей в испанскую армию во Фландрию.
Со свойственной Мериме бесспорностью психологии обрисована неизбежность раскаяния Дон-Жуана, лишившегося дона Гарсии. Все стремительнее концентрируется то, что подготовило обращение: наглый и втайне суеверно-трусливый вызов богу; два дня в доме родителей, в атмосфере детства, где возрождается с новой силой впечатление от картины с душами чистилища. Повествователь не нарушает стиля легенды, но рисует не чудо, а психологически достоверную перемену: самую сцену покаяния он составляет из элементов, уже ранее мучивших суеверного богохульника: Гарсиа, продавшийся дьяволу; капитан, завещания которого он не выполнил; змея, особенно поражавшая его на картине. Обращение распутника — типическая тема испанской литературы XVII века, которую Мериме превосходно знал. О чуде — встрече с собственными похоронами — рассказано с привкусом этнографического колорита: ученый понимает, что для испанца XVII века «чудеса составляют часть атмосферы, в которой он живет». И новелла отнюдь не кончается. Мериме, в противоположность благочестивым легендам, уделяет покаянию несравненно меньше места, чем греховой жизни героя, и рисует его как окончательное падение. Первый акт раскаяния — донос духовнику на Тересу, которую уже ранее он предал как любовник. Далее — эпизод с ее братом, когда мгновенное возрождение человеческой чести стоит ему бессмысленного унижения — епитимьи за дуэль. И, наконец, поистине гениальный штрих, взятый из действительности: завещание Дон-Жуана похоронить его на пороге церкви, чтобы каждый топтал его ногами. Повествователь сообщает об этом с мнимым сочувствием — как о военных подвигах, как о сговоре настоятеля с коррехидором покрыть убийство. Но унизительная надпись «Здесь покоится худший из людей...» у лаконичного Мериме приводится дважды — в начале и конце новеллы, и комментарий брезгливо ироничен. Тон ученого обнажается в концовке — в сообщении, что картинами, висевшими в севильском госпитале, ныне любуются в галерее господина маршала Сульта.
Образ Дон-Жуана в новелле Мериме, по существу, впервые обрел историко-социальную конкретность, завоеванную романтизмом и реализмом в этот период. По мнению Б. Г. Реизова, в 1830-е годы символы «освободились» от истории. Фауст, Каин, Прометей стали бесплотными образами, живущими вне времени и пространства. Антикварий в «Шагреневой коже» похож на Мефистофеля, а героем «Эликсира долголетия» Бальзак сделал Дон-Жуана. Это и верно и неверно. Книжное и фольклорное происхождение героев характерно для 1820-1840-х годов, и сочеталось оно с небывалой свободой обращения с заимствованным материалом. Мир искусства, все наследие вбиралось тогда романтиками и реалистами как равноправная часть реальности, которой пользовались с вновь обретенной счастливой свободой художников и мыслителей, освободившихся от догмы. Литературная легенда давно уже ушла от «агиографической константы», от героя, лишенного развития, «психологического пространства». Но в XIX веке необязательным становится и сюжет легенды. В байроновском «Дон-Жуане», как и в «Эликсире долголетия», от легенды остался только интерпретированный по-новому психологический тип, но ни одного элемента фабулы. В романе Байрона сюжетный герой пребывает в несколько условном XVIII веке, перекликаясь с лирическим героем, деятельно живущим в подлинном XIX столетии. В 1830-е годы образы обретают подлинную социально-историческую плоть. «Эликсир долголетия» (1830) содержит колорит эпохи Возрождения, «горячие тициановские краски». Мериме в «Душах чистилища» создает новый жанр, позже продолженный А. Франсом. Это жанр историко-легендарной новеллы с атеистическим подтекстом, выраженным в чуть пародийной стилизации. Местный колорит, в который входят и чудеса, воссоздан скупо и во всей его подлинности.
Л-ра: Проблемы метода, жанра и стиля. Зарубежная литература. Сборник научных статей. – Днепропетровск, 1975. – Вып. 2. – С. 33-40.
Произведения
Критика