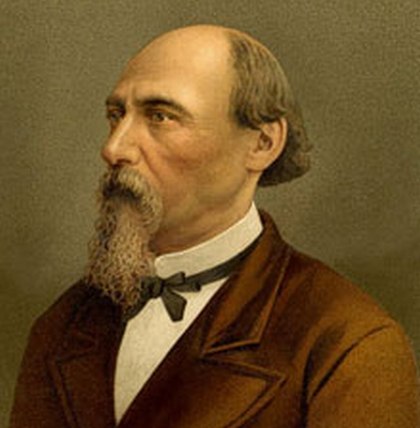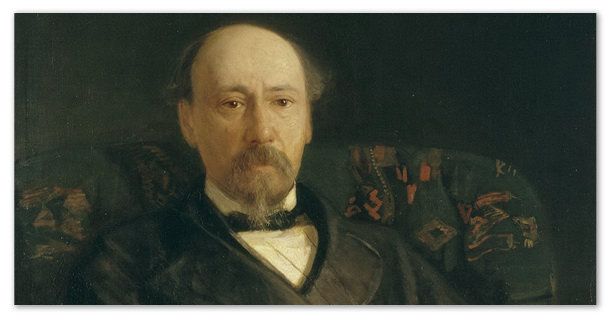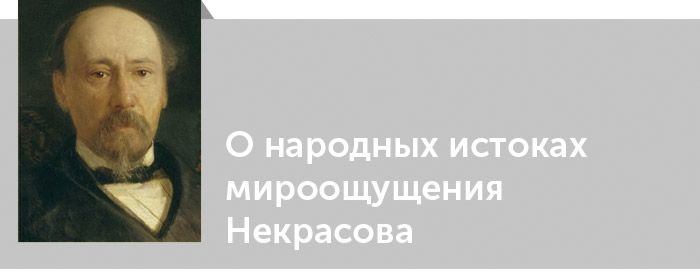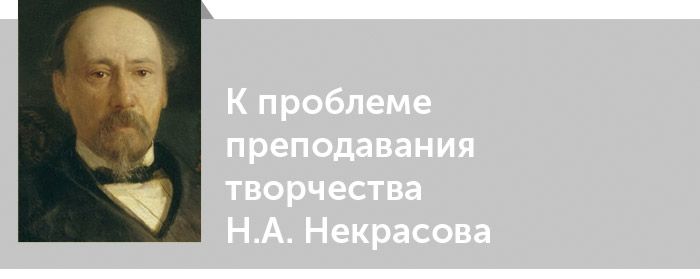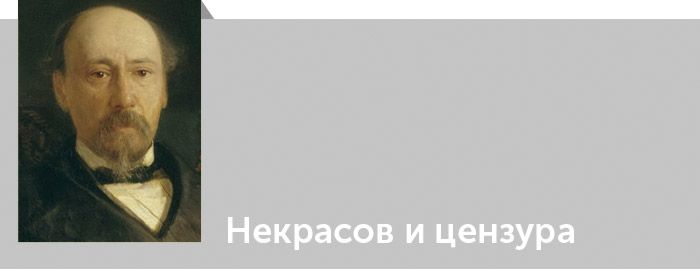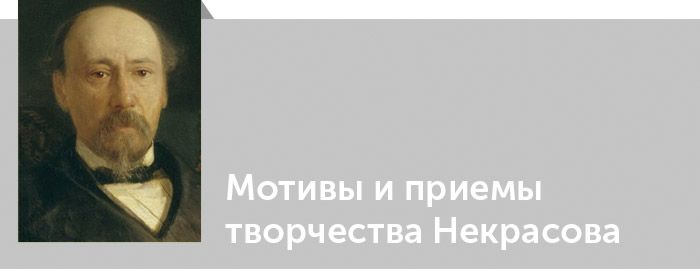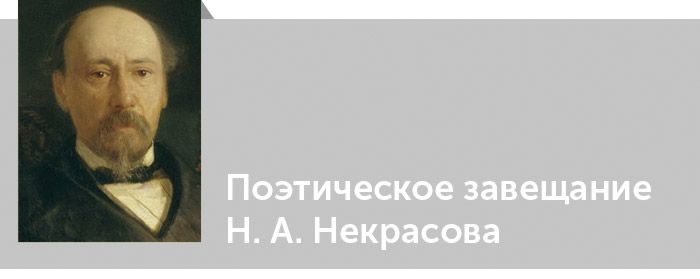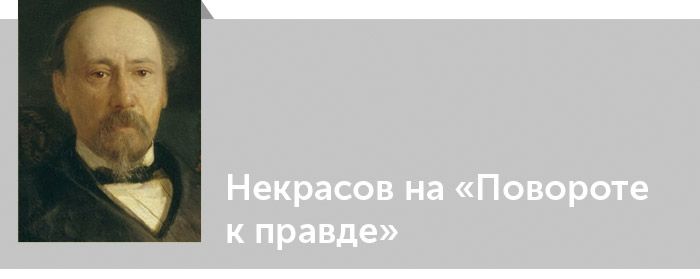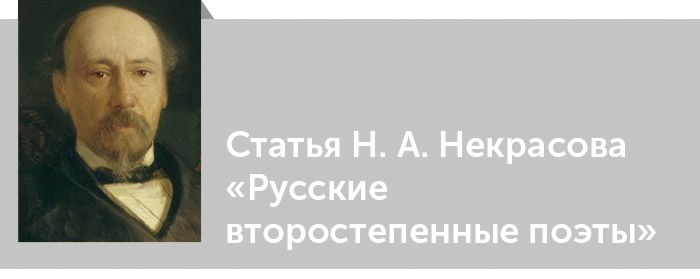Фольклорные и христианские акценты в поэме Н. А. Некрасова
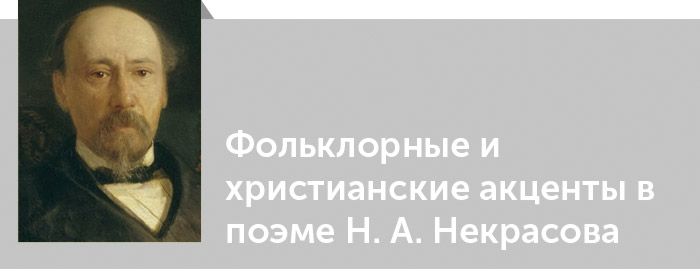
УДК 821.161.1–1Нек.09
К.О. Титянин
Фольклорные и христианские акценты в поэме Н. А. Некрасова «Мороз, красный нос»
Автор статті подає опис семантичних відносин між фольклорними та християнськими елементами твору М.О.Некрасова. Аналізуються такі аспекти цієї теми: “доля”, “трагічне”, “природа — особистість”, “поганське”, “християнське”.
На думку автора християнські елементи підпорядковані поганським.
Ключові слова: фольклор, християнство, Н.О.Некрасов.
Summary
The author of the article describes semantic relations between folklore and christian elements in Nekrasov’s poem. The author of the article investigates such aspects in this connection: “destiny”, “tragically”, “a nature — the person”, “the Pagan — the Christian”. The Christian elements are subordinated pagan consciousness.
Key words: the folklore, Christianity, N.A.Nekrasov.
Фольклорные и христианские смысловые акценты могут соотноситься в идейно-художественной структуре поэмы Некрасова и влиять на ее трактовку. Характерные случаи их соотношения анализируются в данной статье, при рассмотрении поэмы как некой системы смыслов, исходящих от организатора повествования.
Повествовательная структура поэмы достаточно сложна: субъективноисповедальный тон посвящения сменяется основной в поэме объективноповествовательной манерой, стилизованной под народную речь; в 3-4 главках первой части основной становится ораторско-публицистическая интонация; во второй части преобладает слово Дарьи, интонация которого «колеблется <…> между песней и повествовательным сказом» [5, с. 590-591], как говорил К.И.Чуковский об общем свойстве стихотворной речи Некрасова. Единство в этой структуре — только в позиции организатора повествования, и все смысловые акценты принадлежат ему.
Единство такого рода сразу ощутимо для читателя благодаря общей тональности произведения. Во многом это преобладающая тональность всего творчества поэта. В нем, по удачному выражению Ф.М.Достоевского, преобладает тон «страстный и страдальческий» [2, с. 111]. Напряженность основного тона может граничить с декларативностью, так что Б.М.Эйхенбаум не боялся говорить (вслед за С.А.Андреевским) даже об отсутствии «наивности» у Некрасова - качестве противопоказанном лирической поэзии [6, с. 57]. Однако, на наш взгляд, когда Некрасов (повествователь или рассказчик в его поэмах, лирический субъект в других жанрах) придерживается конкретной, предметной образности, то лиризм, возникающий на этой основе, лишен всякого напряжения. Он может, например, с удовольствием подчиняться мировосприятию ребенка, почти сливаться с ним в его наивности. В поэме «Несчастные» (1856) его автобиографический «бедный мальчик» «Глядит, как чаши круговые / Пустеют быстрой чередой; / Как на лету куски хватают / И рот захлопывают псы, / Как на тени растут, кивают / Большие дядины усы…» [3, т. IV, с. 30].
Однако в поэме «Мороз, Красный нос» (1863) господствует как раз тот самый «страдальческий» тон идеологического напряжения, который все же не дает воспринимать поэму в декларативном ключе потому, что авторское напряжение «подтверждено» теми сценами, где лиризм вызван конкретной образностью. Например, тон свободного любования ощутим в эпизоде, когда «Хозяйка встает / И Проклу из белого жбана / Напиться кваску подает. / Гришуха меж тем отозвался: / Горохом опутан кругом, / Проворный мальчуган казался / Бегущим зеленым кустом» [3, т. IV, c. 106].
В целом, тон идеологического напряжения способен трансформировать, подчинить себе не только фольклорные и христианские концепты, но всякое вообще культурное образование, оформленное в слове. Позиция поэта достаточно сдержанна. Например, занимающий существенное место христианский идеологический слой в поэме «Несчастные» (1856) трансформируется так, что он не противостоит основным для автора демократическим ценностям, но и не сливается с ними полностью. Некоторая неясность в данном случае потому и остается, что господствует в некрасовской поэме декларативная тональность. (Этот вопрос требует развернутого рассмотрения, что мы и предполагаем сделать в отдельной статье).
Довольно хорошо изучено, как меняется у Некрасова аутентичный фольклор под влиянием его демократической идеологии. Достаточно указать на во многом образцовое исследование К.И.Чуковского «Мастерство Некрасова» [5, с. 410-648]. Мы же, сопоставляя фольклорные и христианские смысловые подчеркивания в данной поэме Некрасова, предполагаем, что это позволит выйти к иному типу проблематики, не социально-идеологическому, а философскому.
Как отмечали комментаторы поэмы «Мороз, Красный нос», она — «одно из самых «фольклорных» произведений поэта» [3, т. IV, с. 559], но «трудовая фабула» произведения не столь характерна для традиционного фольклора и ею Некрасов «по-своему как бы обогащает и дополняет фольклорную эстетику» [3, т. IV, с. 559]. Нужно говорить даже о своеобразной трудовой философии некрасовских героев, которая занимает главное место в идейной структуре произведения. Уяснение её и позволит понять роль христианских и фольклорных смысловых единиц в поэме.
О русской крестьянке вообще, «типе величавой славянки» повествователь говорит: «В ней ясно и крепко сознанье, / Что все их спасенье в труде» [3, т. IV, с. 81].
Это не только обобщающее суждение о труде, но и своего рода идеологема, которая в этом качестве способна оживить и христианский смысл слова «спасение». Смысл «труда» в этом случае явно расходится с христианскими установлениями. Ведь категории «труд» и «спасение» идеология нового Завета разводит по разным иерархическим уровням. В границах одного евангельского стиха они даже и не встречаются, и уже одно это свидетельствует, что «труд» не рассматривается как причина «спасения». Для спасения Бог «избирает» человека «от начала через освящение Духа и веру» [2 Посл. к Фесал., 2: 13]. А если апостол Павел и говорит о необходимости труда («Кто не хочет трудиться, тот и не ешь» [2 Посл. к Фесал., 3: 10]), то обращается при этом к тем из братьев, кто «поступает бесчинно», то есть к почти мирским людям, для которых важен даваемый христианами пример благочестия во всем, в том числе и в повседневном труде. Но сам по себе труд — только мирская обязанность, спасение же возможно лишь через «веру» [Ев. от Марка, 16: 16].
В Евангелии ценностное разделения «труда» и «спасения» имеет характер вполне определенный. Но в сфере народной трудовой этики эта определенность заметно теряется.
Казалось бы, хорошо трудиться — фундаментальная жизненная необходимость, которая кладётся в основу народного мировоззрения. И действительно, народ закрепляет это положение в незыблемой однозначности пословицы «Без труда нет добра» [1, т. IV, с. 436]. Но незыблемость эта мнимая, и диалектическая подвижность мысли этой пословицы в народном сознании такова, что ее вообще ничто не ограничивает, кроме самой жизни. Поэтому и возможны такие ее диалектические переходы: «Человек рожден на труд» [1, т. IV, с. 436] (тут появляется оттенок неизбежности, принудительности труда в жизни) — «От работы не будешь богат, а будешь горбат» [1, т. IV, с. 6] (а тут труд почти обессмыслен, вероятно, из-за той же его принудительности). Возможны и совмещения разных содержательных слоев: труд (физический) сопоставлен с трудовыми актами духовного порядка в пословице «Работай — сыт будешь; молись — спасешься; терпи — возмилуются» [1, т. IV, с. 5]. Эта пословичная триада довольно свободно ставит (пусть не прямо, а опосредованно) «труд» и «спасение» в один смысловой ряд.
Для Некрасова, таким образом, была возможность опираться и на христианский, и на фольклорный смыслы «труда», но он, как мы хотим показать, выбирает особый путь, сложность и противоречивость которого ставит его все же ближе к свободной диалектичности народной мысли.
Мысль о труде как основе крестьянской жизни звучит в поэме очень настойчиво.
В разговорах соседок после похорон Прокла, кроме выражения сочувствия, есть лишь одна информативная фраза: о том, «Что Дарье работы прибудет» [3, т. IV, с. 90]. Слова повествователя об умершем Прокле выделяют именно его избавление от работы: «Уснул, потрудившийся в поте! / Уснул поработав земле! / Лежит, непричастный заботе, / На белом сосновом столе.» [3, т. IV, с. 85]. И даже при изображении идиллических картин семейного счастья, упоминается, что возможны они либо после тяжелого труда, когда рожь уже сжата и «полегче им стало» [3, т. IV, с. 106] (главки XXXIII, XXXIV), либо в праздник (главки XIX, XXIII), тоже оплаченный трудом: «И труд ей несет воздаянье: … На праздник есть лишний кусок» [3, т. IV, с. 81]. Явно авторское осуждение по отношению к старосте, у которого в речи на похоронах Прокла прорывается лишь хозяйское холодное удивление его выносливостью в труде: « Благодушен ты был, / Жил честно, а главное: в сроки, / Уж как тебя Бог выручал, / Платил господину оброки / И подать царю представлял!» [3, т. IV, с. 90]. Как работники соотнесены Прокл и его конь Савраска, который «С хозяином дружно старался, На зимушку хлеб запасал» [3, т. IV, с. 88]. И Прокл тоже «К возу на горочке сам припрягается», [3, т. IV, с. 100]. Это сопоставление коня и человека делается у Некрасова уважительно и сочувственно. Но с безнадежной и тоскливой иронией звучат слова юродивого Пахома, говорящего родственникам Прокла, что его похоронами он «Всем разом работу вам дал» [3, т. IV, с. 84], ведь слова эти обращены к тем, у кого работы и так хоть отбавляй. Для Некрасова эта горькая ирония допустима потому, что его сочувствие своим героям несомненно.
Но материал поэмы в целом дает возможность истолковать и смысл этой иронии, и сопоставление коня и человека несколько иначе.
Обратим внимание на отношение некрасовских героев-тружеников с природным и социальным окружением, на роль христианского элемента в их мировосприятии. В поэме показана пассивная враждебность природного окружения по отношению к крестьянину. Лес «безучастно внимает» «стонам» Дарьи [3, т. IV, с. 92], это лес, «влекущий неведомой тайной», но и «глубоко бесстрастный» [3, т. IV, с. 109] ко всему, а значит, и к ней. Солнце «кругло и бездушно, / Как желтое око совы, / Глядело с небес равнодушно / На тяжкие муки вдовы» [3, т. IV, с. 92]. (Сходное отношение природы и человека переживает и другая некрасовская героиня княгиня М.Н.Волконская, пережидающая вьюгу во время поездки в Сибирь к мужу: «По прежнему вьюга крутится. / Какое ей дело до наших скорбей …/ И я равнодушна к тревоге твоей / И к стонам твоим непогода! / Своя у меня роковая тоска, / И с ней я борюсь одиноко» [3, т. IV, с. 173]). Враждебен Дарье и Мороз, Красный нос, который у Некрасова представлен не как сила, сочувствующая истинному (низкому) герою в фольклорных произведениях, но как существо, равнодушно играющее своей силой. Мороз одинаково «любит» заморозить и «недоброго вора», и просто всякого «конного и пешего». Автор даже усиливает эту черту своеобразным некрофильством Мороза, который говорит: «Люблю я в глубоких могилах / Покойников в иней рядить, / И кровь вымораживать в жилах, / И мозг в голове леденить.» [3, т. IV, с. 104]. Но особенно важно упомянуть в этом ряду пассивно враждебных человеку природных сил «рожь», то есть стихию, отчасти очеловеченную трудом человека. Показательно, что еще до болезни мужа, во времена благополучия крестьянской семьи, рожь, которую нужно сжать Дарье, представляется ей во сне пугающей «грозной ратью» [3, т. IV, с. 96]. И важно в данном случае не то, как субъективно истолковывает это Дарья (предвещание будущего вдовства, когда ей придется жать эту рожь одной), а то, что рожь, объект и продукт ее труда, вообще может выступать враждебной ей силой.
У природных сил в сказочном фольклоре нет безотчетно благодушного сочувствия герою, так как он «платит» за это сочувствие соблюдением моральных правил. (В данном случае мы не учитываем особенности лирических народных песен, которыми тоже насыщена поэма, ведь эпическое начало в произведении явно преобладает, и главки с песенной интонацией сюжетно подчинены основной повествовательной линии. Кроме того, природа в лирической песне не самостоятельный объект, она вся насквозь очеловечена).
Однако, анализируя отношение человека и природы в сказке, Ю.И.Юдин выделяет еще и момент «непосредственного ощущения жизни как высочайшей ценности», «сочувствия всему живому» [7, с. 149] у того сказочного героя, который «отпускает щуку, на последний грош выкупает кошку или собаку, спасает от мучений змею» [7, с. 150]. Тут исследователь, на наш взгляд, неоправданно модифицирует этику народной сказки, оценивает ее с позиций несвойственной ей морали, отчасти близкой к христианской. Не случайно, подтверждения этой своей мысли Юдин ищет в позиции протестантского теолога и философа Альберта Швайцера, отстаивавшего «благоговение перед жизнью». Кроме того, упомянутая исследователем сказка о герое, выкупающем кошку, в системе сказочного фольклора выглядит иначе. Сходная с ней сказка «Иванушка-дурачок» (в сборнике А.Н.Афанасьева «Народные русские сказки № 400) показывает героя, который и сочувствует всем, и в то же время убивает лошадь, которую он привел поить (желая ей угодить, он солит воду, которую лошадь пить не может, что и вызывает его внезапную злобу). Этот Иванушка-дурачок как будто и похож на христианского юродивого, но его никак не мотивированная жестокость с этим образом не вяжется. Понятно, что у героя этой сказки нет «благоговения перед жизнью», но и в первой сказке поведение героя можно объяснить естественным и прямолинейным следованием моральным нормам. Исторически же в свете работы В.Я Проппа «Исторические корни волшебной сказки» (1946) подоснову обеих этих сказок нужно видеть в тотемной связи животного и человека, связи, не исключавшей жестокости человека.
Сказочный герой «оплачивает» сочувствие сил природы «правильностью» поведения. Его высокие моральные качества — лишь явное выражение скрытой в содержательной структуре сказки заслуженности героем его магической оснащенности. И только исследователь может выявить родство человека с тотемным предком, устанавливаемое в трудно переносимом обряде инициации, родство, которое и дает магическую силу сказочному герою. Такая исследовательская задача была решена в упомянутой работе Проппа. А открыто о «плате» за родство с землей речь идет в былинах с архаическими сюжетами о Святогоре и Вольге. В них сила крестьянина Микулы Селяниновича обусловлена именно его земледельческим трудом, дающим ему даже власть над землей.
Однако некрасовским героям даже их напряженный земледельческий труд не даёт власти над природными силами. Для Дарьи и Прокла «заслуженность» перед силами природы и вообще внешними силами — качество морально возвышенного порядка, ведь их трудовая мораль закрывает для доступ в ту, исторически более раннюю сферу, где фольклорный «герой достигал успеха любыми средствами» [4, с. 188]. А вот Мороз, по сути, и принадлежит этой внеморальной первобытной сфере, проявляет себя, как уже говорилось, в качестве безотчетно злой силы.
Получается, что Дарья и Прокл, с одной стороны, и Мороз — с другой, принадлежат разным историческим слоям фольклорного сознания. Не удивительно поэтому, что и обращение крестьян к природным силам в случае беды бесплодно. Ворожеи «шепчут» над заболевшим Проклом, продевают его «сквозь потный хомут», спускают «в пролубь», кладут «под курячий насест» [3, т. IV, с. 89], но все это не дает ему облегчения. А если природные силы и помогают ей, то это помощь негативного свойства: ряд примет лишь ясно предвещает Дарье близкую смерть мужа. Она видит, как падает «звезда золотая» с «Божьих небес» [3, т. IV, с. 100], что по народным представлениям означает смерть какого-либо человека, а, придя к монастырю, замечает ворона, который «сидит на кресте золоченом» [3. т. IV, с. 101], что тоже является знаком близкой смерти кого-либо в данном селении.
Враждебность окружения природного по отношению к крестьянину дополняется и враждебностью социального окружения, что более привычно для некрасовской поэзии, но в данной поэме занимает не главное место. Повествователь обобщенно, в ораторско-публицистической манере, говорит о «грозной доле» [3, т. IV, с. 79] русской крестьянки. А в тревожных мыслях Дарьи у гроба мужа выстраивается ряд народно-поэтических по стилистике образов, своей сопоставленностью уравнивающих значение природных и социальных сил, одинаково враждебных ей: «серый волчище» — «черная туча» — «стрела громовая» — «рекрутский набор» — «голова у нас вор» [3, т. IV, с. 98].
Но безысходность положения некрасовских тружеников еще более усилена. Их трудовая этика противопоставляет их также и этике христианской. Ведь для таких, как Дарья, «Все их спасенье в труде» [3, т. IV, с. 81] и при этом «Не жалок ей нищий убогий — / Вольно ж без работы гулять» [3, т. IV, с. 81]. Смысл этих слов о русской крестьянке вообще и о Дарье противоречит очень важной основе «спасения» в христианстве «не от дел, чтобы никто не хвалился» [Посл. Павла к Ефес., 2: 8-9] , а лишь по милости Бога.
Языческие, а не христианские мотивировки ощутимы и во всех других ее действиях. Когда Дарья в случае болезни мужа обращается к ворожеям, то тут магизм проявляется прямо, то есть как требование к природным силам. Ведь логика магических действий предполагает, что правильное выполнение определенных условий должно победить болезнь. Однако и в смиренную просьбу Дарьи к Богородице об исцелении мужа вмешивается оттенок требования. Во-первых, это «средство» (поход в отдаленный монастырь к «явленной иконе» Богородицы) она ставит в тот же ряд магических средств (продевать «сквозь потный хомут», класть «под курячий насест» и т. п.) как последнее и наиболее действенное. Даже когда Дарья отделяет силу Богородицы от «нечистой силы» («Слышу, нечистая сила залотошила, завыла …Что мне до силы нечистой? Чур меня! Деве пречистой Я приношенье несу», [3, т. IV, с. 99]), то и тут языческая «оговорка» «чур» («чураться» означает «ограждаться словом чур» [1, т. IV, с. 615], из чего ясно, что слово это используется именно в магической функции, а в народном употреблении оно и означает «условие, уговор, запрет, требование» [1, т. IV, с. 615]) свидетельствует не о принципиальной противопоставленности языческого и христианского в ее сознании в данном случае, а только о большей силе и действенности Богоматери. А во-вторых, Дарья ясно выражает упрек Богородице за несоблюдение, как ей кажется, определенных «условий»: «Я ль не молила царицу небесную? /Я ли ленива была? / Ночью одна по икону чудесную /Я не сробела — пошла.» [3, т. IV, с. 99]. Ведь если ее просьба «законна», подразумевают эти ее слова, то должна быть выполнена. Такой же смысл заключают в себе и другие ее, пусть смиренные, но все же упреки. О своих горьких слезах вдовы Дарья говорит с бессильным укором: «Что же вы Господу нужны, Чем ему дороги вы?» [3, т. IV, с. 97]. И далее: «Милостив буди к крестьянину бедному, / Господи! Все отдаем, / Что по копейке, по грошику медному / Мы сколотили трудом!» [3, т. IV, с. 100]. «Сколоченное трудом» Дарья использует тут как естественное для нее мерило ценностей, как нечто сопоставимое с «милостью» Господа. Поэтому ее упреки Богу не сравнимы с упреками Господу ветхозаветных пророков (например, Иеремии [20: 7-9; Ионы 4: 1-3]), которые делались в совсем иной атмосфере. Пророки позволяли себе это из-за ощущения предельной близости с Богом, служение которому составляло весь их духовный горизонт.
(Заметим в скобках, что Некрасов как организатор повествования склонен «не замечать» различия «языческого» и «христианского», так как они для него и есть примета подлинно фольклорного текста. А иначе он бы внес свои коррективы, как он и делал, когда осуждал, например, доверие к нелепостям народного лечения «под медведем» [3, т. IV, с. 89] и еще более определенно к «бедокурным» [3, т. V, с. 137] приметам у народа в «Кому на Руси жить хорошо». Показательно также, что в этой поэме для законченного фольклорного рассказа «убогой старицы» о «Ключах от счастья женского» Некрасов значительно переосмысляет эпизод из «Плача о писаре»
И.А.Федосовой (см. об этом: [3. т. V, с. 667]), но оставляет нетронутым в нем полное равенство в народном сознании роли «Бога» и мифологической «рыбы»: «Ключи от счастья женского, / От нашей вольной волюшки / Заброшены, потеряны / У Бога самого! <…> / Пропали! Думать надобно / Сглотнула рыба их…» [3, т. V, с. 186-187]).
Трудовая этика некрасовских героев в поэме «Мороз, Красный нос» ставит их в совершенно особое положение. Только предельное напряжение в труде может дать им то спокойное достоинство, при котором «грязь обстановки убогой / К ним словно не липнет» [3, т. IV, с. 80]. Но цена их человеческого достоинства оказывается слишком высокой, так как они не видят поддержки не только в мире социальном, но и в духовном (народномифологическом и христианском). Все это и придает некрасовским крестьянам трагичность с почти экзистенциальным оттенком. Между тем, народному сознанию безысходность личностного трагизма чужда, ведь надличностное сознание — основа фольклора. Но по отношению к героям данной поэмы сама жизнь (судьба) как бы иронизирует над их честным и напряженным трудом.
Мировоззренческая отправная точка зрения автора все же не имеет такого космического характера. Она выражена в словах: «Века протекали — все к счастью стремилось, / Все в мире по нескольку раз изменилось, / Одну только Бог изменить забывал / Суровую долю крестьянки» [3. т. IV, с. 79]. Исходное положение в этих словах — предельно абстрактно выраженная мысль о естественности прогресса в обществе, то есть мысль, которую можно назвать почти расхожей в умственной атмосфере России 60-х гг. Например, о «преуспеянии, или, как теперь говорят, прогрессе» рассуждает в необязательном, «светском» разговоре Лужин в «Преступлении и наказании» (1866) Достоевского. А для близкого Некрасову Н.Г.Чернышевского представление о прогрессе как о признаке нормального развития было существенно как по отношению к естественному миру («Антропологический принцип в философии», 1860), так и к миру историческому («О причинах падения Рима», 1861; глава «Общий характер элементов, производящих прогресс» из «Очерка научных понятий по некоторым вопросам всеобщей истории», 1888).
В контексте поэмы это означает, что для Некрасова важен был перенос смыслового акцента на неестественность тех общественных условий, в которых живут его Дарья и Прокл. Но образная система поэмы, как мы стремились показать, представляет трагизм их положения более широко, скорее, как борьбу с судьбой вообще. Не случайны «оговорки» Некрасова: частое употребление слова «доля» (4 раза) в границах 3-ей главки, из которой цитировались слова о «суровой доле крестьянки». Закономерно и прямое называние в этой главке «женщины русской земли» «случайной жертвой судьбы» [3, т. IV, с. 79].
На фоне этой безличной судьбы и нужно оценивать роль христианских элементов в идейной структуре поэмы. Как для Дарьи христианское растворено в языческом, так и для повествователя слово «Бог» во фразе «Одну только Бог изменить забывал / Суровую долю крестьянки» [3, т. IV, с. 79] употребляется, скорее, как замена слова «судьба». Ведь для полемики с клерикализмом у Некрасова есть куда более действенные средства в его полупублицистической поэзии. И хотя полемика с социально-идеологической ролью христианства все же ощутима в тексте поэмы, но на фоне главного противостояния с судьбой она выглядит лишь как смысловой обертон в идейной структуре произведения.
Отметим и некоторые вариации рассмотренных выше тем в поэме “Кому на Руси жить хорошо» (1866-1876), уделяя внимание только части с названием «Крестьянка», сходной по содержанию с «Морозом, Красным носом». Если сравнивать основной тон обеих поэм, то в «Морозе…» он кажется перенапряженным по отношению к смягченной общей тональности «Кому на Руси жить хорошо», которая открывает больше возможностей для анализа. Возможно поэтому прежние темы несколько углубляются: человек и животное в «Крестьянке» еще больше сближаются в своей страдательной роли, зато самосознание крестьянина Савелия, размышляющего о «труде» и «терпении», поэт показывает более развитым, чем у Дарьи и Прокла.
В поэме опять встречается мотив противостояния природы крестьянину. Это «бесхлебица» в «трудный год», описывая которую, Матрена Тимофеевна хотя и упоминает о ее причинах (например, об Антихристе), но никак не оценивает их: это просто «беда», как бы и не требующая никакого комментария.
Вместе с тем, образно подчеркнуты в поэме моменты равенства человека и животного в состоянии страдания: голодная волчица, с которой сравнивает себя Матрена Тимофеевна во время бесхлебицы, «Глядит, поднявши голову, / Мне в очи … и завыла вдруг! / Завыла, как заплакала» [3, т. V, с. 168]; и еще: «У поваренка вырвался / Матерый серый селезень, / Стал парень догонять его, / А он как закричит! / Такой был крик, что за душу / Хватил — чуть не упала я, / Так под ножом кричат» [3, т. V, c. 179]. Сама по себе такая ситуация более чем привычна в крестьянской жизни, но этот крик селезня испугал Матрену Тимофеевну неожиданно обнажившимся для нее родством между ее собственной судьбой и уделом этой птицы.
Существенно в «Кому на Руси жить хорошо» и развитие темы «труда». Савелий, «богатырь святорусский», весь почти смысл труда иронично сводит к необходимости «терпеть» «каторжную» крестьянскую работу на помещика: «А потому терпели мы, / Что мы — богатыри. / В том богатырство русское» [3, т. V, с. 149]. В этой иронии Савелия смешаны одновременно и трагизм, и злость. Мужик, по его словам «И гнется, да не ломится, / Не ломится, не валится… / Ужли не богатырь?» [3, т. V, с. 150]. Иронизирование это совершенно исключает для него христианское восприятие «терпения», ведь в Новом Завете «терпение» не просто высокая христианская добродетель, но одна из черт высшей христианской любви, которая, по выражению апостола Павла, «долготерпит» [1 Посл. к Коринф., 13: 4]. И даже перед самой смертью, как бы отрицая свои недавние смиренные молитвы за «страдное русское крестьянство», Савелий «злился, привередничал», говоря «Как вы ни бейтесь, глупые, / Что на роду написано, / Того не миновать!» [3, т. V, с.165], то есть не миновать русскому крестьянину выбора между «кабаком, острогом да каторгой». Причем, в этих его провиденциальных определениях судеб русского крестьянина легко смешиваются (а значит, и уравниваются) абстрактное провидение и личностная природа христианского Бога.
Свободные и дерзкие высказывания Савелия по общему умственному настрою вполне сопоставимы с тем, что говорил о терпении русского крестьянина А.И.Герцен в письме к Т.Карлейлю. Английский историк и философ искренне считал добродетелью русского народа его «талант повиновения». На что Герцен остроумно отвечал так: «’Всякая власть от Бога’, — сказал ап. Павел, а сам был мятежный гражданин римский, богохулец Дианы Ефесской, <…>, казненный Цезарем именно за то, что он у него не находил достаточно развитым талант повиновения” (письмо к Т.Карлейлю от 14 апреля 1855 г.).
Итак, соотношение фольклорной и христианской идеологий, как мы стремились показать, выявляет связь с проблематикой философского типа, с категориями «трагическое», «судьба», «природное — человеческое», «языческое — христианское».
Литература
1. Даль В.И. Словарь живого великорусского языка. — М., 1956.
2. Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: В 30 т. — Т. 26. — Л., 1978..
3. Некрасов Н.А. Полн. собр. соч. и писем: В 15 т. — Л., 1981-84.
4. Пропп В.Я. Русская сказка. — Л., 1984.
5. Чуковский К. Мастерство Некрасова. 2-е изд. — М., 1955.
6. Эйхенбаум Б. Некрасов //Эйхенбаум Б. О поэзии. — Л., 1969. — С. 35-74.
7. Юдин Ю.И. Мотивы и роль природы в русском фольклоре // Художественное творчество: Человек — природа — искусство. — Л., 1986. — С. 146-160.
Стаття надійшла до редколегії 14.09.2005