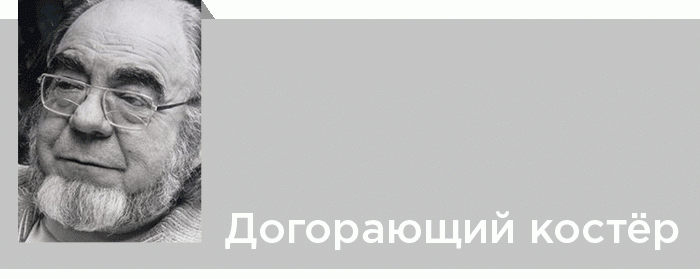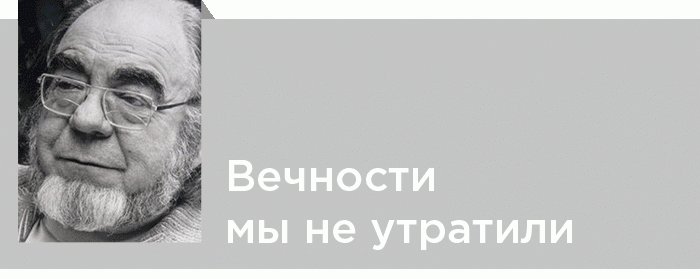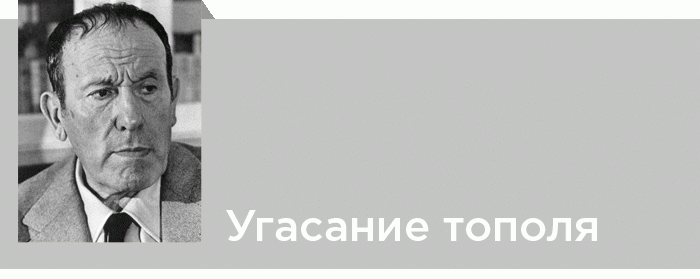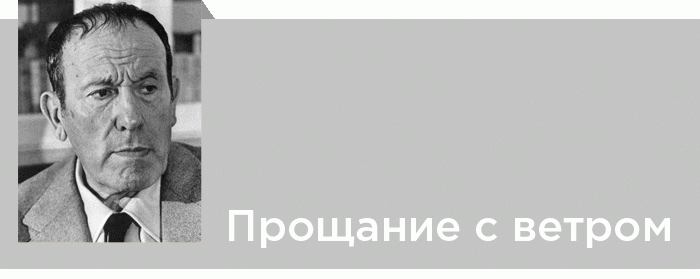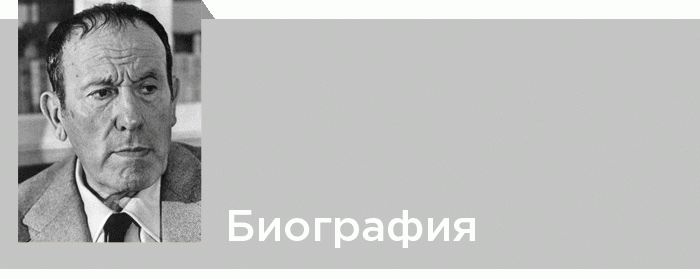Границы герметизма в творчестве Рене Шара

Т. В. Балашова
Творческая манера Рене Шара (René Char, род 1907) кажется едва ли не контрастной по отношению к манере Поля Элюара: если Элюар (особенно последних десятилетий) стремился к поэтической ясности, даже касаясь самых сложных вопросов нашей тревожной исторической эпохи, то Рене Шар порой как бы «шифровал ясность» — поэтически усложненно выражая то, что для него самого было отчетливо, бесспорно. Но эти два пути философской лирики Франции не должны рассматриваться в качестве антагонистических. Влияние модернистской эстетики на поэтику Рене Шара было значительным и вовсе не ограничено каким-либо одним периодом, но творчество Рене Шара, как явление целостное, обнаруживает достаточно точек соприкосновения с различными явлениями реалистической поэзии Франции, и принципиально важно видеть эту перспективу.
В отличие от Сен-Жон Перса, Пьера-Жана Жува или Арагона, Рене Шару, как и Полю Элюару, чужды эпические интонации, поэзия укрупненных эпических форм. Им достаточно как бы остановить мгновение, чтобы разом — не набрасывая широких картин, не прибегая к историческим реминисценциям — увидеть закон бытия. Причем и Поль Элюар, и Рене Шар — лирики философского склада, не желающие абстрагироваться от реальных мгновений и примет жизни. У. Р. Шара при этом, пожалуй, выше и степень абстракции, и степень конкретности. Такие «ножницы» создавали дополнительные трудности, усиливавшие герметичность его поэзии.
Каков же тот код, на основе которого Шар шифровал свою любовь и ненависть, свою веру, что «надежда — это язык активности, единственная иллюзия, которая может быть претворена в движение добра?»
Первые книги Р. Шара вполне представительны для сюрреализма. Жутковатые зарисовки, намеренная бессмыслица словесных коллажей соседствуют (как в это же время у Арагона, Элюара и др.) с эмоционально напряженными афоризмами, с поэтическими строфами, вскрывающими цинизм буржуазного миропорядка. Нас приглашают рассмотреть внимательно «постель (le lit — в поэтике Шара синоним жизненного русла, бытия), где лежат свинцовые трубы, порывы ветра, окровавленная тушка зверя, пустой патронташ, сломанный стул...», признать вполне возможным, что небо, опрокинувшись, «срежет голову орлу, сидящему на скале»:
Она перебирала дешевые иллюстрированные журналы
Он говорил
Как убивают
Хищника
Или жалость
Пальцами он коснулся
Другого берега
Но небо опрокинулось
Так внезапно
Что срезало голову орлу
Сидящему на скале.
«Возможное». Сб. «Молот без хозяина»
Нам предложена алогичная зависимость странноватых состояний: «В углу мастерской не треснет половица пока пчела и губка считаются близнецами». В pendant к «Магнитным полям» появляются полубредовые, словно из дурного сна залетевшие картины-сцены с наполненными водой гробами, оживающими мертвецами (цикл «Изобилие грядет», 1932-1933), мифическими существами. Нарочито выспренная фраза обещает что-то значительное, но постепенно размывается наплывами темноватых, обособленных друг от друга метафор («Живодер»).
В подобных картинах-констатациях торжествует обычная для сюрреализма холодная отстраненность, статичность. Мир застыл перед нашим взором мрачными неприступными глыбами, леденящим одиночеством веет от «космических» пространств. В дальнейшем поэтика Шара преодолеет статичность, но на раннем этапе импульсы движения предвещены лишь отдельными поворотами авторской мысли; когда позиция поэта прояснена и эмоционально окрашена, она становится сродни «надежде, которая может быть претворена в движение добра». Это относится, например, к миниатюре, носящей заглавие «Равенство» и предлагающей своеобразный герб буржуазного равенства:
La bouche en chant Поющий рот
Dans un carcan. В ошейнике.
Цикл «Арсенал»
или к циклу «Боевые стихи» (1931-1933), где с жестоким цинизмом война «утверждает свою правоту» («Остывший металл»). Мечта о торжестве иных законов драматически отозвалась в стихотворении «Прекрасное здание и предчувствия» (цикл «Арсенал»):
J’écoute marcher dans mes jambes La mer morte vagues par dessus tête
Enfant la jeté г — promenade sauvage Homme l’illusion imitée
Des yeux purs dans les bois Cherchent en pleurant la tête habitable...
У ног моих морская мертвая стихия Вздымает волны...
Во мне — ребенок, что подобен молу,
И мужчина, чужих иллюзий полный.
А чистые глаза в лесу,
Рыдая, ищут голову, где можно было б жить...
Это стихотворение открывает уже следующий период творчества Р. Шара. Здесь нет странновато-конкретных деталей, произвольно соединенных «вещественных» примет: формируется целостная мысль о мире, построенная на сложных метафорах, с пропуском отдельных звеньев. Благодаря многочисленным эллипсисам стихотворение может быть расшифровано (и переведено) по-разному. Так, например, В. Козовой соединяет вторую и третью строфу, давая такое прочтение:
Ребенок мол прогулочный стихий Мужчина отблеск мнимый
Кристальных глаз в лесах Рыдая ищут голову-жилище.
Перевод В. Козового
Почти все французские исследователи считают, напротив, каждую из этих строф законченной; хрестоматийными слывут строки: Des yeux purs dans les bois/ Cherchent en pleurant la tête habitable, которые аллегорически передают мечту «человека о том, чтобы стать человеком». Последний вариант интерпретации кажется более естественным: легче воспринимаются ассоциации, полноту звучания получает вторая строфа, которая, оторвавшись от третьей, становится содержательней. Сочетание homme, illusion immitée несет большую смысловую нагрузку, чем homme illusion immitée des yeux purs. Заимствованные «чужие» мысли контрастны по отношению к сознанию ребенка, свободного от необходимости подражать прошлому, его обветшалым предрассудкам. Подобное раскрытие второй строфы позволяет соединить ее с первой и представить себе напряжение внутренней борьбы меж устремленностью в будущее и духовной пассивностью, заимствованными иллюзиями.
Зашифрованность этого стихотворения не дает оснований считать его порождением сюрреалистической эстетики. Мы слишком расширительно толкуем термин «сюрреализм», когда пользуемся им для обозначения всего туманного, неясного. Сюрреализм как одно из проявлений модернистской поэтики имеет специфические черты, лишь ему присущие качества. Иным сферам модернизма свойствен иной код зашифровки реальности.
Рене Шар, покинув школу сюрреализма, не испытал потребности повернуться лицом к «реальному миру», как Арагон; не увлекся языком революционной лирики, как Пьер Юник; не перешел к защите «эстетики понимания», как Робер Деснос, и все-таки отход Рене Шара от поэтики сюрреализма достаточно показателен. После книги «Молот без хозяина» его уже перестали интересовать абсурдно скомпанованные правдоподобные детали, не удовлетворяла больше констатация бессмыслицы, привычная для жутковатых сюрреалистских картин. Он резко отодвинул от конкретно выписанных предметов свой поэтический объектив, исключил из поля своего зрения свинцовые трубки, патронташи, перчатки, сломанные стулья, гвозди, цепочки от плаща, колеса автобусов и т. п. (все это мы еще находим в раннем произведении «Артипа»), пытаясь охватить взором дальние горизонты, понять глубинные закономерности. «Молотом без хозяина» назвал он язык сюрреализма, автоматическое письмо. Теперь он хотел стать хозяином поэтической речи, вложить в нее свое понимание общества и вселенной. Можно считать символическим название поэтической книги
Tout le jour assistant l’homme le fer a appliqué son torse sur la boue enflammée de la forge. A la longue leurs jarrets jumeaux ont fait éclater la mince nuit du métal à l’étroit sous la terre. L’homme sans se hâter quitte le travail. Il plonge une des dernière fois ses bras dans le flanc assombri de la rivière. Saura-t-il enfin saisir le bourdon glacé des algues?
Целый день, работая вместе с человеком, железо заставляло его склоняться над огнедышащей трясиной кузницы. В конце концов от их согласованных движений разорвалась тонкая пелена ночи, обнажив скрытый землею металл. Человек неторопливо кончает работу. Он погружает напоследок руки в темное чрево реки. Удастся ли ему опереться на обледенелый посох водорослей?
Та же новизна чувств ощутима в стихотворении «Школьница встретила...»: дороги, «бегущие быстрее детей», «осень, еле переводящая дух», миг, когда девочка-подросток встретила взгляд незнакомца, «который пообещал мне все, что желала я самой себе», миг рождения женщины.
Это стихотворение вошло в цикл «Плакат на самой дальней дороге» (Placard pour un chemin des écoliers, 1937). Книге было предпослано посвящение — предисловие:
«Красные дети Испании — Вам, тем, чей последний вздох затуманил навек поверхность рвущего Вас металла... Когда мне было столько же лет, сколько Вам, рынок, где торговали цветами и фруктами и куда так интересно сбежать с урока, не находился еще под бомбами... Времена изменились. Трепетная детская плоть — на тележках, обслуживавших раньше только скотобойни и свалки. Помолодела братская могила. Она просторна, как ваши спальни, глубока, как колодезь. Невиданная бойня! Позор! Позор! Позор!
Дети Испании, я пишу этот «Плакат», хотя в ваших детских глазах не отразилось еще сознание ужаса застигшей вас смерти. Простите, что я посвящаю книгу Вам. С последней надеждой. Март 1937».
В этом обращении много интонаций, которые как бы восходят к «Поэме о русском ребенке» Ж. Шеневьера: непостижимая разумом встреча детства со смертью, отказ объяснить ее вечной жестокостью бытия, острое ощущение вины, которое ведет к решимости действовать. «Он мертв, потому что мы — ничто» — так кончал Жорж Шеневьер, так мог бы закончить Р. Шар.
Метафизическая трагедия неизбежности жизненного финала отошла на второй план перед реальной трагедией войны, навязывавшей свои законы. Сократилась дистанция между поэтом и социальной реальностью. Но в своих стихах он как бы, напротив, отодвигает от себя мир, чтобы не растеряться перед множеством гнетущих событий, чтобы собрать их в общую систему, соотнести социальные законы с космическими, вписать линии человеческого бытия в гигантскую карту вселенной. Устремившись к этой, трудновыполнимой задаче, поэт вынужден был опускать все большее и большее количество звеньев поэтической мысли, стягивать суждения, относящиеся к совершенно разным сферам существования материи; обобщение превращалось в абстракцию такой степени, что его в ряде случаев предложено воспринимать почти как математическую формулу. Язык, на котором поэт собирался разговаривать со своими современниками о трагических проблемах истории, становился в чем-то подобен коду, поддающемуся расшифровке лишь частично, оставляющему в сфере темноты целые пласты авторской мысли.
Я связал воедино все, во что верю, и возвысил твое присутствие. Я даровал новый путь своей жизни, избрав ей опорой эту просторную силу. Я изгнал ярость, которая тормозила мой взлет. Я ухватился украдкой за руку равноденствия. Оракул теперь надо мной не властен. Я вхожу: есть на мне благодать или нет ее.
Перевод В. Козовой
Ключевой для этого поэтического фрагмента, названного «Календарь» (1938), является самая «темная» его строка: J’ai pris sans éclat le poignet de l’équinoxe, которую лучше перевести несколько иначе: «Спокойно сомкнул я пальцы на запястье равноденствия». Поэт ощущает себя свободным от власти всех земных «оракулов», он измеряет бег своих дней могуществом космических сил. Он отодвинул от себя мысль о насилии, которая мешала ему чувствовать себя свободным. Он мужественно идет навстречу жизни, независимо от того, что ему готовит судьба. Равноденствие здесь знак гармонии; обретя душевное равновесие, поэт считает себя вправе нежно взять равноденствие за руку. Именно эта доминанта гармонии мешает перевести данную строку, используя слова «ухватился» и «украдкой». Французские исследователи считают чрезвычайно существенным, что Р. Шар вводит le poignet (запястье), а не main или bras (рука). Это усиливает, по их мнению, оттенок интимности, нежности, которая установилась между поэтом и вселенной.
«Между мною и миром нет больше сегодня тоскливой стены», — скажет вскоре Р. Шар.
Настроение может меняться, но неизменной остается отныне привычка Р. Шара измерять достоинство человека феноменами земной природы и космоса. Вот почему так легко посещают поэзию Р. Шара «могучие метеоры», «шлифующие берега», «звездный недуг», «мигреньветра», «своры морозов», «осьминог сердца».
Характерное сближение законов человеческого общества и животного мира находим в стихотворении, воссоздающем образ фюрера. Гитлер здесь уподоблен «существу с клыками хорька, который наслаждается своей славой, копая яму»; существу «с бледностью доносчика, повсюду заражающего раком спасительную красоту». Хищный оскал фашизма — метафора довольно распространенная, но равноправное соседство таких характеристик, как «клыки хорька» и «бледность доносчика», — это нечто специфически присущее Шару, который мгновенно переключается с одного регистра на другой, являя нам оба мира, одновременно.
Творческая манера Рене Шара сложилась сразу после «прощания» с сюрреализмом. К середине 30-х годов художник уже создал свою поэтическую систему. После освобождения, когда вышли «Листки Гипноса» и «Распыленная поэма», о нем писали уже как о классике не только французской, но и мировой поэзии: книги 50-60-х годов — «Встающие на заре» (Les Matineaux, 1950), «Поиски основания и вершины» (Recherche de la base et de sommet, 1955), «Слово — архипелаг» (
Мы — светлячки на изломе дня. Мы застыли на темном дне, как потерпевшая крушение баржа <...> Наше место между телескопом и микроскопом — в море бурь, в центре противоречий, мы горбимся, злые и враждебные, непрошенные гости...
Вот, товарищ, твой пропуск —
Чтобы пройти повсюду и повсюду страдать.
От ватерлинии до самых глубин.
Мужество найдет повсюду себе пищу.
Миг наслаждения короче дня.
«Бегущие ароматы»
Поэт и сам замечал цикличность повторения в своем творчестве некоторых тем, мотивов.
Именно потому, что постоянство манеры Р. Шара, его пристрастие к определенным метафорам, определенной конструкции поэтической фразы — явление почти уникальное, целесообразно в этой главе представить поэтику Рене Шара в ее единстве, отвлекаясь от моментов ее движения.
Свой излюбленный поэтический принцип — смотреть на человека сквозь призму законов, подтвержденных природой, Р. Шар сформулировал в стихотворении «Брату дереву» (1953):
Брату-дереву, чьи дни сочтены,
Легкая арфа лиственницы
На кромке мха и плодоносных скал.
Лик леса, срезающий облако,—
Противостояние пустоте: в тебя я верю.
Поэт, как и дерево, смертен, поэт, как и дерево, тянется ввысь, вибрируя подобно тончайшим иглам лиственницы от малейших перемен ветра жизни; вместе с лесами, скалами и каменистыми уступами, по которым расселились деревья, поэт противостоит пустоте небытия.
Соотношение этических категорий с природными явлениями — прием, обычный для поэзии. Параллели Рене Шара, однако, имеют одну особенность: поэт сопрягает с каждым фрагментом пейзажа, с каждым «представителем» флоры и фауны, как правило, не те качества, которые закреплены за ним естественным опытом или поэтической традицией. Змея для Шара — как и в поэтике Востока — воплощение утонченности, духовности, верности своему призванию. Тростник — символ выдержки, воли. Молния не пугает, а, напротив, ищет сочувствия. «Молния, с личиком школьницы... улыбнитесь ей, она изголодалась, изголодалась по дружбе». Повилика, так часто воскрешавшая во французской поэзии дух предательства, Шару напоминает о доверии, ласке («море, доверчивое, как повилика»). Попытавшись расшифровать поэтические миниатюры Шара с помощью традиционно понимаемых качеств змеи, тростника, молнии и т. п., мы потерпели бы неудачу. Но, открыв однажды особый код ключевых для Шара лексических единиц, можно гораздо успешнее преодолевать расстояние, отделяющее нас от понимания всей полноты мысли поэта. Тогда воспринимается как нечто цельное цикл «За здравие змеи», «Жалоба влюбленной ящерицы»; тогда понятно, почему «загипнотизированная приближением змеи» листва замирает от счастья («Любовь», сб. «Арсенал»); тогда «холодная кровь» напоминает не о равнодушии, а об упорстве («Маленькая гадюка»):
Le vipéreau restera froid Маленькая гадюка останется холодной,
jusqu’à la mort nombreuse. Пока многократно не придет к ней смерть.
В этом случае странное сочетание — la mort nombreuse (буквально — «многочисленная смерть») — должно, очевидно, подтолкнуть к мысли, что и смерти змея не сразу сдается. Тогда со змеей (стихотворение «Змея» из цикла «Четыре очарования») вполне соединим эпитет débonnaire — добродушный, она может сеять («Молниеносная победа»), а поэт «должен свиваться, как змей, в свежих людских слезах» («Листки Гипноса») и ждать с нетерпением прихода «змеиной цивилизации» (Reclamons venue civilisation serpentaire).
Постоянный (но непривычный) смысл имеют у Шара и некоторые глаголы. Например, fermer (закрывать) встречается всякий раз, когда речь идет о переменах. В знаменитом стихотворении «Иволга», помеченном 3 сентября
Le loriot entra dans la capitale de l’aube L’epée de son chant ferma le lit triste Tout à jamais pris fin.
В переводе В. Козового она звучит так:
Ворвалась иволга в святилище зари,
Ее напев, как меч, скрепил усталость ночи.
Все кончилось навек.
Но, если держать в памяти контекст всей поэзии Шара, слово fermer не может быть адекватным слову «скрепить» (т. е. продолжить, усилить, подтвердить и т. п.). Им, напротив, обозначена грань между временем спокойствия (triste появляется у Шара всегда в атмосфере размеренного покоя) и временем смятения. Таким образом, le lit triste воскрешает жизнь, в которой были возможны эмоции мягких оттенков — грусть, ласка, нежность, скука; теперь наступила эпоха катаклизмов, прежнее восприятие реальности «кончилось навек».
Как и многим другим поэтам лирико-философского склада, Р. Шару для передачи трудно выразимых моментов своего мироощущения, выношенных с мукой суждений о ценности и трагизме бытия, необходимы иволга и стриж, хорек и змея, ива и платан, водоросли и светлячки, очертания морского берега и облаков. Так же как, например, поэты рошфорской школы, он ценит простую
Удивительную жизнь — единственную
Ради которой стоит жить.
«Всеобщее присутствие»
Так же как они, он говорит о недостижимости гармонии в мире, где Зло не просто злобно, но по-иезуитски коварно. Но Шар хочет заставить осознавать эту противоречивость с помощью движения самой формы, резкими бросками от одного метафорического суждения к другому, не считая достаточным сказать иронично и прямо, как говорил Тристан Дерем:
Дерем воспевает справедливость,
Призванную царить в мире,
Где она пока не царит совсем.
Ни к чему не привел бы спор о том, что полнее отвечает современному мироощущению: поэзия имеет разных читателей, у каждого читателя множество эмоциональных состояний, которые позволяют ему настраиваться то на одну, то на другую волну. Путь, избранный Рене Шаром, показался привлекательным многим и многим поэтам; герметично-сложная форма выражения поэтической мысли будет использована такими разными поэтами послевоенной Франции, как Андре Френо, Ив Боннфуа, Жак Рубо, Б. Варгафтиг.
Но предпочтение, отданное ими усложненному ходу поэтической мысли, ничуть не дискредитирует тот «старый способ быть новым», который позволил и Роберту Фросту в США, и Шарлю Вильдраку, Рене-Ги Каду, Морису Фомберу во Франции полнее многих других своих современников воплотить в стихе победу человека над низменными силами зла, торжество целостной, здоровой философии жизни.
Рене Шар, так же как позднее, например Рубо, предпочитал «шифровать» даже мысль о гармоничном союзе человека с силами вселенной или своими собратьями, как бы снова и снова напоминая о труднодостижимости такого союза.
О кодовом характере ряда элементов поэтического языка Р. Шара можно говорить именно потому, что целые ряды слов употребляются им с необычным смысловым оттенком, но сохраняют этот оттенок постоянно, в любом контексте. Такие стихотворения (в отличие от тех, что строятся на выявлении привычных качеств) не требуют для своего прочтения обязательно знания всего творчества Шара: необычное качество «проступает» в процессе повторов — без этого стихотворение может долго оставаться абсолютно темным.
Дополнительную трудность создает склонность Р. Шара к малоупотребительным (и в разговорном, и в поэтическом языке) выражениям.
Акцентируя конкретность, поэт при этом часто вводит в свою речь слова ограниченного поля действия: contentieux — юридический отдел; voirie — надзор за путями сообщения; flottaison — уровень погружения тела, mirène — прицельное; serpentaire — драконов корень; murène — мурена; bourdon — посох, колокол; sanguinolent — окрашенный кровью; diluvienne — дилювиальный; capiteux — хмельной; éculé — стоптанный; amovible — съемный; ajonc — утесник; courtilière — медведка; courge — тыква; mouture — помол; bauge — кабанье логово. Поскольку во многих из таких слов тоже гиперболизировано какое-либо одно, не обязательно характерное свойство, введение их, конечно, еще более усложняет поэтический язык. К тому же порой слово как бы «скрывает», какое из значений имел в виду автор, соединяя его с другим. Например, в стихотворении «Часто» le bourdon glacé des algues можно перевести и как «обледенелый посох водорослей», и как «звон обледенелых водорослей» (bourdon — посох, колокол, басы, трутень).
Большую роль в поэтической вселенной Р. Шара играет ряд общих понятий, которые в отличие от конкретных могут постоянно менять свое значение и предстают как бы многозначными, противоречивыми. Таково, например, слово «Hypnos» (гипноз).
В раннем сборнике Р. Шара «Арсенал» первое стихотворение завершалось строкой: «Entraineur d’Hypnose» (имеющий гипнотическую силу). Самая известная книга поэта, вышедшая сразу после войны, носит название «Листки Гипноса». Именем Гипноса Р. Шар подписывал во время войны некоторые свои конспиративные послания. К этому ключевому для него слову поэт возвращался многократно. Но оттенки смысла изменчивы. «Загипнотизированная листва» в стихотворении «Любовь» (цикл «Свет справедливости погас») должна передать состояние блаженства, счастья. Гипнос в поэзии и прозе военных лет — своеобразное воплощение мужества вопреки безумию реальности. В одном из циклов последующего времени поэт называет «преступниками тех, кто останавливает в человеке движение времени, чтобы загипнотизировать его и развратить его душу». В те же годы статья Р. Шара, опубликованная в прессе, призывает противопоставить тупому гипнотическому состоянию, в котором держит человека общество, надежду: «Нет поэзии без надежды». Иногда гипноз осуществляется силами добра, иногда силами зла — однопланового прочтения это слово в поэзии Шара не имеет. Контрастные эмоциональные оценки, сопровождающие понятие «hÿpnos», заставляют воспринимать его диалектически, размышлять о многообразии жизненных ситуаций и праве человека на моральный выбор меж различными ипостасями того, что Р. Шар называет условно «гипнозом».
В контрастных значениях употребляет Р. Шар и важный для него глагол «распылять». Почти каждый исследователь поэзии Р. Шара принимался заново объяснять, что такое «Распыленная поэма». Как и слово «гипноз», производные от слова «распылять» встречаются уже у раннего Р. Шара. Но каждый раз в другом смысле. Порой как следствие взрыва, («взрыв» (éclatement) — тоже характерное понятие шаровской поэтики: взрываются бутоны, взвиваются фейерверком искры из-под молота, и т. п.), т. е. радостных перемен, бунта человека против гнетущих обстоятельств; порой как предвестие щедрого грядущего, как лучи, уходящие вдаль; порой как знак растерянности перед жизнью, когда рассыпаются доказательства, утрачена цельность взгляда на мир. И все-таки, по верному наблюдению одного из французских критиков, поэзия Р. Шара чаще «не распыляла элементы реальности, не подчеркивала дисгармонию, а, напротив, акцентировала глубоко скрытое единство между ними».
Диалектическое единство различных проявлений человеческого духа Р. Шар фокусирует не только разноплановым употреблением одного и того же понятия, но и алогичным на первый взгляд сочетанием фраз: «Глухая ночь несла ружье, и разучились женщины рожать. Бесчестье было как стакан воды. Я к мужеству примкнул, связавшему немногих...»; «Смерть сыпала свои удары так близко, что мир захотел стать лучше».
Переходы от утверждения безграничной людской жестокости к восхищению героизмом тех, кто ее отвергает, свершаются с удивительной быстротой, заставляя каждый миг жизни оценивать в его «величии и падении». Сводя контрасты, Р. Шар так определяет эпоху антифашистского сражения: «время взбесившихся гор и сказочной дружбы»; «мгновение самой свирепой смерти и самой осмысленной жизни».
Представитель «тематического» направления новой критики, Ж.-П. Ришар поражен атмосферой спокойствия, которая, как ему кажется, царит в творчестве Шара, «радостной, стихийно возникшей взаимностью между ним и миром вещей, благодаря чему его поэзия всегда — даже в моменты разочарованности или бунта — так позитивна». Ришар находит у поэта «совершенную симфонию нежности, где вещи и люди подружились, чтобы набросить на простор пейзажа ласковую пелену». На самом деле такая «стихийная» радость абсолютно чужда Шару. Его спокойствие ближе упорству доверия, чем безмятежности. Ришар пытается заземлить «радость мироощущения» в дне настоящем, а тревогу объяснить страхом перед грядущим, перед «неизбежным завтрашним днем». Подобное прочтение тоже произвольно и подсказано, очевидно, излишне буквальной расшифровкой слов «buts lointains» в стихотворении «Да будет благословенна!» Первая строка его звучит так: «В моей стране растрепанные птицы и нежные свидетельства весны нам всем дороже отдаленных целей». Но свод законов «неведомой страны», предложенный здесь поэтом, и есть, по существу, «отдаленная цель», мечта о торжестве человеческого благородства, приметы которого Шар умеет разгадать уже сейчас, в поведении близких ему людей: «В моей стране взволнованным не задают вопросов... В моей стране благодарить — закон». Глаголы настоящего времени лишь яснее выявляют идею преемственности — от достигнутого сегодня к достижимому завтра. Мысль поэта движима верой в человека, в его благородство, способность выстоять и оказать помощь другим. Homme debout (человек во весь рост) — своеобразный лейтмотив многих стихов Р. Шара. Именно поэтому его творчество отнюдь не по всем параметрам может быть соотнесено с категориями, характерными для модернизма. Но слишком часто представление поэта о реальности, о борьбе различных исторических сил зашифровано с помощью кода, и ряды стихотворений открывают картину зыбкую, непроясненную. Герметичная форма как бы формирует иное содержание, чем то, что предполагал явить нам поэт. Многие метафоры раскрываются едва наполовину и способны навеять лишь общее настроение, отказываясь «выдать» авторскую мысль в ее целостности. К различным аллегорическим рядам могут отослать нас, например, в «Паровом цилиндре» «вертящиеся волчки» (tourner nos toupies), «королевство ящериц» (un royaume de lézardes) , «момент похорон вашего разума» (point d’obsèque de votre raison), «сети — плод воображения рыб» (les filets sont l’invention du fantastique des poissons). Слишком высокая степень зашифрованности, конечно, удерживала поэзию Р. Шара в границах модернизма.
Как бы ни были весомы и гуманны обобщения поэта, как бы решительно ни отталкивался он от философии вселенского абсурда, являющегося почвой для модернистского искусства, стихи его оказывались часто под стать причудливой пелене, наброшенной на реальность и словно отменяющей всякую возможность познания. Конечно, позволительно вслед за Жоржем Муненом так истолковать одну из строк Рене Шара: «Я стер неловкую цифру зла с моего форштевня» — значит поэт «отвергает настоящее, отвергает будущее, несущее поражение, отвергает возможность следовать на невольничьем судне». Конечно, никто не запретит продолжить образ — форштевня образом «венчика солнца», где поэт видит «кобылу, утоляя жажду ее мочой», и назвать его на основании этих строк «пастырем детей, пастырем людей».
Изобретательность интерпретаторов бывает безграничной. Ясно, однако, что если многим и многим стихотворениям Р. Шара нужны подобные весьма произвольные «переводы», значит — чудо поэтического откровения в этом случае не состоялось. Такое стихотворение существует скорее для самого поэта, чем для читателя.
Французские исследователи, близкие школе «новой критики», — Морис Бланшо, Жорж Пуле, Жан-Пьер Ришар, Жак Барелли — рассматривают «темноту» стихотворений Шара как самое характерное свойство поэзии XX в. и самую бесспорную ее ценность. Морис Бланшо одну из своих работ назвал «Рене Шар и нейтральная мысль», уверяя, будто зашифрованность текстов Шара позволяет ему — гражданину и поэту — оставаться величаво нейтральным, равно приемлющим добро и зло, равно снисходительным к героике и пассивности. Именно таинственный нейтралитет составляет якобы основу поэзии Р. Шара. Согласно аргументации Жака Барелли, чем непонятнее поэт, тем большее уважение проявляет он к читателю, которому позволено на свое усмотрение «реконструировать слепок стихотворения и его семантическое единство, включаясь в игру сопоставлений, в игру афористических интерференций». По такой схеме Шар оказывается самым демократичным поэтом, потому что он предлагает книги, где собраны «выражения, абсолютно свободные от каких бы то ни было значений до того момента, пока читатель не начнет пробираться сквозь густую сеть письма».
Полемизировать с этой позицией, гиперболизирующей герметизм Рене Шара, нам помогает сам поэт — и как создатель ряда достаточно ясных по мысли произведений, и как оригинальный теоретик, составивший своеобразный свод правил для поэтического слова. В
Ты торопишься писать
Словно отстал от жизни
Так вернись же к своим истокам
И снова торопись
Торопись передать другим
Дух чудесного мятежного благодатного
Ты и впрямь отстал от жизни
Но удивительной жизни
Единственной ради которой стоит жить
Той что у тебя крадут люди и вещи
И которую ты с трудом собираешь из бесплотных фрагментов.
«Всеобщее присутствие». Сб. «Первая мельница»
Книга Рене Шара «О поэзии» (1958), как и бесчисленные советы коллегам-писателям, звучащие в стихотворных циклах «Свет справедливости погас» (1931), «Формальный раздел» (1942), «Библиотека в огне» (1955), «Встающие на заре» (1950), открывает нам художника с обостренным чувством ответственности за воздействие поэтического слова. С горечью допускает он возможность появления поэта на «пустынном берегу, где его будут ждать намного позднее, после его смерти». Решительно вступает он в воображаемый диалог с «герметичными рабочими» (одноименное стихотворение в сб. «Встающие на заре»), надеясь, что придет время, когда они не будут больше «в состоянии войны с моим молчанием», когда перестанет оскорблять их «иней на окне» и «немая гордость уст», когда преграды рухнут под напором «лихорадочной толпы». У Рене Шара больше оснований надеяться на ликвидацию этой пропасти между ним и читателем, чем у Малларме, тоже с горечью признававшего: «Печально, что мои произведения останутся для этих людей по самой сущности бесплодными, как облака в сумерках или звезды».
Подводя своеобразный итог своему творческому пути, напоминая об импульсах, возвращавших ему растраченные жизненные силы, Р. Шар писал: «Только обыкновенные люди — мои спутники и спутницы — способны вывести меня из оцепенения, вдохновить на поэзию, подтолкнуть к границам пустыни, чтобы я одержал над ней победу. Ничто другое. Ни щедрая земля, ни небеса, ни потрясающие события. Как факел, я рождаю игривые языки пламени только в его руках — руках человека». Лаконичны и выразительны советы, которые дает Шар своим собратьям по перу. Он зовет «меж явью и сном укладывать тонкое тело стиха», поскольку «поэзия — предвидение, но еще не сформулированное». Поэт для него — «дитя набата», «хранитель бесчисленных ликов живущего». Когда «рушатся все доказательства, поэт дает залп в честь грядущего», в поэзии «нет ничего, чего бы не было во вне, в мире, полном противоречий».
Едва ли такого писателя можно считать убежденным защитником поэтической темноты, как утверждают Морис Бланшо или Жак Барелли.
Но вызывает чувство протеста и другая крайность, в которую впадают, например, Пьер Гэрр и Жорж Мунензв. Для них потенциальная возможность расшифровать с помощью изучения сложных кодов любую строку Шара — достаточный аргумент в пользу торжества реалистической поэтики. В работах Гэрра и Мунена творчество Шара тоже рассмотрено односторонне. Они считают вполне правомерным очертить эстетическую поэзию Шара, ограничившись анализом «Листков Гипноса» и цикла «Формальный раздел», где поэт открыто утверждает идеал героического деяния: «Человек способен свершить больше, чем он может вообразить»; пришла «эпоха, которая разбудила в поэте солнечную силу восхождения»; «Человек отважно сражается лишь во имя дела, которое сам вынашивает и которое опаляет его, когда с ним сливается».
Со страниц этих книг встает поистине величественный образ нашего современника, «не приемлющего навязанной ему участи, пробующего вновь и вновь, вопреки неудачам, взламывать тесные рамки и, даже не обольщаясь ожиданиями вполне благополучного исхода, упрямо тянущегося к вольной шири вместе с подобными ему соратниками по непокорству».
Восхищение Шаром-человеком отвлекло Пьера Гэрра и Жоржа Мунена от объективного литературоведческого анализа, который с неизбежностью вскрывает противоречивость творчества художника и несостоявшихся в ряде случаев поэтических побед. К тому же тексты «Листков Гипноса» и «Формального раздела» — особого рода. Здесь Шар разрабатывает своеобразный жанр афоризма, к которому отнюдь несводима его поэзия.
Трагический разлад между поэтом, факелом, пылающим в руках простого смертного, и гордым отшельником, приставшим к пустынному берегу, сохраняется в творчестве Шара.
Вторая мировая война и участие капитана Александра (конспиративное имя Шара) в патриотическом сражении с фашизмом укрепили его веру, что «человек ценен, ибо его порыв к общему делу отвечает его радужному ореолу и моим надеждам». Но эта оптимистическая вера не отменила герметизма. В известной мере условия подпольных публикаций, эзопов язык, охотно вводимый поэзией Сопротивления, скорее оправдывали зашифрованность поэтической манеры, склонность Шара к сложнометафорическому выражению мысли. Сама поэзия Шара не так уж сильно менялась, но заметно изменилось ее место на карте французской литературы.
Вместо резкой дифференциации поэтических потоков, определенной изоляции литературных школ в годы антифашистского подъема наступает момент сближения. Патриотическая лирика вобрала в себя публицистический пафос Лоиса Массона, Андре Шеневьера, Макса Поля Фуше, Габриэля Одизио и мудрую уравновешенность Элюара; интимный лиризм Арагона и христианскую символику Пьера-Жана Жува, Пьера Эмманюэля; просветленную надежду Рене-Ги Каду и космогонию Сен-Жон Перса; вещественную конкретность Эжена Гильвика и сложную метафорику Рене Шара. Благодаря множеству «промежуточных» явлений, благодаря богатству общей палитры расстояние между крайними точками художественной картины, конечно, сокращалось. Однако этот благотворный для поэзии процесс лишь с еще большей настойчивостью ставит перед нами вопрос о границах модернистской и реалистической поэтики.
Внимательно вглядываясь в реальность поэзии военных лет, мы видим, что эстетике модернизма отдавали щедрую дань и те художники, которые субъективно, как, например, Рене Шар, стремились к выражению целостного, диалектического взгляда на мир. Принципы модернизма этому стремлению мешали, и художник оказывался в трагическом кругу противоречий.
Следует, очевидно, считать характерной попытку Шара проложить для своей поэзии с этого момента как бы два параллельных русла. В одном — ряды усложненных метафор, многие из которых казались искусственной головоломкой, в другом — цепочка мудрых наблюдений — афоризмов, которым вроде бы абсолютно чужд язык метафор. Поразительно соседство в «Листках Гипноса» таких фрагментов: «Ночь со стремительностью бумеранга, высеченного в наших костях, свистит, свистит без конца»; «Поэма — это неистовое восхождение, поэзия — отблеск высохших берегов»; «Мы бродим среди пустых срубов: колодцы похищены». А рядом рассказ об одном из трагически будничных событий партизанской борьбы:
Страшный день! Я был свидетелем расстрела Б., находясь в какой-нибудь сотне метров от него. Стоило мне нажать на гашетку ручного пулемета, и он был бы спасен! Мы расположились на склонах, возвышающихся над Серестом: скрывавший нас кустарник буквально ломился от оружия, и численностью мы, во всяком случае, не уступали эсэсовцам. Они не знали, что мы здесь. Со всех сторон меня окружали молящие взгляды, ждавшие боевого сигнала, но я отрицательно качал головой... Июньское солнце леденило меня до костей полярным холодом. Он упал, словно не замечал палачей, и показался мне таким легким, что малейшее дуновение ветра должно было бы приподнять его над землей.
Я не подал сигнала, поскольку необходимо было уберечь эту деревню любой ценой. Что такое одна деревня? Деревня, подобная всякой другой? Быть может, он это понял в свой последний миг?
Перевод В. Козового
Среди дневниковых записей «Листков Гипноса» хранится воспоминание о дне, когда Рене Шар прятался от эсэсовцев в одном из домов захваченной ими деревни. Фашисты шли по его следу, а многие жители села знали, где капитан Александр. Несмотря на угрозы и побои, никто не выдал командира. «Я приоткрыл штору, — кончает автор, — и улыбка скрасила мою бледность. Тысячи доверительных нитей связывали меня с этими людьми, и ни одна из них не должна была оборваться. В этот день я любил своих ближних со всей неистовостью превыше всякого самопожертвования».
В «Листках Гипноса», как и во многих следующих книгах, Рене Шар охотнее, чем до войны, обращается к жанру афоризма, приобретающего оттенки своеобразного моралите.
«В самую страшную бурю рядом отыщется птица, чтобы нас утешить» («Встающие на заре»). «Вино свободы скисает быстро, если не пить его...» («Возвращение к верховьям»). «Чтобы вырасти, надо уметь волноваться» («Тридцать три фрагмента»). «Тень твоя может коснуться даже навоза, но в тебе должно быть только святое» («Спутники в саду»).
Большинство таких художественных «формул» имеет повелительное наклонение, что предполагает собеседника, который готов внять призыву: «Используй случай, удержи свое счастье, иди навстречу риску. Глядя на тебя, и они привыкнут»; «Не жалуйся, что живешь ближе к смерти, чем другие смертные»; «Не подражай людям, обладающим таинственным даром все запутывать» («Встающие на заре»). Однако в других книгах — «Утраченная нагота», «Слово-архипелаг», «Бегущие ароматы» — строй метафор остается таким же, как до войны, они перенасыщены ассоциациями, которые понятны, может быть, только тому, кто был рядом с Р. Шаром в момент, когда эти ассоциации возникали, кого он сделал доверительным другом своих откровений. Для всех прочих такие ассоциации остаются причудливыми цветами незнакомого царства. Но, увлеченно изобретая все новые и новые сложнейшие метафоры, Рене Шар одновременно все смелее нанизывает на нить общих размышлений ясные, мудрые афоризмы. Появление этой формы в творчестве Р. Шара военных и послевоенных лет объективно свидетельствует о растущем недоверии поэта к возможностям герметичной поэзии. Сомневаясь, что метафоры, рожденные его воображением, будут поняты и кем-то «открыты», он пытается выразить те же или близкие переживания иным языком и порой с житейской простотой учит стойкости, благородству, скромности.
Конечно, возможен вопрос, поэзия ли это? Не отказывается ли здесь Шар от поэтической выразительности, предпочтя устойчивую прозу? Такой вывод был бы, очевидно, неверным. И в том и в другом случае перед нами стихотворения в прозе — явление чрезвычайно характерное для поэтического языка XX в.
Этот жанр сохраняет ряд специфических признаков, среди которых отчетливы и те, что отмечены В. М. Жирмунским. В частности, повышенная эмоциональность, грамматико-синтаксический параллелизм, фонетические и лексические повторы. Ср., например, у Р. Шара: «Будь стражем, а не сторожем дома своего»; «Озарить солнцем воображение тех, кто лепечет, когда приходится говорить, кто краснеет, высказываясь. Это — надежные бойцы»; «Согласие озаряет лицо. Непримиримость придает ему красоту»; «Когда-то мы находили имена для разных отрезков времени: этот считался днем, этот месяцем, этот опустевший храм — годом. Сегодня мы входим в мгновение самой свирепой смерти и самой осмысленной жизни».
Параллелизм грамматических конструкций и повторы, восходящие к традиции фольклорного стиха, характерны и для многих текстов Рене Шара, сконцентрированных вокруг сложных метафор. Тем самым поэт как бы помогает постичь глубину их закономерности, настраивает нас на продолжение начатых им философских раздумий.
Ширококрылый вьется стриж над домом и кричит от счастья на лету. Как птица сердца.
Он осушает гром небесный. Он в чистой сеет синеве. Земли коснись он — разорвется.
Ему касатка — острый нож. Он ненавидит домовницу. К чему на башне кружева?
В глухой щели его заминка. Нет в мире большей тесноты.
Он в незакатный летний день в полночный выскользнет плетень, как метеор, во тьме растает.
Глазам поспеть за ним невмочь. Кричит — и только тем приметен. Невзрачный ствол его сразит. Как птицу сердца.
«Стриж». Перевод В. Козового
Тот же композиционный принцип соблюдается в лирической утопии «Да будет благословенна!»
В моей стране растрепанные птицы и нежные свидетельства весны нам всем дороже отдаленных целей.
Ждет истина в кругу свечи своей зари рассветной. Лучи окопные не в счет. Не все ли чуточку едино?
В моей стране взволнованным не задают вопросов.
Зловещей тени нет на лодке среди волн.
Приветствовать в моей стране не принято сквозь зубы.
Взаймы берем лишь то, что возвратим с прибытком.
В моей стране есть листья на деревьях, тучи листьев. Но ветки их вольны и не плодоносить.
Мы в прямодушье покорителя не верим.
В моей стране благодарить — закон.
Перевод В. Козового
Стихотворение в прозе Р. Шара ближе в известной мере Рембо, чем Бодлеру или Лотреамону: сюжетная нить ему совсем не нужна, он легко переходит от мимолетного впечатления к широкого плана обобщениям.
Как правило, лаконичное стихотворение-афоризм несет у Р. Шара смысловую нагрузку едва ли не большую, чем развернутый фрагмент свободного стиха. Граница между метафорической вязью свободного стиха и простой чеканкой афоризма ритмической прозы, конечно, не всегда столь резка, как в некоторых примерах, приведенных выше. И все-таки представляется необходимым различать в творчестве Р. Шара эти отдельные потоки, вводящие разные принципы художественной интерпретации жизненного материала. Моралите-афоризмы предлагают поэзии как бы иное русло — не только по формальным признакам, но и по сути тяготеют к прозрачности мысли, к повелительной интонации, сокращающей расстояние между поэтом и читателем, к лаконичной бесспорности жизненного урока. Увлечение Р. Шара этой поэтической формой можно рассматривать в известной мере как реакцию на излишне тягостную затемненность его же собственных стихов, которые остались для читателя «чудом за семью замками». Так Шар по-своему выражал недовольство модернистской системой.
Отвергая самое идею «разрыва», необходимого якобы искусству, чтобы стать современным, Р. Шар полемически спрашивал: «Разве перейти от созерцания яблок Сезанна к тореадору Пикассо это значит в корне изменить историю? Разве в перспективе они не дополняют друг друга?»
Противоречия так тесно сплелись в художественной практике Шара-поэта, что его с полным правом считают своим учителем и авангардисты, заводящие поэзию все в более и более глухие дебри темноты, и поэты реалистического склада, пытающиеся выразить сложной ассоциацией доходящие до трагизма отношения между индивидуумами и социальными группами в классовом обществе. Вот почему — при всех различиях между творчеством Поля Элюара и Рене Шара — их художественный опыт философской интерпретации мира обусловил дальнейшее обогащение французской поэзии, устремленной к поиску глубинных духовных ценностей.
Л-ра: Балашова Т. В. Французская поэзия ХХ века. – Москва, 1982. – С. 203-229.
Произведения
Критика