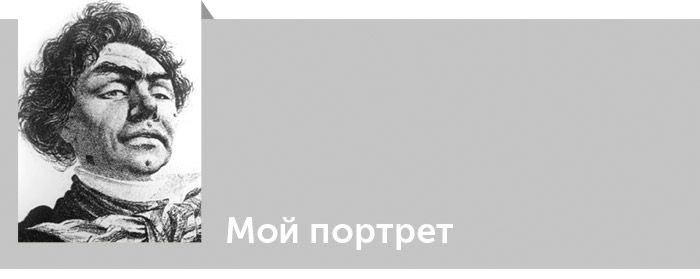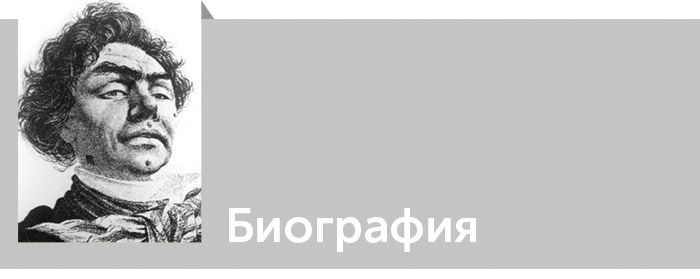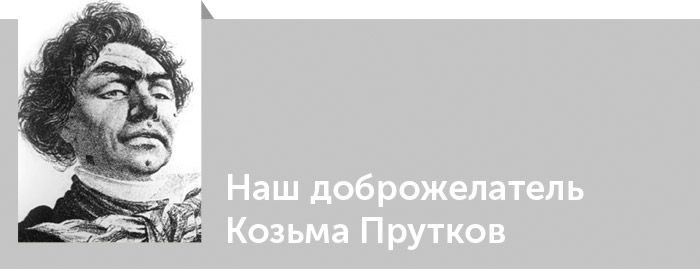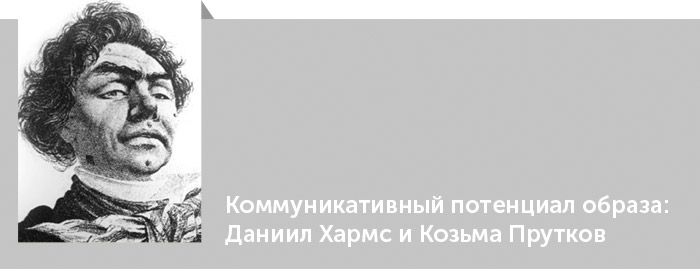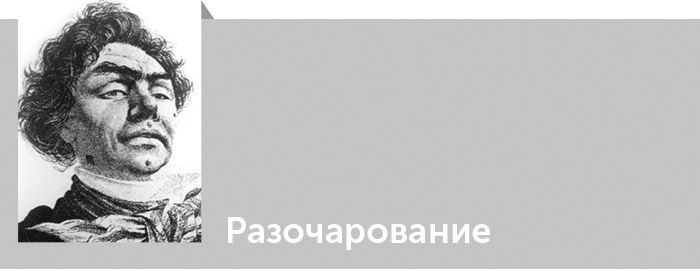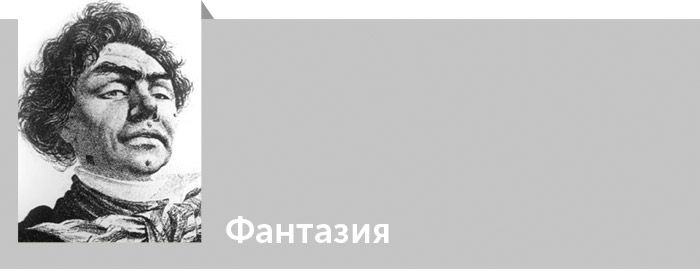Прутков Козьма. Классик, которого не было
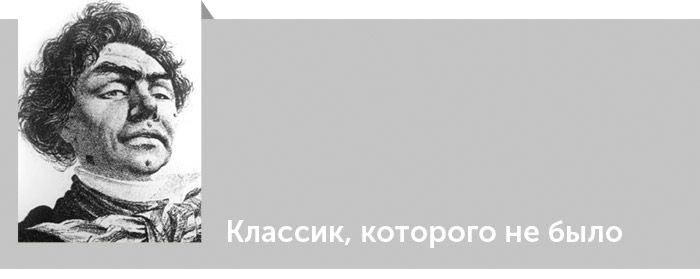
Дмитрий Жуков
Директор Пробирной Палатки и поэт, драматург, философ Козьма Прутков - фигура вымышленная, но так основательно утвердившаяся в русской литературе, что ему мог бы позавидовать иной реально существовавший писатель.
Вымышленное творчество Пруткова неотделимо от его вымышленной биографии, как неотделимы от них его внешность, черты характера... Он "смотрится" только в целом, неразделенном виде, таким его воспринимали современники, таким он дожил до наших дней.
Случаев мистификаций и создания литературных масок не счесть. Но все они были обречены на короткую жизнь и в лучшем случае известны лишь литературоведам. Козьма Прутков завоевал народное признание.
По разнообразию жанров, в которых он работал, Козьма Петрович Прутков превзошел своих предтеч и современников: Рудого Панька, Ивана Петровича Белкина, Ивана Чернокнижникова, Конрада Лилиеншвагера, Якова Хама, Аполлона Капелькина и других. Стихами оп писал басни, эпиграммы, лирику, баллады. Не чужды ему были драматические жанры: комедия, водевиль, драма, мистерия, естественно-разговорное представление... В его прозе можно усмотреть автобиографический, публицистический, исторический и эпистолярный жанры. Он писал полемические статьи и проекты. И наконец, своими афоризмами прославился как философ.
До сих пор неясно, писал ли Козьма Прутков пародии, подражал ли знаменитым поэтам или был совершенно оригинальным писателем. Только настроишься на одну из этих трех его ипостасей, как тут же попадаешь впросак - по форме вроде бы одно, по содержанию другое, а пораскинешь умом, познакомишься поближе со всякими обстоятельствами его эпохи, и окажется там и третье, и четвертое, и пятое... Вот, казалось бы, дошел до дна, аи нет - не одно оно у произведения достопочтеннейшего Козьмы Петровича, а столько, что и со счету собьешься и уж не знаешь, то ли смеяться, то ли плакать над несовершенством бытия и человеческой натуры, начинаешь думать, что глупость мудра, а мудрость глупа, что банальные истины и в самом деле полны здравого смысла, а литературные изыски при всей их занятности оборачиваются недомыслием. Литературное тщеславие рождает парадоксы и выспренности, за которыми кроется все та же банальность, и даже в любом литературном абсурде и безумии есть своя логика.
Человеку свойственно обманывать себя, и литератору - особенно. Но в минуты прозрения он видит ярче других собственные недостатки и горько смеется над ними. Себе-то правду говорить легко, другим - сложнее... Потому что горькой правды в чужих устах никто не любит. И тогда появляется потребность в Козьме Пруткове, в его витиеватой правде, в мудреце, надевшем личину простака...
Один из афоризмов Козьмы Пруткова гласит: "Не совсем понимаю, почему многие называют судьбу индейкою, а не какою-либо другою, более на судьбу похожего птицею".
Творческую судьбу самого Козьмы Пруткова иначе как счастливою не назовешь. Употребляя в шутку и всерьез изречения писателя, иные не знают даже, кто породил эти меткие слова, потому что они теперь уже неотторжимы от нашей повседневной речи. Использование же афоризмов Козьмы Пруткова в газетных заголовках и статьях политических обозревателей и фельетонистов стало обычаем.
Басни. Крылова и бессмертная комедия Грибоедова "Горе от ума" обогатили русский язык. Это известно из школьного курса литературы. Козьму Пруткова в школе "не проходят", а ведь он может соперничать с Крыловым и Грибоедовым глубоким проникновением в родную речь плодов своего творчества.
Вот ты, читатель, обронишь иной раз мудрую фразу: "Что имеем, не храним; потерявши - плачем" - и сам того не знаешь, что повторил ее вслед за Козьмой Прутковым.
Ты жалуешься, что у тебя остался "на сердце осадок".
Ты предупреждаешь: "Держись начеку!"
Ты рассуждаешь: "Все говорят, что здоровье дороже всего; но никто этого не соблюдает".
А о Козьме Пруткове не думаешь!!!
Разве что, заметив: "Нельзя объять необъятное", - добавишь: "Как сказал Козьма Прутков". Да и то не всегда.
Другое дело - где собирал писатель эти плоды. В народе, разумеется. И, обогатив народную мудрость художественной формой, он возвратил ее народу.
Литературная деятельность Козьмы Пруткова протекала в пятидесятые - начале шестидесятых годов XIX века, в период острой политической и литературной борьбы. И хотя Козьма Петрович, в силу служебного положения и некоторых свойств своей личности, предпочитал стоять "над схваткой", он, как утверждал один из его создателей, "удостоился занять в литературе особое, собственно ему принадлежащее место".
Создатели Козьмы Пруткова решили объявить о его кончине в 1883 году. Но прижизненная и посмертная слава его была так велика, что - уже в 1873 году Н. В. Гербель включил стихотворения Пруткова в хрестоматию "Русские поэты в биографиях и образцах", отметив, что они "отличаются тем неподдельным, чисто русским юмором, которым так богата наша литература, справедливо гордящаяся целым рядом таких сатириков, как Кантемир, Фонвизин, Нарежный, Грибоедов, Гоголь, Казак-Луганский (Даль), Основьяненко (Квитка) и Щедрин (Салтыков)".
Успех Козьмы Пруткова вызывал множество подражаний. Появились Козьмы Прутковы-младшие, его "дети" и проч. В дальнейшем же, вплоть до наших дней, было несметное число сыновей, внуков и даже правнуков Козьмы Пруткова. Уже первые подделки были расценены как безнадежное эпигонство.
Важной вехой в судьбе творческого наследия Козьмы Пруткова, призванной оградить его, защитить от подделок, было издание "Полного собрания сочинений" с портретом автора. Оно вышло в 1884 году.
Первый тираж (600 экземпляров) был раскуплен сразу же. В 1916 году вышло двенадцатое издание. В наше время насчитываются десятки изданий - от академических до иллюстрированных и карманных.
Еще "при жизни" Козьма Прутков был чрезвычайно популярен. О нем писали Чернышевский, Добролюбов, Аполлон Григорьев и многие другие критики. Писали иногда в шутку, а иногда и всерьез. Его имя неоднократно упоминал в своих произведениях Достоевский.
Салтыков-Щедрин любил цитировать Пруткова, создавать афоризмы в его духе, проекты, притчи. В шестидесятые годы прошлого века Козьму Пруткова охотно цитируют в письмах и произведениях Герцен, Тургенев, Гончаров и другие русские писатели.
Позднее радикальные "Отечественные записки" пытались уверить читателя, раскупившего первое издание сочинений Пруткова: "Прошло время, когда читатель мог удовлетвориться беспредметным и бесцельным смешком, остроумием для остроумия. Общество доросло до идей - их оно прежде всего и требует от писателя".
Однако это недопонимание сущности замечательной выдумки сменилось "эпохою реставрации" Пруткова. Он полноправно фигурирует в "Историях русской литературы" различных авторов. Его цитируют в полемике представители всех направлений, независимо от политической окраски. Козьма Прутков становится классиком. Академик Н. А. Котляревский торжественно объявляет: "Козьма Прутков - явление единственное в своем роде: у него нет ни предшественников, ни последователей". В 1898 году в "Энциклопедическом словаре" (изд. Брокгауза и Ефрона) появилась большая статья о Козьме Пруткове. С тех пор имя Козьмы Пруткова неизменно входит во все энциклопедии. И не только в нашей стране.
Марксисты сразу приняли Козьму Пруткова на вооружение в полемике со своими противниками. Плеханов, например, любил высмеивать их утверждения при помощи прутковских афоризмов и стихов. Ленин включил сочинения Козьмы Пруткова в список книг, которые пожелал иметь в своей библиотеке в 1921 году. Впоследствии В. Д. Бонч-Бруевич вспоминал:
"В. И. Ленин очень любил произведения Пруткова как меткие выражения и суждения и очень часто, между прочим, повторял известные его слова, что "нельзя объять необъятного", применяя их тогда, когда к нему приходили со всевозможными проектами особо огромных построек и пр. Книжку Пруткова он нередко брал в руки, прочитывал ту или иную его страницу, и она нередко лежала у него на столе" (Вл. Бонч-Бруевич. Изучение лаборатории творчества В. И. Ленина. - РАПП, 1931, N 3, с. 170).
Уже в начале двадцатых годов появилось много работ о Пруткове и публикаций его произведений, не напечатанных до революции по цензурным и иным соображениям. Однако некоторые деятели Пролеткульта относились к творчеству поэта более чем настороженно.
"Пролетарскому писателю у него, собственно, учиться нечему", - утверждал В. Десницкий в предисловии к собранию сочинений Пруткова, изданному в 1927 году. Следует отметить, что оп пересмотрел свои взгляды и в 1951 году уже писал иное:
"...Я до известной степени преуменьшал значение этой учебы. И напрасно. Задача поднятия на высоту мастерства в области искусства слова - одна из насущных задач советской литературы в условиях бурного расцвета культуры в нашей стране".
Сам Прутков тоже учился у многих и многих. Он перенял у некоторых людей, пользовавшихся успехом, самодовольство, самоуверенность, даже, извините, наглость, и считал каждую свою мысль истиной, достойной оглашения. Он считал себя сановником в области мысли. И это понятно. Он был сановником в жизни - директором Пробирной Палатки в системе министерства финансов.
Его издатели и друзья уверяли, что, "будучи умственно ограниченным, он давал советы мудрости; не будучи поэтом, он писал стихи и драматические сочинения; полагая быть историком, оп рассказывал анекдоты; не имея образования, хоть бы малейшего понимания потребностей отечества, оп сочинял для него проекты управления".
Прошел век, и стала очевидной некоторая поспешность их оценок. Да, он был "сыном своего времени, отличавшегося самоуверенностью и неуважением препятствий". Но давно, очень давно стали замечать, что он, как говорят в народе, "дурак-дурак, а умный". Поэт не поэт, а писал стихи так - дай боже всякому. Не историк, а в исторических анекдотах у него больше от духа и языка эпохи, чем в иных увесистых томах. Образования не имел, а в своих проектах был прозорлив...
К. П. Прутков очень любил славу. Он печатно сознавался, что "хочет славы", что "слава тешит человека". Но подлинного признания он добился лишь в наши дни. Его творчество тщательно изучается. Исследователи разыскивают в архивах его неопубликованные произведения. Его творчеству посвящено несколько монографий и множество статей [Берков П. Н. Козьма Прутков - директор Пробирной Палатки и поэт. Л., 1933; Десницкий В. А. Козьма Прутков (вступ. ст. к избр. соч.). Л., 1953; Сукиасова И. М. Язык и стиль пародий Козьмы Пруткова. Тбилиси, 1961; Сквозников В. Козьма Прутков (вступ. ст. к соч.). М., 1965; Масанов Ю. Директор Пробирной Палатки и поэт. - В кн.: В мире псевдонимов, анонимов и литературных подделок. М., 1963; Привалова М. И. О некоторых источниках "Мыслей и афоризмов" Пруткова. - Вестник Ленинградского университета, 1967, N 8, вып. 2, с. 76 - 86; Заславский Д. Козьма Прутков и его родители. - Литературное наследство, 1932, N 3; Б у х ш т а б Б. Я. Козьма Прутков (вступ. ст. к "Полн. собр. соч."). М. - Л., 1965; Александров В. Козьма Прутков. - Литературное обозрение, 1939, N 11 и др.].
Редко делались попытки определить сущность и приметы русского юмора. Юмор вообще с трудом поддается исследованию. Козьма Прутков - одно из воплощений нашего национального юмора. Он настолько своеобразен, так крепко привязан реалиями к родной земле, что при переводе его на другие языки встают порой неодолимые трудности.
Когда-то Козьма Прутков был еще смешнее. Да, время стерло во многом его злободневность, но остались тонкости языка, высшая культура его, приобретаемая не учением, а рождением в русской среде и крещением в купели русской языковой стихии.
Трудно всерьез "разбирать" образ Пруткова. Смешное исчезает тотчас, как над ним нависает перо исследователя. Такова его биография, таковы его произведения...
Козьма Петрович Прутков родился в начале XIX века. День рождения известен - 11 апреля. Год рождения его еще точно не установлен, как и многих других исторических личностей. Например, Аввакума, Суворова, Грибоедова... Один из его биографов называет 1803-й, другой - 1801 год.
Он появился на свет в деревне Тентелевой Сольвычегодского уезда, входившего в то время в Вологодскую губернию, и происходил из незнатного, но весьма замечательного дворянского рода. Дед его, отставной премьер-майор и кавалер Федот Кузьмич Прутков, оставил потомству знаменитые "Гисторические материалы", которые, при всей их старомодности и неуклюжести слога, обладают несомненными достоинствами, содержат глубокие и остроумные мысли. Будучи уже зрелым литератором, Козьма Прутков опубликовал записки деда, обработав их с подлинной научной добросовестностью - проделав большую текстологическую работу, удостоверив атрибуцию "материалов" и установив дату их написания. И уже благодаря одной этой публикации никогда не будут преданы забвению имена таких героев, как Александр Македонский, философ Декарт, писатель Иван Яков де Руссо и английский министр Кучерстон.
Великий русский писатель Ф. М. Достоевский в своих "Зимних заметках о летних впечатлениях" восторженно приветствовал публикацию К. П. Пруткова, отметив его "непостижимую скромность" и с негодованием отвергнув измышления о том, "что это надувание, вздор, что никогда такого деда и на свете не было".
Причастен к литературе был и Петр Федот ыч Прутков, отец писателя, создавший оперетту "Черепослов, сиречь Френолог", веселость, живость, острота и соль которой, по словам Козьмы Пруткова, одобрены были такими крупными поэтами, как Державин, Херасков, Шишков, Дмитриев и Хмельницкий, а Сумароков даже составил на нее эпиграмму.
И становится попятной та неодолимая страсть к сочинительству, отличавшая Козьму Пруткова до конца дней его. Теперь бы мы сказали: наследственность, гены, молекулы. Сам он выражался проще: "Отыщи всему начало и многое поймешь".
При крещении будущую знаменитость нарекли Кузьмой, но впоследствии сам он переименовал себя в Козьму и даже в Косьму, чем подтвердил еще один собственный афоризм о том, что "всякая вещь есть форма проявления беспредельного разнообразия".
Образование Козьма Петрович получил домашнее, освоив науки с помощью приходского священника Иоанна Пролептова. Отметим, что по упражнению на счетах Кузьма получил у своего учителя отметку "смело-отчетливо", а по русской словесности - "назидательно, препохвально". Именно это предрекало успех Пруткова на избранных им впоследствии поприщах. Тому же способствовал и строгость родителей. Отец его был суров, да и мать частенько прикладывала тяжелую ладонь к мягким частям Кузькиного тела, внушая сыну: "Единожды солгавши, кто тебе поверит", и эта истина запечатлелась в юном мозгу навсегда. Кузькина мать была справедливой, но строгой женщиной, и в этом последнем ее достоинстве следует, очевидно, искать корпи столь распространенного русского выражения, непереводимого на иностранные языки.
Изучая афоризмы Козьмы Пруткова, мы находим в них отражение некоторых событий его жизненного пути. "Если хочешь быть красивым, поступи в гусары", - писал он, и это обстоятельство, возможно, побудило его начать службу юнкером в одном из лучших гусарских полков. Однако уже через года три он оставил службу, увидев во сие голого бригадного генерала в эполетах. Сон этот оказал большое влияние на всю жизнь Козьмы Пруткова и послужил объектом пристального внимания многих исследователей жизни и творчества поэта, в том числе и зарубежных [Barbara H. Monter. Koz'ma Prutkov, The Art of Parody. The Hague - Paris, 1972, p. 53.].
Тотчас после отставки, последовавшей в 1823 году, К. П. Прутков определился на службу по министерству финансов, в Пробирную Палатку, и оставался в ней до смерти. Как известно, начальство отличало и награждало его. "Здесь, - писали его первые биографы, - в этой Палатке, он удостоился получить все гражданские чины, до действительного статского советника включительно, а потом и орден св. Станислава 1-й степени..."
Всего этого К. П. Прутков добился без особой протекции, руководствуясь принципом, что "усердие все превозмогает". Впоследствии он писал: "Мой ум и несомненные дарования, подкрепляемые беспредельною благонамеренностью, составляли мою протекцию".
Благонамеренность его, а также литературный талант особенно ценились тайным советником Рябовым, давно принявшим Пруткова под свое покровительство и сильно содействовавшим, чтобы открывшаяся в 1841 году вакансия начальника Пробирной Палатки досталась ему. Этому благоволению не следует удивляться, так как музы не были чужды даже высшим чиновникам того времени. Достаточно вспомнить поэта Владимира Григорьевича Бенедиктова, который имел такой же шумный успех в литературе, как и впоследствии Козьма Петрович Прутков. Бенедиктов тоже служил в министерстве финансов и тоже благодаря усердию, аккуратности, памяти на цифры и верности в счете сделал карьеру, достигнув чина действительного статского советника.
Все биографы отмечают безукоризненное управление К. П. Прутковым Пробирной Палаткой. Подчиненные любили, но боялись его поскольку он был справедлив, но строг.
Козьма Петрович Прутков проживал вместе со всей своей многочисленной семьей в Петербурге в большой казенной восемнадцатикомнатной квартире в доме N 28 на Казанской улице, что берет свое начало от Невского проспекта у Казанского собора. Именно там и находилась всегда Пробирная Палатка Горного департамента министерства финансов [Здание сохранилось (ул. Плеханова, 23). В нем по традиции располагается Пробирный надзор].
Пробирное дело было заведено в России еще в допетровскую эпоху. Но настоящие пробы (определение примесей в драгоценных металлах и нанесение специальных знаков на изделия из них) были введены указом Петра I от 13 февраля 1700 года. За наложение клейм взималась пробирная пошлина. Этим-то, а также пробирным надзором и занималась Пробирная Палатка. В этой связи небезынтересно было бы отметить, что прямым предшественником К. П. Пруткова в пробирном деле был Архимед.
Как повествует легенда, сиракузский царь Гиерон, подозревая золотых дел мастера в том, что тот из корыстных видов подмешал в изготовленную золотую корону серебра, поручил своему родственнику Архимеду открыть обман. Долго и безуспешно трудился Архимед, пока наконец не решил искупаться. В ванне он и открыл основной гидростатический закон, отчего пришел в такой восторг, что голый с криком "Эврика!" побежал из купальни домой и, сделав опыт, изобличил вора.
Козьма Прутков не мог не знать предыстории своего достославного учреждения, и тут невольно напрашивается одно наблюдение, ускользнувшее от весьма ученых исследователей жизни и творчества директора Пробирной Палатки и поэта.
Широко известно его стихотворение "Мой портрет", вобравшее в себя наиболее характерные черты творчества и духовного облика поэта.
Когда в толпе ты встретишь человека,
Который наг1
Чей лоб мрачней туманного Казбека,
Неровен шаг;
Кого власы подъяты в беспорядке,
Кто, вопия,
Всегда дрожит в нервическом припадке, -
Знай - это я!..
Кого язвят со злостью, вечно новой,
Из рода в род;
С кого толпа венец его лавровый
Безумно рвет;
Кто ни пред кем спины не клонит гибкой, -
Знай - это я;
В моих устах спокойная улыбка,
В груди - змея!..
[1 Вариант: "На коем фрак". Примечание Козьмы Пруткова]
Анализируя вторую часть стихотворения, нельзя не обратить внимания на сходство некоторых черт характеров Козьмы Пруткова и его великого предтечи, сказавшего некогда: "Дайте мне точку опоры, и я переверну землю".
Следы тщательного изучения Прутковым творческого наследия Архимеда мы находим в известном стихотворении "Поездка в Кронштадт".
Море с ревом ломит судно,
Волны пенятся кругом;
Но и судну плыть нетрудно
С архимедовым винтом...
Однако если Архимед предавался занятиям механикой с таким усердием и самопожертвованием, что забывал о существенных жизненных потребностях, и не раз рабы обязаны были принуждать его воспользоваться их услугами, то Козьма Прутков оправдывал свое увлечение литературой словами: "Специалист подобен флюсу: полнота его одностороння".
Состоя продолжительное время начальником Пробирной Палатки, К. П. Прутков руководствовался принципом: "Усердный в службе не должен бояться своего незнания, ибо каждое новое дело он прочтет". В те далекие времена от руководителя не требовали специальных знаний, главным мерилом служебного соответствия была благонамеренность.
Свой служебный досуг Прутков посвящал большей частью составлению различных проектов, в которых постоянно касался всяких нужд и потребностей государства. Особенное внимание начальников привлек его проект о сокращении переписки, а следовательно, об экономии бумаги, и записки о сокращении штатов, что поселило в них мнение о замечательных его дарованиях как человека государственного.
"При этом я заметил, - вспоминал К. П. Прутков, - что те проекты выходили у меня полнее и лучше, которым я сам сочувствовал всею душою. Укажу для примера на те два, которые, в свое время, наиболее обратили на себя внимание: 1) "о необходимости установить в государстве одно общее мнение" и 2) "о том, какое надлежит давать направление благонамеренному подчиненному, дабы стремления его подвергать критике деяния своего начальства были в пользу сего последнего".
Официально оба проекта, как известно, приняты тогда не были, "но, встретив большое к себе сочувствие во многих начальниках, не без успеха были многократно применяемы на практике".
Но ни служба, ни составление проектов, открывавших ему широкий путь к почестям и повышениям, не уменьшали в нем страсти к поэзии.
Очевидно, еще в ранний период его творчества было написано стихотворение "К месту печати", раскрывающее неподдельность и свежесть чувств многообещающего молодого чиновника:
Люблю тебя, печати место, Когда без сургуча, без теста, А так, как будто угольком,, "М. П." очерчено кружком!..
Необходимо отметить мощное влияние Пушкина на молодое дарование ("Люблю тебя, Петра творенье..."), а также то важное обстоятельство, что накладывание сургуча на бумагу и печати на сургуч, по свидетельству современников, было своего рода искусством: надо было следить, чтобы сургучная печать лежала тонким слоем, не коптилась, не прожигала бумаги.
Писал К. П. Прутков много, но ничего не печатал. И кто ведает, знали бы мы славное имя Козьмы Пруткова, который поразил мир своей необыкновенной литературной разнообразностью, если бы не один случай, повлекший за собой весьма полезное для него знакомство.
Однажды, году в 1850-м, Козьма Петрович взял продолжительный служебный отпуск, собирался поехать за границу и, в частности, посетить Париж. Ради экономии средств на дорожные расходы, а также ради того, чтобы иметь рядом человека, хорошо владеющего иностранными языками [К. Прутков владел французским и даже козырял иностранными словечками, там и сям раскиданными по его сочинениям, по, очевидно, не слишком надеялся на свои знания], он поместил в "Северной пчеле" объявление о том, что ищет попутчика с долею расходов на экипаж и пр.
И вот как-то ночью, в четвертом часу, Козьма Петрович Прутков был поднят с постели своим слугой, объявившим ему, что четверо каких-то господ требуют его превосходительство для сообщения ему важнейшего известия. Возможно, они из самого дворца, поскольку двое из них - в придворных мундирах.
Козьма Петрович так спешил, что как был в фуляровом колпаке, так и появился в прихожей своей казенной квартиры, лишь накинув халат. При свете свечи, которую держал слуга, он и в самом деле разглядел золотое шитье мундиров и еще два щегольских фрака. Все четверо были молоды и красивы. Один из них представился графом Толстым, остальные но очереди склоняли головы и, щелкая каблуками, произносили:
- Жемчужников.
- Жемчужников.
- Жемчужников.
Расчетливый путешественник не без основания решил, что они братья, и что-то знакомое забрезжило в его сонной голове.
- Чему обязан, ваше сиятельство, господа?
- Скажите, пожалуйста, ваше превосходительство, - спросил один из них, - не ваше ли это объявление в третьеводнишнем нумере "Северной пчелы"? О попутчике-с?
- Мое...
- Ну так вот, ваше превосходительство... Мы приехали, чтобы известить вас, что ехать с вами в Париж мы никак не можем...
Молодые люди откланялись и вышли.
Нетрудно представить себе негодование, охватившее Козьму Петровича. Он понял, что стал жертвой, как тогда говорили, практического шутовства. Остаток ночи он ворочался в постели, обдумывая, как немедля же, поутру, доложит по начальству об этой оскорбительной шутке, и додумался даже до жалобы на высочайшее имя.
Но утром природное благоразумие все-таки взяло верх над ночными скоропалительными решениями. Он, наконец, вспомнил, что граф Алексей Константинович Толстой считается другом наследника престола. И по своему придворному званию, согласно табели о рангах, как и Козьма Петрович, принадлежит к числу особ первых четырех классов. Старший из братьев Жемчужниковых, Алексей Михайлович, - камер-юнкер и служит в государственной канцелярии, младших - Александра и Владимира Михайловичей ждет блестящая карьера хотя бы потому, что отец их - тайный советник, сенатор, бывший гражданский губернатор Санкт-Петербурга...
В тот же день к вечеру Козьма Петрович снова увидел у себя ночных знакомцев, явившихся с извинениями. Они были так любезны и столь мило шутили, что Прутков сменил гнев на милость. Оказалось, что вчера они были допоздна на придворном балу, чем и объяснялся костюм двоих из них. Идея же шутки принадлежала Александру Жемчужникову, случайно заглянувшему на страницы "Северной пчелы".
Козьма Петрович распространил свою милость так далеко, что прочел гостям некоторые из своих стихов, чем привел их в неописуемый восторг. Они долго убеждали его, что, не публикуя своих произведений, оп зарывает талант в землю.
В дальнейшем дружба К. П. Пруткова, А. К. Толстого и Жемчужниковых, двоюродных братьев последнего, стала настолько тесной, что в позднейших литературоведческих трудах было уже принято говорить о "прутковском кружке".
Новые друзья Пруткова славились своими проделками, которые молва постепенно стала приписывать и директору Пробирной Палатки. Почетный академик Н. Котляревский на исходе прошлого века прямо указывал на "проделки Кузьмы Пруткова, проделки невинного, но все-таки вызывающего свойства".
Вот что он сообщал:
"Рассказывают, что в одном публичном месте, присутствуя при разговоре двух лиц, которые спорили о вреде курения табаку, и на замечание одного из них: "Вот я курю с детства, и мне теперь шестьдесят лет", Кузьма Прутков, не будучи с ним знаком, глубокомысленно ему заметил: "А если бы вы не курили, то вам теперь было бы восемьдесят", - чем поверг почтенного господина в большое недоумение.
Говорят, что однажды, при разъезде из театра, на глазах испуганного швейцара Кузьма Прутков усадил в свою четырехместную карету пятнадцать седоков, в чем, однако, никакого чуда не заключалось, так как каждый из влезавших в карету, захлопнув одну дверку, незаметно вылезал из другой".
Это еще так-сяк, но мог ли Козьма Петрович при всей своей благонамеренности и осмотрительности принимать участие в проделках иного рода?
"Рассказывают, как один из членов кружка ночью, в мундире флигель-адъютанта, объездил всех главных архитекторов города С.-Петербурга с приказанием явиться утром во дворец ввиду того, что Исаакиевский собор провалился, и как был рассержен император Николай Павлович, когда услыхал столь дерзкое предположение".
Разумеется, этот случай надо отнести на счет либо Алексея Константиновича Толстого и Алексея Михайловича Жемчужникова, либо их более молодых и озорных братьев Владимира и Александра (в особенности последнего).
Но, несмотря на столь предосудительное поведение Толстого и Жемчужниковых, дружба их с Козьмой Петровичем крепла с каждым днем, к вящей пользе для отечественной литературы.
Так, например, 8 февраля 1851 года в Александрийском театре была поставлена комедия "Фантазия", вошедшая впоследствии в "Полнее собрание сочинений Козьмы Пруткова". На премьере присутствовал сам император Николай I. Он не понял глубокого смысла истории пропавшей моськи Фантазии и был раздражен непрерывным лаем десятка собак, бегавших по сцене императорского театра. Не дождавшись конца пьесы, царь уехал из театра, сказав при этом:
"Много я видел на своем веку глупостей, но такой еще никогда не видел". Комедия была тотчас запрещена.
В "Моем посмертном объяснении к комедии "Фантазия" Козьма Прутков весьма кратко рассказал о постановке и о скандальном поведении публики, не понявшей, как и император, глубокого смысла комедии.
Из скромности, а также, по его словам, "опасаясь последствий по службе", Прутков подписал комедию не своим именем, а последними литерами латинского алфавита.
После первой и единственной постановки "Фантазии" едва ли не все русские газеты и журналы писали о ней. Перечислим "Современник", "Отечественные записки", "Санкт-Петербургские ведомости"... Федор Кони на страницах своего "Пантеона" недоуменно и подробно изложил содержание комедии. Строгий критический окрик раздался со страниц булгаринского полуофициоза "Северная пчела":
"Признаемся, Фантазия превзошла все паши ожидания. Нам даже совестно говорить о ней, совестно за литературу, театр, актеров и публику. Это уже не натуральная школа, на которую мы, бывало, нападали в беллетристике. Для школы Фантазии надобно придумать особенное название. Душевно и глубоко мы благодарны публике за ее единодушное решение, авось это остановит сочинителей подобных фантазий. Приучив нашу публику наводнением пошлых водевилей ко всем выходкам дурного вкуса и бездарности, эти господа воображают, что для нее все хорошо. Ошибаетесь, чувство изящного но так скоро притупляется. По выражению всеобщего негодования, проводившему Фантазию, мы видим, что большая часть русских зрителей состоит из людей образованных и благонамеренных".
Одним росчерком пера автор рецензии как бы выключал автора комедии из чисйа людей благонамеренных, что вполне понятно, имея в виду высочайшее недоумение. С другой стороны, Козьме Петровичу, считавшему благонамеренность важнейшим качеством чиновника и поэта, было обидно.
И потом разве мог он подумать, что, следуя примеру многих драматургов, имевших успех у публики и критики, он вызовет огонь не только на себя, но и на те произведения, которые наводняли сцену и вдруг показались пошлыми и бездарными? Разве не изучил он внимательно все приемы, которыми достигали успеха у зрителей авторы водевилей?
Другое дело, что эти приемчики показались многим доведенными до абсурда. Козьма Прутков опередил свою эпоху. В XX веке было время, когда абсурд предлагали считать вершиной драматического искусства. От этого за версту несло разложением.
Химический термин "разложение" ввел в литературоведение Аполлон Григорьев. И едва ли не в тот самый год, когда была поставлена "Фантазия".
Аполлон Александрович жил в то время в Москве и, естественно, на спектакле быть не мог. Но он прочел рецензию Федора Кони и отозвался на "Фантазию" статьей в журнале "Москвитянин" (1851, N 6).
"Со своей стороны, - писал он, - мы видим в Фантазии гг. Y и Z злую и меткую, хотя грубую пародию на произведения современной драматургии, которые все основаны на такого же рода нелепостях. Ирония тут явная - в эпитетах, придаваемых действующим лицам, в баснословной нелепости положений. Здесь только доведено до нелепости и представлено в общей картине то, что по частям найдется в каждом из имеющих успех водевилей. Пародия гг. Y и Z не могла иметь успеха потому, что не пришел еще час падения пародируемых ими произведений".
Но если комедия была встречена прохладно, то первая же публикация басен Козьмы Пруткова в том же году получила самый положительный отклик.
Сотрудник Некрасова и совладелец "Современника" И. И. Панаев помещал в своем журнале фельетоны и заметки за подписью "Новый Поэт", то есть скрывался за псевдонимом, хотя в государственной службе не состоял. В ноябрьской книжке журнала он возвестил:
"Вообще нынешний месяц я завален стихотворениями, которые слетаются ко мне со всех концов России на мое снисходительное рассмотрение. При самом заключении этих заметок, я получил три басни, с которыми мне непременно хочется познакомить читателей".
Поместив в журнале басни "Незабудки и запятки", "Кондуктор и тарантул" и "Цапля и беговые дрожки", но не указав имени их автора, что впоследствии внесло некоторую неясность в проблему определения творческого наследия Козьмы Пруткова, Новый Поэт присовокупил:
"Эти басни заставили меня очень смеяться, чего желаю от всей души и вам, мой читатель".
Известный писатель А. В. Дружинин откликнулся на эти шедевры в "Библиотеке для чтения" весьма обширной рецензией, начинавшейся так:
"Басен этих нет возможности прочитать, не выронив книги из рук, не предавшись самой необузданной веселости и не сделавши несколько энергических возгласов. Это верх лукавой наивности, милой пошлости, "збу-рифантности и дезопилянтной веселости", как сказал бы я, если б желал подражать некоторым из моих литературных приятелей..."
Последним произведением К. П. Пруткова, увидевшим свет без подписи, была басня "Стан и голос". И снова в статье Нового Поэта, что давало основания впоследствии приписывать перу И. И. Панаева некоторые произведения К. П. Пруткова, а заодно подвергать сомнению само существование последнего.
В 1881 году появилась статья одного из друзей уже покойного К. П. Пруткова, в которой с негодованием отвергались досужие вымыслы.
В какое положение, говорилось в статье, ставится все управление министерства финансов уверением, будто Козьма Прутков не существовал! Да кто же тогда был столь долго директором Пробирной Палатки, производился в чины и получал жалование?
Известно, что Иван Иванович Панаев всегда спешил призвать Николая Алексеевича Некрасова, когда Козьма Петрович, невзирая на свой служебный сан, удостаивал своим посещением редакцию "Современника".
Жажда славы привела к тому, что Козьма Прутков отказался от своего инкогнито и публиковал в журнале цикл за циклом свои стихотворения под общим названием "Досуги" почти весь 1854 год.
Наконец, Козьма Прутков решил предпринять отдельное издание своих сочинений. Лев Михайлович Жемчуж-ников, Александр Егорович Бейдеман и Лев Феликсович Лагорио - три художника трудились одновременно над всем известным теперь портретом Пруткова. Но "тогдашняя цензура почему-то не разрешила выпуска этого портрета; вследствие этого не состоялось все издание".
Большая часть стихотворений и прочих произведений была передана через В. М. Жемчужникова в "Современник".
Как только редакция "Современника" увидела попавшее ей в руки литературное богатство, она сразу же создала особый отдел, который так и назвала - "Литературный ералаш". Первая порция была помещена в февральской книжке с предисловием Н. А. Некрасова:
Кто видит мир с карманной точки,
Кто туп и зол, и холоден, как лед,
Кто норовит с печатной каждой строчки
Взымать такой или такой доход, -
Тому горшок, в котором преет каша,
Покажется полезней "Ералаша"...
Тогда же появились 75 "Мыслей и афоризмов", что сразу поставило Козьму Пруткова в один ряд с герцогом Франсуа де Ларошфуко, Георгом Кристофом Лихтенбергом и другими светочами краткого, но меткого слова.
Уже после первых обширных публикаций читатели стали замечать, что многие его стихи чем-то весьма уловимо напоминают произведения поэтов, уже успевших прославиться. С первых слов прутковского "Моего вдохновения" ("Гуляю ль один я по Летнему саду...") узнавали пушкинское "Брожу ли я вдоль улиц шумных...", узнавали произведения Лермонтова, Хомякова, Жуковского, Плещеева, Майкова, Фета, Щербины, Бенедиктова...
Одни считали это вполне закономерным развитием традиций вышеупомянутых поэтов, другие возмутились.
Снова началась оживленная полемика.
Журнал "Пантеон" возмущался в каждом своем номере.
"Писать пародии на все и на всех, конечно, особенное искусство, но его никто не назовет поэзией".
"Признаемся, что мы предпочли бы быть автором какой угодно глупости без претензии, нежели господином Кузьмой Прутковым, подрядившимся пополнять остроумными статьями отдел "Литературного ералаша".
"В стихах есть пародия на балладу Б. Тиллера, как в N 3 есть пародия на стихи Жуковского. Нецеремонность ералашников доходит до того, что, написав какой-нибудь вздор, они подписывают под ним: "из такого-то знаменитого поэта" и смело печатают, хотя у поэта, конечно, не встречалось никогда ничего подобного".
Речь, очевидно, шла о балладе Шиллера в перекладе В. А. Жуковского "Рыцарь Тогенбург". У Козьмы Пруткова его "Немецкая баллада" заканчивалась так:
Года за годами...
Бароны воюют,
Бароны пируют...
Барон фон Гринвальдус,
Сей доблестный рыцарь,
Все в той же позицьи
На камне сидит.
Нетрудно увидеть, что Козьма Прутков оказался не только конгениальным Шиллеру и Жуковскому, но и умудрился создать в русском языке устойчивое словосочетание "все в той же позицьи", которым бичуют некоторые отрицательные явления вот уже второй век, чего критик из "Пантеона", естественно, не мог и предположить.
Обозреватель "С.-Петербургских ведомостей", тоже решив, что Козьма Прутков пишет пародии, стал поучать его, как это делать.
"Во всех этих пародиях (лучших в "Ералаши"), - писал он, - нет цели, нет современности, нет жизни".
В мае 1854 года всем этим измышлениям была дана отповедь в "Письме известного Козьмы Пруткова к неизвестному фельетонисту "С.-Петербургских ведомостей" (1854) по поводу статьи сего последнего".
"Я пробежал статейку... - начиналось оно. - Здесь уверяют, что я пишу пародии: отнюдь! Я совсем не пишу пародий! Я никогда не писал пародий! Откуда взял г. фельетонист, что я пишу пародии? Я просто анализировал в уме своем большинство поэтов, имевших успех; этот анализ привел меня к синтезису: ибо дарования, рассыпанные между другими поэтами порознь, оказались совмещенными во мне едином!.. Прийдя к такому сознанию, я решился писать. Решившись писать, я пожелал славы. Пожелав славы, я избрал вернейший к пей путь: подражание именно тем поэтам, которые приобрели ее в некоторой степени. Слышите ли? - "подражание", а не пародию!.. Откуда же взято, что я пишу пародии?.."
[Позже, когда Кузьма Прутков стал еще более самоуверен, он переправил всюду в рукописи безличное "вы" на начальственно-панибратское "ты", вместо оборотов "здесь уверяют", "откуда же взято" появились "ты утверждаешь", "откуда же ты взял", а вместо "Кузьмы" - "Козьма"]
Утверждения Козьмы Пруткова легко доказать. Сколько русских поэтов отдало дань испанской теме - и до и после Пруткова! Пушкин, Кони, Плещеев и многие, многие другие окунали читателя в мир междометия чу, испанской ночи, кастаньет, гитар, шелковых лестниц, серенад, балконов, старых мужей и молодых соперников, севилий, инезилий и гвадалквивиров. То же сделал и Прутков в своем "Желании быть испанцем". Легко убедиться, что Прутков держался лишь в русле сложившихся традиций.
"Пушкин - наше все", - сказал как-то Аполлон Григорьев. И был прав. Козьма Прутков тоже обожал Пушкина и подражал ему [Козьма Прутков подражал Пушкину во всем, даже в манере одеваться. Он сознательно отставал от моды, рядясь в плащ-альмавиву. См. у А. Я. Панаевой (1948, с. 39): "Я старалась заранее встать к окну, чтобы посмотреть на Пушкина. Тогда была мода носить испанские плащи, и Пушкин ходил в таком плаще, закинув одну полу на плечо"], как и многие уважаемые поэты.
Они пригоршнями черпали идеи и темы из пушкинского творчества. Прутков не отставал от них. Одной из пушкинских тем, которая проходила через все творчество Козьмы Петровича, была тема взаимоотношений поэта и толпы.
В своем стихотворении "Поэту" Пушкин писал:
Поэт! не дорожи любовию народной.
Восторженных похвал пройдет минутный шум;
Услышишь суд глупца и смех толпы холодной,
Но ты останься тверд, спокоен и угрюм...
Козьма Прутков придавал этому мотиву сугубо важное значение. Вы помните "Мой портрет", где чрезвычайно короткое пушкинское "угрюм" вырастает в образ поэта, "чей лоб мрачней туманного Казбека", а "смех толпы холодной" оборачивается подлинной трагедией:
С кого толпа венец его лавровый
Безумно рвет...
В другом месте Прутков скажет: "С чела все рвут священный лавр венца, с груди - звезду святого Станислава!"
Те же вариации звучат и в прутковском "Моем вдохновении". (Повторном, не он первый. Как другие, так и он.)
Некоторые исследователи считают, что это попытка "представить использование пошлым поэтом" темы Пушкина "Брожу ли я вдоль улиц шумных..." (П. Н. Берков). Мы категорически не согласны с подобным мнением, так как Козьма Прутков брал гораздо шире, черпая мысли и из пушкинского "Я памятник себе воздвиг нерукотворный...", и из лермонтовских стихотворений, из бенедиктовских... Особенно из бенедиктовских.
Наиболее ярко тема взаимоотношений поэта и толпы прозвучала в стихотворении, которое так и называется - "К толпе".
И тут он идет вслед за Пушкиным, "питомцем муз прекрасных", воспевая "треножники златые". Мы слышим в этом стихотворении и лермонтовский "железный стих, облитый горечью и злостью...", но у Козьмы Пруткова он становится еще более тяжелым - "свинцовым". Мы слышим лермонтовское: "Он некрасив, он невысок, но взор горит..." и "Пускай толпа клеймит презреньем наш неразгаданный союз..."
Но мы не можем не вспомнить и бенедиктовское: "Пускай меня язвят с насмешкой люди..."
Особенное место в творчестве Пруткова занимает так называемая "антологическая" поэзия. Античной мифологией, историей и антуражем увлекались почти все более или менее выдающиеся русские поэты.
Вспомните пушкинский "Фиал Анакреона", вспомните вакхов, нимф, мирты, амуров, фебов, харит, урны и пр. в стихах Батюшкова, Баратынского, Дельвига,
Катенина, Майкова, Фета, того же Бенедиктова и, наконец, Щербины, творчество которого представляет собой апофеоз этого явления.
"Красота, красота, красота! Я одно лишь твержу с умиленьем", - восклицал Н. Ф. Щербина, и ему вторил К. П. Прутков, создавший такие шедевры, как "Пластический грек", "Спор греческих философов об изящном", "Письмо из Коринфа", "Философ в бане", "Древней греческой старухе, если б она домогалась моей любви", "Честолюбие"...
Исследователи отметили любопытное соревнование двух поэтов - Пруткова и Щербины, когда последний, признав превосходство первого, исключал некоторые стихи из дальнейших собраний сочинений...
Если мы полистаем полные и неполные собрания сочинений Козьмы Пруткова, то заметим в примечаниях к ним невероятную разноголосицу. Многие считают своим долгом найти конкретное стихотворение современника Пруткова, которое будто бы пародируется нашим замечательным поэтом. И все они каждый раз называют самые разные имена.
Больше всего исследователям полюбился Бенедиктов. И это понятно. В судьбе Пруткова и Бенедиктова есть много общего - служба в одном министерстве, чин, космический романтизм в стихах, сопрягаемый с житейскими явлениями, а отсюда возвышенный тон, перебиваемый обыденными словечками...
Да, многое роднит поэзию Козьмы Пруткова с поэзией Бенедиктова, которого Белинский называл гениальным стихотворцем. Как и Прутков, Бенедиктов пользовался громадным успехом у своих современников. Он прекрасно сознавал свое значение и место в российской словесности, о чем говорит известный в истории литературы факт.
Когда издателю "Сына Отечества" Старчевскому бывали нужны стихи действительного статского советника Бенедиктова, он подъезжал к поэту весьма тонко.
- Ваше превосходительство, публика настоятельно требует ваших стихов, - говорил он.
И генерал отвечал с добродушной убежденностью:
- Ну, коли публика настоятельно требует, надо ее удовлетворить.
Мы уверены, что именно так отвечал и Козьма Петрович, когда друзья обращались к нему за стихами для публикации.
Козьму Пруткова обвиняли и продолжают обвинять в том, что он писал пародии. Один современный автор доказывает это на протяжении 266 страниц, где 744 раза утверждает, что в стихах поэта "высмеиваются такио-то и такие-то". Например, в своих пародиях "Прутков высмеивает Хомякова и в его лице чрезмерные претензии некоторых малозначительных поэтов". В эту компанию попадают все, кому подражал Прутков, - от Пушкина до Фета. Одного Гейне все авторы, изучающие Пруткова, берегут пуще глаза, всякий раз оговаривая, что "высмеивается" не этот поэт, писавший на немецком языке, а его переводчики.
И надо сказать, что такое почтение вполне понятно. Гейне в прошлом веке переводили многие поэты.
Частенько, правда, они выдавали за переводы собственные стихи, и тогда под заглавием появлялось скромное "Из Гейне". Такова была мода. Козьма Прутков не отставал от нее, но, как человек правдивый, выражался более точно - "Будто бы из Гейне".
Вернемся к пародии. Лучше других понял ее значение Николай Остолопов. В своем "Словаре древней и новой поэзии", вышедшем еще в 1821 году, он пояснил, что пародия "выставляет на позор подверженное осмеянию; иногда выказывает ложные красоты какого-либо сочинения; а иногда служит одному только увеселению читателя, ибо случается, что пародируемое сочинение не имеет таких недостатков, кои бы заслуживали малейшее порицание".
На самого Козьму Пруткова стали писать пародии, и это было верным признаком его славы. Вспомним Пушкина, который восхищался тем, что в Англии "всякое сочинение, ознаменованное успехом, попадает под пародию".
А как же быть в последнем случае? Сочинения Пруткова недостатков не имели, как не имело их большинство избранных им примеров для подражания. Но у каждого большого поэта был свой слог, излюбленные им слова, свой взгляд на вещи. Это нравилось читателю. Это подметил Прутков, "совместивший" в себе многих поэтов. Но у Пруткова было и еще одно качество, которым он отличался от всех прочих. Уменье довести все до абсурда, а потом одним махом поставить все на свои места, призвав на помощь житейский здравый смысл.
Здравый смысл - это главное, чем привлекает к себе читателей Козьма Прутков. Некоторые считают, что он часто ломится в открытые двери, но истина, даже известная всем, нисколько не проигрывает от частого ее повторения...
Возьмем для примера "Осаду Памбы" Козьмы Пруткова. Чем навеяно это стихотворение?
Известно, что на рубеже XVIII и XIX веков Иоганн Готфрид Гердер перевел на немецкий и обработал старинные народные эпические песни испанцев. Его "Романсы о Сиде" имели громадный успех. Ими вдохновлялись поэты во многих странах, а в России им писали подражания Карамзин, Жуковский, Пушкин, Катенин...
Всем известно увлечение испанской поэзией и Козьмы Пруткова.
Некоторые современные литературоведы находят в "Осаде Памбы" реминисценции из "Романсов о Сиде" в переводе П. А. Катенина (Бухштаб), другие считают, что он "высмеивает" переводы В. А. Жуковского (Суки-асова, Берков), а нам кажется, что Прутков был знаком и с немецкими, и с русскими переводами. Пропустив их через неповторимое прутковское "я", он создал нечто особенное, всеобъемлющее, о чем говорит и подзаголовок стихотворения "Романсеро, с испанского", в котором воплощена идея отобразить дух романса вообще (романсеро - собрание романсов). Федор Михайлович Достоевский считал "Осаду Памбы" совершенно оригинальным подражанием. Он по памяти воспроизвел его в "Селе Степанчикове и его обитателях".
Но опять скажем: никто не обнимет необъятного, никто не охватит всего творчества Пруткова и тем более в кратком очерке. 1854 год кончился, и Козьма Прутков замолк.
Сперва это объяснялось тревожным временем. Разразившаяся Крымская война отвлекла от Козьмы Пруткова его друзей, А. К. Толстого и братьев Жемчужниковых, без которых как-то не писалось...
Целых шесть лет читатель не видел в журналах ни единой его строчки. Но помнил Козьму Пруткова.
И он помнил читателя. Но служебные дела занимали его целиком. В царствование Александра II повеяло запахом реформ. Козьма Прутков не мог уловить строгих начальственных нот, почва под ним всколебалась, и он стал роптать. У людей появилось собственное мнение, не удостоенное доверия начальства. Когда неизбежность реформ стала несомненной, Прутков, "враг всех так называемых вопросов", предложил "Проект: о введении единомыслия в России". Он считал, что материалом для собственного мнения может быть только мнение начальства, а для этого предлагал "учреждение такого официального повременного издания, которое давало бы руководительные взгляды на каждый предмет". Редактором такого органа мог быть только сам Прутков. Однако начальство сочло его усердие медвежьей услугой и забраковало этот выдающийся документ.
Объяснив свою неудачу завистью и происками, Прутков впал в отчаяние и в этом состоянии написал мистерию "Сродство мировых сил", где в образе Поэта вывел самого себя. К этому же времени относится гениальное: "Все сплю на камне, - дай-ка брошусь в море..."
Страхи его оказались напрасными. Кризис прошел, Козьма Прутков ожил, возвратился к прежнему самодовольству и стал ожидать значительного повышения по службе.
Разгуливая как-то по Васильевскому острову, Козьма Петрович обратил внимание на вывеску склада, находившегося в Волховском переулке и принадлежавшего какому-то немцу. "Daunen und Federn" - "Пух и перья" - значилось на ней. Название это так понравилось ему, что Козьма Прутков взял его для нового цикла своих произведений, который вскорости стал печататься в отделе "Свисток" журнала "Современник".
Добролюбов предпослал ему в марте 1860 года самое горячее и сочувственное напутствие. В журнале за прошедшие годы произошли кое-какие изменения. Решающее слово теперь имели разночинцы. Добролюбов и Чернышевский выступали против "чистого искусства", которое было дорого Козьме Пруткову. Они требовали от художника злобы дня, "живого отношения к современности".
Добролюбов в течение 1860 года неоднократно высказывался по поводу творчества К. П. Пруткова:
"Художественный индеферентизм к общественной жизни и нравственным вопросам, в котором так счастливо прежде покоились г. г. Фет и Майков (до своих патриотических творений) и другие, - теперь уже не удается новым людям, вступающим на стихотворное поприще. Кто и хотел бы сохранить прежнее бесстрастие к жизни, и тот не решается, видя, что чистая художественность привлекает общее внимание только в творениях Кузьмы Пруткова".
Но такая поддержка нисколько не радовала Козьму Петровича. Он чувствовал себя устаревшим и лишним.
Козьма Прутков стал чаще печататься и в других журналах. Новая серия "Плодов раздумья" была опубликована уже в "Искре". В этих афоризмах он блеснул глубокими рассуждениями о службе, чиновниках, генералах. С возрастом к нему пришла еще большая мудрость, о чем говорит хотя бы такое высказывание:
"Если хочешь быть покоен, не принимай горя и неприятностей на свой счет, но всегда относи их на казенный".
Однако вследствие всяких огорчений, а также "органических причин" Козьма Прутков скончался 13 января 1863 года в два и три четверти часа пополудни. Обстоятельства, предшествовавшие скорбному событию, и само оно описаны в стихотворении покойного "Предсмертное" и некрологе, опубликованном в "Современнике".
В "завещании" Козьмы Пруткова можно было прочесть:
"Я... в особенности дорожил отзывами о моих сочинениях приятелей моих: гр. А. К. Толстого и двоюродных его братьев Алексея, Александра и Владимира Жемчужниковых. Под их непосредственным влиянием и руководством развился, возмужал, окреп и усовершенствовался тот громадный литературный талант мой, который прославил имя Пруткова и поразил мир своею необыкновенною разнообразностью...
Благодарность и строгая справедливость всегда свойственны характеру человека великого и благородного, а потому смело скажу, что эти чувства внушили мне мысль обязать моим духовным завещанием вышепоименованных лиц\ издать полное собрание моих сочинений, на собственный их счет, и тем навсегда связать их малоизвестные имена с громким и известным именем К. Пруткова".
Создатели замечательного образа директора Пробирной Палатки и поэта называли себя по-разному: приятели, друзья, клевреты, опекуны, приближенные советники, представители, участники Козьмы Пруткова.
Иногда они присваивали себе пышные титулы: "Лица, создавшие и разработавшие литературную личность Козьмы Пруткова".
Но все это было уже потом, когда Козьма Петрович Прутков скончался, а слава его не умерла с ним, и появилось множество претендентов на это громкое литературное имя.
А сперва вся затея была всего лишь семейной шуткой, продолжением молодого озорства, перенесенного на страницы литературного журнала, и даже само имя Козьмы Пруткова родилось не сразу...
Шутили Алексей Константинович Толстой и его двоюродные братья Алексей, Владимир и Александр Жемчужниковы. Они были молодые, красивые, богатые, образованные и остроумные. Если они и писали стихи, то только для себя и своих знакомых. Если пьесы, то только для домашней сцены.
Алексей Константинович Толстой (1817 - 1875) еще не был тем замечательным поэтом, каким его знали позже. Он еще только начинал писать свои лирические стихи, которые почти все и по многу раз будут положены на музыку, и едва ли не половина - Римским-Корсаковым и Чайковским. Он еще не написал своих сатир, которые в списках будут ходить по всей России. Он еще только начал работать над историческим романом "Князь Серебряный", ставшим любимым чтением подростков. Еще не созрел у него замысел драматической трилогии, которая и в наше время неизменно привлекает зрителей больше, чем их могут вместить театральные залы. Постановка "Царя Федора Иоанновича" стала началом Художественного театра...
Алексей Михайлович Жемчужников (1821 - 1908) тоже стал известным поэтом и даже академиком, но таланта был скромного и основательно забылся. Впрочем, и его лучшие стихи положены на музыку. Хочется привести слова песни, известные многим, не помнящим, однако, кто их сочинил:
Сквозь вечерний туман мне, под небом стемневшим,
Слышен крик журавлей все ясней и ясней...
Александр Михайлович Жемчужников (1826 - 1896) в молодости был порядочным озорником, но именно ему выпала честь написать первую басню, положившую начало поэтическому творчеству Козьмы Пруткова. Потом он стал крупным чиновником, но не утратил веселого нрава.
И наконец, Владимир Михайлович Жемчужников (1830 - 1884), самый юный из всех "опекунов" Пруткова, стал организатором и редактором публикаций вымышленного поэта. Это он подготовил "Полное собрание сочинений" директора Пробирной Палатки, да и сама эта должность, а следовательно, львиная часть биографии поэта-сановника придумана им.
Как-то жаль раскладывать Козьму Пруткова на составные части. Пользуясь сохранившимся архивом Алексея Жемчужникова, где на стихах Козьмы Пруткова есть пометки об их принадлежности, нетрудно было разнести творчество этого поэта по отдельным авторам. Сложнее определить, кто написал вещи, не имеющие пометок, а в иных случаях и невозможно, потому что создавались они чаще всего сообща.
Своим талантом Козьма Прутков обязан прежде всего Алексею Константиновичу Толстому. Известно, что им написаны "Юнкер Шмидт", "Мой портрет", "Эпиграмма N I", "Память прошлого", что другие стихи Пруткова писались им вместе с Алексеем Жемчужниковым. Рифмы Толстого безупречны, поэзии в них - бездна, остроумия - тоже. Существуют серьезные подозрения, что и афоризмы задуманы и в основном написаны им же.
Именно талант Толстого придал такую весомость имени Козьмы Пруткова. Не так ли бывало и с некоторыми поэтами - несколько действительно талантливых и нашумевших вещей тянут за собой собрание сочинений, в котором заодно снисходительно помещается все остальное, посредственное и серое? Правда, у Козьмы Пруткова серого очень мало - камертон изобличал фальшь очень быстро, да и сам образ неусыпно стерег свою цельность.
Козьму Пруткова часто называли "гениальным" по "тупости". Сравнительно недавно В. Сквозников усомнился в этом штампованном определений сущности смешного в прутковском творчестве. В частности, анализируя стихотворение "Юнкер Шмидт", он привел выражение Б. Бухштаба "бесконечная ограниченность", назвав его не без иронии "изысканным" и тем самым показав несовместимость этих слов. В. Сквозникова подкупает это стихотворение "своей трогательностью, полной незащищенностью от обличений со стороны критики, от насмешек". И ему даже видится не надменный петербургский чиновник с изжелта-коричневым лицом, каким стал впоследствии Козьма Прутков, а уездный фельдшер или почтальон, умирающий от скуки, уныло мечтающий о неведомой красивой жизни, тайно пописывающий стишки. У стихотворения превосходная рифма ("лето" - "пистолета"), мастерская чеканка ритма, а вот перенос ударения ради сохранения метра (честное) и должно быть смешным обличением провинциального рифмоплета-любителя. Но В. Сквозников замечает и другое - добрую интонацию: "Если человеку, утратившему вкус к жизни, находящемуся в состоянии подавленности, скажут: "Юнкер Шмидт, честное слово, лето возвратится!" - то это будет шуткой, но ведь ободряющей шуткой!" Если вспомнить, что стихотворение было написано в 1851 году, когда Алексей\ Толстой влюбился в Софью Андреевну Миллер, страдал от неясности ее ответного чувства и упреков своей матери, недовольной связью сына с чужой женой, то остается сделать всего один шаг - к состоянию Алексея Константиновича, который писал тогда стихотворения, полные боли и любви. Но он мог и взбодрить себя иронией. В стихотворении о юнкере Шмидте, иронизируя над собой, Толстой прикоснулся к большому чувству. Не потому ли это стихотворение так выделяется во всем наследии Пруткова? Оно действительно трогает. Ощущение чего-то большого, глубинного остается даже в пустячке...
"Начало" Козьмы Пруткова восходит еще к 1837 году, когда Алексей Толстой в письмах к своему приятелю Николаю Адлербергу сочинял пародии на модные водевили, на "фельдмаршала Бенедиктова": "Кто же, кто же виноват, что у нашей господыни груди спелые, как дыни?", куплеты вполне в духе Пруткова, с прутковскими заглавиями и подзаголовками...
Но подлинное рождение образа связано с многочисленными Жемчужниковыми. Их мать (родная сестра матери Толстого) рано умерла, они воспитывались в различных закрытых учебных заведениях. Известны их веселый нрав и похождения в более зрелые лета, мемуарная литература полна легенд об этом. Но нигде еще не приводились воспоминания Н. А. Крылова, отца замечательного кораблестроителя А. Н. Крылова [Кадеты сороковых годов. - Исторический вестник, 1901, с. 343 - 367].
В Первом кадетском корпусе, где он учился вместе с Жемчужниковыми, мальчиков наказывали и даже секли. Но и в суровой обстановке николаевской эпохи юные Жемчужниковы не теряли чувства юмора. Друг друга кадеты звали только по фамилии. Однофамильцы получали порядковые номера, братья различались по цвету волос.
"Так и братьев Жемчужниковых звали одного - "рыженький", а другого - "серенький", - писал Н. А. Крылов. - И вот этот "серенький" в 12 - 14 лет от роду так дурачил и околпачивал все корпусное начальство, что невольно остался у меня в памяти. Впоследствии он, кажется, составлял сборный псевдоним: "Кузьма Прутков", который состоял из А. К. Толстого и двоих братьев Жемчужниковых.
Первая шалость "серенького" была еще в 1-м приготовительном классе, в котором сидело 40 человек мелюзги от 10 до 12 лет. Ждали нового учителя естественной истории. Входит "серенький" и громогласно объявляет, что он сейчас видел нового учителя: гусар, высокий, стройный, красавец, усищи до плеч, шпоры золотые и сабля отточена. Под этим впечатлением все приосанились, чтобы встретить бравого гусаря, и вдруг инспектор вводит штафирку с впалой грудью, маленького, тщедушного и на кривых ногах. Неудержимый хохот всего класса озадачил инспектора Кушакевича и нового учителя. Кадеты долго не могли успокоиться, часто раздавались фырканья, которые заражали весь класс..."
Можно было бы привести и другие примеры остроумия юных Жемчужниковых, но именно эта мистификация, кажется, лучше всего передает прутковский дух, комический эффект столкновения прекрасного мифа с жалкой действительностью, врожденное чувство смешного у создателей веселого образа.
Когда Жемчужниковы подросли, они чаще стали встречаться со своим старшим двоюродным братом А. К. Толстым, который читал им свои, тогда еще неопубликованные, стихи. Все они посвящали вообще много времени поэзии, увлекались чтением Пушкина, Гомера в переводах Гнедича. Декламировали стихи Бенедиктова, Щербины... Дурачась, молодые люди сочиняли шутливые подражания известным поэтам. По образцу печатавшихся в газетах изречений великих людей придумывали свои, произнося банальности с напыщенным видом. Афоризмы обычно содержат претензии их авторов на открытие непреложных истин. Молодые люди удачно подметили относительность таких "истин", поскольку всегда находился афоризм, утверждавший нечто совершенно обратное...
Вот так в конце сороковых годов собрался кружок, которому предстояло создать Козьму Пруткова.
Многие из тех, кто писал о Козьме Пруткове, отмечали, что он родился на свет не вдруг, что в него вошли стихи и пародии, написанные задолго до того, как появилась идея создать образ самонадеянного, а потом и чиновного стихотворца. Но на этот счет ни письма, аи "разъяснения" Жемчужниковых но проливают света. Когда пришло время открыть "тайну" Пруткова, они уже не помнили подробностей, путали даты, потому что помнить их не было нужды на протяжении десятилетий.
"Революция на пороге России. Но, клянусь, она не проникнет в Россию, пока во мне сохранится дыхание жизни", - сказал Николай I, подавив мятеж 14\ декабря 1825 года.
Был усилен надзор за "направлением умов", газетам запрещалось судить "о политических видах его величества", политические новости разрешалось сообщать только путем перепечатки их из официальных органов. II том не менее журналистика в России набирала силу. За казенным фасадом империи и стеснением внешним царствовала свобода внутренняя, духовная, что отмечал и Герцен.
Министр народного просвещения С. С. Уваров на два десятилетия запретил открытие новых периодических изданий. Потому-то Некрасов и Панаев не создали собственного журнала, а приобрели в 1846 году право на издание "Современника", основанного Пушкиным.
Пушкин был блестящим полемистом. Он любил острое слово. Он учил в споре стилизовать, пародировать слог литературного противника. Как-то он заметил: "Сей род шуток требует редкой гибкости слога; хороший пародист обладает всеми слогами".
Еще при Пушкине витийствовал в своей "Библиотеке для чтения" Осип Сенковский. Под псевдонимом "Барон Брамбеус" он устраивал гонения на ту словесность, которую родила Французская революция. Уже Барона Брамбеуса тогдашняя читающая публика была склонна воспринимать как живого, реально существующего литератора. За полтора-два десятилетия до дебюта Козьмы Пруткова в русском литературном обиходе достаточно сильно проявилась тенденция к мифологизации псевдонима.
Тогда Надеждин публиковал в "Вестнике Европы" свои злопыхательские фельетоны, надев маску "экс-студента" Никодима Аристарховича Надоумко, который будто бы жил в Москве, в переулке на Патриарших прудах в бедной каморке на третьем этаже. Юмор, латинские фразы, исторические ссылки - все входило в образ, как и мнимые собеседники Надоумко - поэты-романтики Тленский и Флюгеровский, отставной университетский корректор Пахом Силыч и другие.
Надеждин критиковал романтизм как "чадо безверия и революции", но на смену уже шла "натуральная школа. "Подражания" Козьмы Пруткова романтической поэзии были навеяны настроениями второй половины сороковых годов, когда вещание с ходуль уже казалось фальшью.
О времени, предшествовавшем появлению Козьмы Пруткова, Тургенев вспоминал:
"...Явилась целая фаланга людей, бесспорно даровитых, но на даровитости которых лежал общий отпечаток риторики, внешности, соответствующей той великой, но чисто внешней силе, которой они служили отголоском. Люди эти явились и в поэзии, и в живописи, и в журналистике, даже на театральной сцене... Что было шума и грома!"
Он называет имена этой "ложно-величавой школы" - Марлинского, Кукольника, Загоскина, Бенедиктова, Брюллова, Каратыгина...
На хладных людей я вулканом дохну,
Кипящею лавой нахлыну...
Эти бенедиктовские стихи воспринимаются как водораздел между романтизмом Пушкина и нелепостями Козьмы Пруткова.
Творчество Пруткова не понять в отрыве от сложной литературной борьбы, которая в свою очередь была отражением общественных отношений. В нем часто обыгрывалось славянофильство. Несмотря на прекрасные личные отношения с представителями этого направления русской духовной жизни, А. К. Толстой никак не идеализировал допетровскую Русь и даже писал: "Я в душе западник и ненавижу московский период" [Архив Барсуковых. Письмо А. К. Толстого к М. П. Погодину от 17 июня 1870 г.], отдавая свои симпатии периоду, предшествовавшему татаро-монгольскому игу.
В пятидесятые годы журнал "Современник" печатал произведения лучших русских литераторов - Тургенева, Григоровича, Боткина, Дружинина, Писемского, Тютчева, А. Толстого, Фета... В тот период дебютировали Гончаров и Лев Толстой. И наконец, Козьма Прутков.
Имена его создателей встречаются среди гостей на знаменитых обедах в кругу "Современника", где умели ценить шутку, сыпали эпиграммами и остротами, "попадали на темы совсем скользкие".
Когда же и при каких обстоятельствах родилось имя - Козьма Прутков?
Всякий, кто возьмется раскапывать историю возникновения псевдонима, опираясь на воспоминания, статьи, разъяснения, опровержения "друзей Козьмы Пруткова", вскоре поймет, что ему морочат голову.
Великая путаница - это часть игры в Козьму Пруткова. Троякое написание его имени - тоже. Библиографы откопали сборник "Разные стихотворения Козьмы Тимошурина", изданный в Калуге в 1848 году. Открывает его стихотворение "К музе", в котором есть такая строфа:
Не отринь же меня от эфирных объятий!..
О!.. если вниманье твое получу,
Среди многотрудных служебных занятий
Минуты покоя - тебе посвящу...
В предсмертном стихотворении Козьмы Пруткова есть нечто похожее на вирши калужского чиновника.
Но музы не отверг объятий
Среди мне вверенных занятий.
В Калуге подолгу бывал Алексей Толстой, а впоследствии жил Алексей Жемчужников...
Впервые, как известно, имя Кузьмы Пруткова появилось в печати в феврале 1854 года, когда в "Современнике" началась публикация его "Досугов". Пока он был бесплотен и жаждал лишь славы, которой удостоились другие: "Если они поэты, так и я тоже!" Но предисловие к "Досугам", помеченное 11 апреля 1853 года, значительно сдвигает дату возникновения имени.
В "Биографических сведениях о Козьме Пруткове", подготовленных Владимиром Жемчужниковым для первого издания "Полного собрания сочинений", ошибочно говорилось, что "гласная литературная деятельность" Пруткова началась в 1853 году и что "он уже занялся приготовлением отдельного издания своих сочинений, с портретом". Друзья Кузьмы Пруткова решили издать книгу его произведений и, лишь потерпев неудачу, передали прутковские материалы журналу "Современник".
Сейчас уже можно почти с уверенностью сказать, что "Досуги" писались постепенно, с 1849 по 1854 год, а потом в жизнь друзей вошла война и другие события, не располагавшие к веселым занятиям...
Через несколько лет после окончания войны имя Козьмы Пруткова снова замелькало на страницах журналов.
Возрождение поэта, казалось бы, обусловлено было возвращением всех его друзей к мирной жизни, их общением, новыми проявлениями веселого нрава. Но времена молодости ушли безвозвратно, каждый из них становился на собственную дорогу, у каждого резче обозначился характер, у каждого были свои либо творческие, либо иные планы. И она возвращались к Козьме Пруткову эпизодически, шлифуя и дополняя его судьбу, делая и его характер более определенным.
Козьма Прутков продолжал жить, и в его творчестве теперь отражалась эпоха в стократ более сложная, чем та, которая его породила. Крымская война была вехой, миновав которую Россия стала другой. Более полувека потом она вынашивала революцию, подспудно бурля, выплескивая на поверхность либералов, демократов, нигилистов, террористов, народных заступников...
Своим возрождением после войны Козьма Прутков обязан Владимиру Жемчужникову, который поддерживал тесные связи с редакцией "Современника" и, судя по материалам жандармских наблюдений, нередко бывал у Чернышевского. О его общении с Добролюбовым свидетельствуют напутствие того к "Пуху и перьям" и вообще пристальное внимание революционного демократа к творчеству Козьмы Пруткова, весьма украсившего "Свисток".
В "Свистке" произведения Пруткова звучали весьма радикально и пущены были в демократический обиход, чего никак не могли ожидать некоторые из его друзей.
Смерть Добролюбова и арест Чернышевского не остановили выхода "Свистка". Всего свет увидело в 1859 и I860 годах по три номера, в 1861, 1862 и 1863-м - по одному. "Проект" Козьмы Пруткова вместе с некрологом по поводу его безвременной кончины появились в последнем, девятом, номере "Свистка".
Впоследствии Владимир Жемчужников взял на себя все тяготы по изданию "Полного собрания сочинений Козьмы Пруткова", составил его, снабдил вступительным очерком и примечаниями. Вскоре после выхода книги он скончался в Ментоне б (18) ноября 1884 года, За год до смерти он получил письмо от историка литературы Л. Н. Пыпина, который спрашивал его о Козьме Пруткове, "о знаменитом покойном соотечественнике нашем", уже ставшем видной "исторической достопримечательностью". Вспомнилась молодость, и Прутков встал перед ним как реально существовавшее лицо, "очень хороший человек, и притом очень добрый и сердечный, лишь напускавший на себя важность и мрачность, в соответствие своему чину и своему званию поэта и философа".
Владимир Жемчужников написал письмо брату Алексею, и тот тоже согласился сообщить кое-какие сведения о "достолюбезном и достопочтенном Косьме Пруткове".
Но как-то так получилось, что даже "друзьям" Козьмы Пруткова, когда они уже были в возрасте, этот образ казался сложившимся едва ли не с самого начала,
"Все мы были молоды, - вспоминал Алексей Жемчужников, - и настроение кружка, при котором возникли творения Пруткова, было веселое, но с примесью сатирически-критического отношения к современным литературным явлениям и к явлениям современной жизни. Хотя каждый из нас имел свой особый политический характер, но всех нас соединила плотно одна общая нам черта: полное отсутствие "казенности" в нас самих и, вследствие этого, большая чуткость ко всему "казенному". Эта черта помогла нам - сперва независимо от нашей воли и вполне непреднамеренно, - создать тип Кузьмы Пруткова, который до того казенный, что ни мысли его, ни чувству недоступна никакая так называемая злоба дня, если на нее не обращено внимания с казенной точки зрения. Он потому и смешон, что вполне невинен. Он как бы говорит в своих творениях: "все человеческое - мне чуждо". Уже после, по мере того как этот тип выяснялся, казенный характер его стал подчеркиваться. Так, в своих "прожектах" он является сознательно казенным человеком. Выставляя публицистическую и иную деятельность Пруткова в таком виде, его "присные" или "клевреты" (как ты называешь Толстого, себя и меня) тем самым заявили свое собственное отношение "к эпохе борьбы с превратными идеями, к деятельности негласного комитета" и т. д. Мы богато одарили Пруткова такими свойствами, которые делали его ненужным для того времени человеком, и беспощадно отобрали у него такие свойства, которые могли его сделать хотя несколько полезным для своей эпохи. Отсутствие одних и присутствие других из этих свойств - равно комичны; и честь понимания этого комизма принадлежит нам".
Но в том-то и дело, что ничего "казенного" в самонадеянном поэте, объявившем впервые свое имя в 1854 году, при всем желании найти невозможно. Он хотел славы, он требовал поклонения толпы, но специфически чиновничьего в- нем еще ничего нет. С одним можно согласиться - в его характере отразилась помпезность эпохи.
Владимир Жемчужников, препровождая письмо брата к Пыпину, в своих заметках уже немного уточняет характер раннего Пруткова:
"Нравственный и умственный образ К. Пруткова создался, как говорит мой брат, не вдруг, а постепенно, как бы сам собою, и лишь потом дополнялся и дорисовывался нами сознательно. Кое-что из вошедшего в творения Кузьмы Пруткова было написано даже ранее представления нами, в своих головах, единого творца литератора, типического, самодовольного, тупого, добродушного и благонамеренного".
Чиновничье в Пруткове начинает мелькать где-то в самом конце его жизни, но биографию, чин он обретает впервые только в некрологе, напечатанном в последнем номере "Свистка". Трудно сказать, когда пришло в голову его друзьям (скорее всего, Владимиру Жемчужникову) сделать этот ход, под который великолепно легло все предыдущее творчество Козьмы Пруткова.
Это была гениальная идея - сделать Козьму Петровича Пруткова действительным статским советником и директором Пробирной Палатки, учреждения не мифического, а существовавшего на самом деле...
В свое время основатель советского "пруткововедения" П. Н. Верков обратился к проживавшему на покое крупному дореволюционному экономисту и финансисту А. Н. Гурьеву с просьбой объяснить, какое место занимала Пробирная Палатка в системе царского министерства финансов, и, очевидно, выразил удивление, как мог "дурак" руководить департаментом.
Сохранилось ответное письмо Гурьева от 1933 года, в котором просквозила обида за директоров департаментов.
"В старом министерском строе назначались директора только департаментов, "дураками" они не были, - писал Гурьев. - Прутковской компании нужен был "авторитетный дурак", и замечательно правильно и остроумно остановили они свой выбор на директоре Пробирной Палатки. Уже словесный состав этого названия умаляет в глазах читателя "директора палатки", а для людей, знакомых с бюрократическими учреждениями, оно било не в бровь, а в глаз. Дело в том, что почти в каждом министерстве, помимо учреждений, входивших в состав центрального управления, имелись еще особые учреждения, тоже центрального характера, но с функциями чисто исполнительными. Они не занимались самым главным делом министерств (и следовательно, директоров департаментов) - проектированием законов, а вели заведенное дело. В министерстве финансов такими учреждениями были Пробирная Палатка и Комиссия погашения государственных долгов. Оба учреждения находились на Казанской улице в казенных домах, с огромными квартирами для начальствующих генералов. Директорами этих учреждений делали заслуженных дураков, которых нельзя было пропустить в директора департаментов. Генеральский чин, большой оклад содержания и огромная квартира в восемнадцать комнат, разумеется, делали этих заслуженных дураков весьма авторитетными [Текст письма цит. по кн.: С у к и а с о в а И. М. Язык и стиль пародий Козьмы Пруткова. Тбилиси, 1961, с. 113.].
Но почему же после такого успеха в "Свистке" решено было прекратить жизнь Козьме Пруткову?
Ответ на это содержится в одном из нисем Владимира Жемчужникова, где он говорит, как "по распадении Косьмы Пруткова, т. е. по смерти его, многое печаталось беззаконно и бесстыдно от его имени".
Упомянутое вскользь "распадение" объясняет многое. Кружка уже не существовало. Тот же Владимир Жемчужников в статье "Защита памяти Косьмы Петровича Пруткова" писал об остатках творений вымышленного поэта, печатавшихся в "Современнике" в 1863 году.
Выходит, Козьма Прутков и в самом деле скончался "естественной смертью", поскольку его творческие, а следовательно, жизненные силы иссякли.
В 1864 году в "Современник" была отдана комедия "Торжество добродетели", подписанная, чтобы не возрождать Козьму Пруткова, его сыновьями Агапием и Антоном. Она не была пропущена цензурой.
Запал, видно, все-таки остался. Козьма Прутков умер, но попытки кое-что добавить к его творчеству, уточнить и расширить его образ делались не раз. Однако писали уже порознь.
Активен был Александр Жемчужников, находивший время для шутливой писанины, хотя был губернатором в Вильне,
Алексей Толстой участие в игре больше не принимал и даже считал ее пустячком, не стоившим упоминания. И все-таки творчество Козьмы Пруткова и стихи Толстого, юмориста и сатирика, связаны невидимыми, по прочными нитями. Эта связь в поэтической лихости, в невероятной сатирической меткости. Еще "пруткововед" В. Сквозников очень удачно говорил о "словесных (от переизбытка сил!) дурачествах, которыми развлекались веселые аристократы с глубоким народным корнем", и предлагал вспомнить размышления Чичикова, в которые Гоголь вложил собственный восторг перед стихией народной речи: "... Нет слова, которое было бы так замашисто, бойко, так вырвалось бы из-под самого сердца, так бы кипело и животрепетало, как метко сказанное русское слово".
"Бойкость" Козьмы Пруткова проявляется в игре словами, в сопряжении высокого и низкого. Как смешна фраза из "Моего портрета", в которой звучит насмешка над позой, над ложной непреклонностью: "Кто ни пред кем спины не клонит гибкой..."
Смешны многие пародии Пруткова, по если вдуматься в них, то можно заметить отличие их от того пародирования, когда насмешник, вцепившись в неудачный стих, старается повернуть его так и сяк, чтобы вызвать смех повтором ошибки, и даже переходит на личности, что иногда смешно, но выходит за рамки литературной этики. Прутковская пародия помогает понять дух, идею стихотворения или целого поэтического направления, но ирония ее не оскорбительна, и поэтому мы не обижаемся за любимых классиков, встречаясь с ними в веселой прутковской обработке.
И вообще следует осторожно подходить к оценкам произведений Пруткова, иные из которых можно принять за сатиру, но на самом деле они оказываются пародией на "обличения". Ирония их гибка, толкование ее очень и очень неоднозначно.
Самые смешные, самые лихие стихотворения Толстого всегда содержат зерно неожиданного глубокомыслия, которое, вызвав смех, заставляет задумываться.
Алексей Толстой часто упоминал имя Ломоносова. И, наверно, он знал, что Ломоносов считал одной из самых разительных черт русского сознания "веселие духа", "веселие ума". Толстой обладал этим свойством в не меньшей степени, чем сам Ломоносов, который оставил нам образцы юмора почти в прутковском роде. В них тот же здоровый дух, больше добродушия и веселья, чем злости.
Исторически именно Ломоносов - не Сумароков с его пародийными "Вздорными одами", не Василий Майков с его бурлескным "Елисеем" и даже не сатирики века Екатерины - был пращуром А. К. Толстого и других друзей Козьмы Пруткова.
Пушкин считал национальным признаком русских "веселое лукавство ума". Алексей Константинович Толстой обладал этим качеством в полной мере. Было бы кстати вспомнить здесь о "Нравоучительных четверостишиях" Языкова, которые, как считают, были им написаны вместе с Пушкиным. Они кажутся совсем "прутковскими". Вот, например, "Закон природы":
Фиалка в воздуха свой аромат лила,
А волк злодействовал в пасущемся пароде;
Он кровожаден был, фиалочка мила:
Всяк следует своей природе.
"Нравоучительные четверостишия" были задуманы как пародии на дидактические стихотворения И. И. Дмитриева, но об этом вспоминают лишь в примечаниях - стихи живут собственной жизнью уже более ста пятидесяти лет.
Интересно предположение П. Н. Беркова, что толчком для создания "Выдержек из записок моего деда" Пруткова могли быть погодинские публикации мемуаров, вроде "Мелочей из запаса моей памяти" М. А. Дмитриева, собрания анекдотов о литературных нравах конца XVIII и начала XIX века.
Но ирония над дремучей ученостью, заключенная в "Предисловии", и великолепный юмор "Гисторических материалов" едва ли не с самого начала зажили собственной жизнью и воспринимаются до сих пор безотносительно к истории. Алексей Толстой обладал замечательной способностью стилизовать свои шуточные письма и стихи, насыщая их духом и языком самых разных эпох, что дает, основание приписать именно ему замысел и осуществление первых и главных "Выдержек из записок моего деда".
Неосознаваемое влияние "неуклюжей грации" "Гисторических материалов" на многих пишущих дожило до наших дней. Стоит кому-нибудь из современных журналистов вздумать поиронизировать, как он тотчас хватается за то, что лежит ближе всего, - за растасканный многими предыдущими поколениями пишущей братии синтаксис прутковских анекдотов, за архаизмы "сей", "оный", "отменный", "всем ведомый", за все то, что когда-то было открытием, а теперь составляет иронический стереотип.
С. А. Венгеров, библиограф и историк литературы, в начале XX века уверял, что "популярность Кузьмы Пруткова в значительной степени преувеличена и главным образом держится на нескольких забавных своею напыщенною наивностью афоризмах. В общем, Кузьма Прутков скорее поражает тем, что в его смехе много таланту потрачено так безрезультатно для подъема общественного самосознания и это нельзя не привести в прямую связь с идейным упадком безвременья первой половины 50-х годов. С литературной точки зрения юмористы новой эпохи часто были гораздо ниже Кузьмы Пруткова, но общественное значение их сатиры было ярче" [Венгеров С. А. Очерки по истории русской литературы. Спб., 1907, с. 66.].
Общественное значение бывает сиюминутно, а талант, если он тратится, а не зарывается, дает своим детищам жизнь долгую.
Время показало, что Козьма Прутков бессмертен. Образ директора Пробирной Палатки и поэта - это замечательная находка, оцененная не только ее авторами.
В веселую и умную игру включились и поддержали ее самые талантливые люди разных времен.
Создатели Козьмы Пруткова оставили его дела в таком состоянии, что невольно напрашивается их продолжение. В мир и миф Пруткова приглашаются все желающие - бери, используй, фантазируй дальше. Универсальность прутковского юмора, топкого и одновременно многослойного, не могла не привлекать умнейших людей многих поколений.
Творчество Козьмы Пруткова не потеряло своей злободневности потому еще, что оно преподносилось под личиной глубокого, прирожденного добродушия. "Злобные" литераторы вычеркиваются народной памятью более охотно.
Многие упрямо стараются превратить Козьму Пруткова в обыкновенного пародиста и отыскали уже немало поэтов и их стихотворений, послуживших ему образцами для "подражаний", но при этом как-то забывается и стирается гениальный образ директора Пробирной Палатки. А ведь это главное.
Да и сами пародии вовсе не "высмеивают" того или иного уважаемого поэта, а чаще оказываются забавным отражением целых литературных течений и явлений, в них косвенным образом воспроизводятся умонастроения общества. Порой они достигают такой силы и универсальности, что теряется ощущение времени - никто и не вспоминает обстоятельств, при которых они написаны, Прутков становится нашим современником.
В его облике и творчестве отразились очень многие приметы российской действительности. Его друзья и авторы были яркими представителями той культуры, которая, взяв у всего человечества лучшее, не порвала с родной почвой, так как только на ней и могла жить. Это русская культура XIX века, одно из высших достижений человеческого гения.
П85 Сочинения Козьмы Пруткова/Сост. и послесл. Д. А. Жукова; Примеч. А. К. Бабореко; Оформ. В. В. Вагина. - М.: Сов. Россия, 1981. - 304 с, ил., 1 портр.