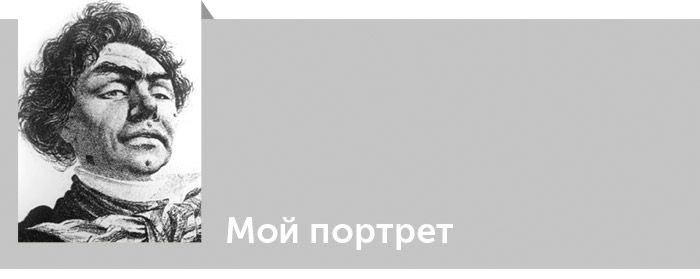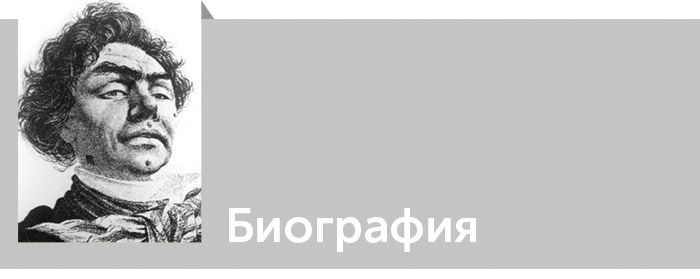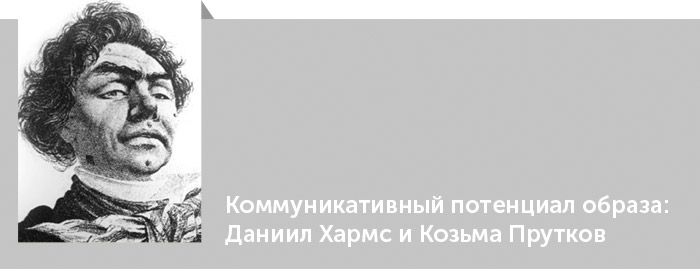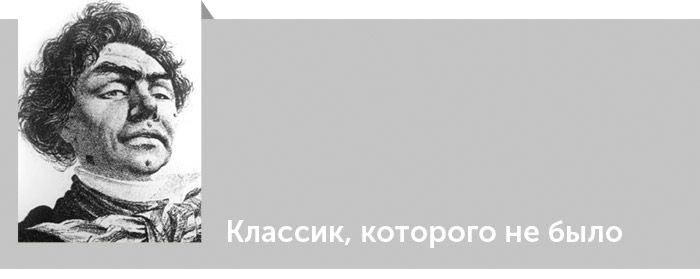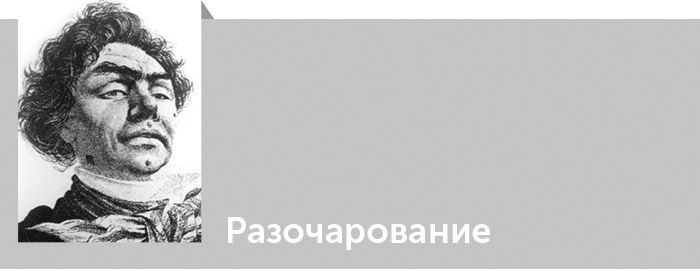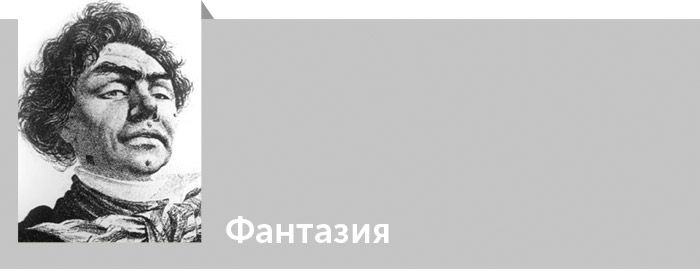Наш доброжелатель Козьма Прутков
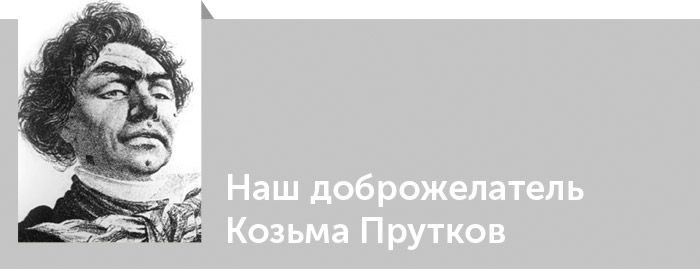
Феликс Кривин
Давайте закроем глаза на общеизвестную истину, что автор этой книги никогда не существовал, и отнесемся к нему как к реальному человеку. Тем более что о жизни его нам известно больше, чем о жизни многих из тех, кто реально существовал. Он оставил после себя немало открытий, озарений и наставлений будущим поколениям. Это он открыл, что нельзя объять необъятное, установил, что человек раздвоен снизу, а не сверху, потому что две опоры надежней одной, и завещал нам, его читателям: бросая в воду камешки, смотрите на круги, ими образуемые, иначе такое бросание будет пустою забавою.
Он оставил нам немало мудрых мыслей, которые при ближайшем рассмотрении могут показаться глупостями, но мы их помним, повторяем, цитируем, нам нужна эта мудрость, которая при ближайшем рассмотрении глупость, в отличие от многих мудростей, которые мы готовы забыть навсегда. Каким-то загадочным образом в произведениях этого автора мудрость переходит в глупость, а глупость в мудрость, и мы не в силах ответить на поставленный им же вопрос: где начало того конца, которым оканчивается начало?
Мудрые мысли рождаются точно так же, как и глупые, и даже нередко в одних и тех же головах. Но сквозь сито ума одни из нас просеивают мудрость, другие — глупость. «Вытапливай воск, но сохраняй мед»,— сказал мудрец, который сам поступал наоборот, а потому больше известен своей глупостью.
Иногда, впрочем, ему удавалось сохранить мед, и тогда под его пером рождались мудрые мысли. «Мудрость уменьшает жалобы, но не страдания» — эта мысль сделала бы честь очень умному человеку.
Нет, Козьма Прутков не был глуп, хотя современники, в том числе и близкие друзья, считали его ограниченным и даже тупым человеком. Он даже был по-своему глубокомыслен, но при этом мысли его были больше глубоки, чем мудры, словно он нырял за ними в колодец, но таи, в темноте, хватал первое попавшееся: «Щелкни кобылу в нос — она махнет хвостом». Не исключено, что это были мудрые мысли, только не додуманные до конца. У него, как он сам признавался, было много недодуманного, неоконченного (d'inacheve). Но, с другой стороны, невозможно предугадать, что получилось бы, если б он додумывал свои мысли...
Ясно одно: Козьма Прутков не от природы глуп, просто он попал в глупое положение. Его поставили в глупое положение его головокружительный пост директора Пробирной Палатки, а особенно лавры великого писателя, слишком развесистые для его таланта и для того места в литературе, которое он по своей наивности занимал.
Как истинно великий писатель, Козьма Прутков не тратил времени на детские и юношеские годы, он родился — и сразу стал печататься. И даже раньше стал печататься, чем родился. Произведения его вышли в свет за три года до того, как он появился на свет,— факт сам по себе весьма примечательный.
Более того: как мы узнаем из посмертной его биографии, ко времени своего рождения он был не только зрелый пятидесятилетний писатель, но также директор Пробирной Палатки и разных орденов кавалер.
Загадка времени рождения может быть объяснена местом рождения. Родился Козьма Петрович Прутков в журнале «Современник» в 1854 году, после того, как дважды напечатался в нем безымянно.
В «Современнике» родились многие замечательные русские писатели, так что рождение в нем Козьмы Пруткова делало этому автору честь. Хотя сам он так не считал. Он считал, что сам может сделать честь кому угодно. И об этом он прямо заявил при своем рождении в 1854 году.
Это были трудные годы в русской сатирической литературе. Гоголь умер, Чехов еще не родился, Салтыков-Щедрин сослан в Вятку и, получив должность губернского советника, вынужден воздерживаться от советов в литературе.
Козьма Прутков, тоже советник, причем действительный статский советник, от советов не воздерживается, советы — его излюбленный жанр. «Смотри в корень!», «Козыряй!», «Всегда держись начеку!»
Самое замечательное в этом человеке, в этом действительном статском советнике, было то, что он совмещал роль сатирика с ролью сатирического персонажа, был одновременно субъектом и объектом критики, и это, естественно, удваивало его славу. Не потому ли он до сих пор пользуется симпатией читателей, что он не только объект критики, но и субъект?
Все свои обращения к читателю он подписывал обычно: «Твой доброжелатель». Так подписывают анонимные кляузы, и подозрение в этом усугубляется тем, что супруга Козьмы Петровича в девичестве носила сомнительную фамилию Проклеветантова. Но это не более как случайные совпадения: рядом с анонимной подписью «твой доброжелатель» честный и мужественный автор неизменно ставил свою личную: «Козьма Прутков».
Своей матери он не помнит. Возможно, ее совсем не было. Известно только, что у него было три отца: Алексей Константинович Толстой и братья Алексей и Владимир Жемчужниковы. Такое обилие отцов при полном отсутствии матери придало стилю Козьмы Пруткова твердость и прямолинейность, но лишило его некоторой тонкости.
Если бы известная народная мудрость гласила: «Скажи мне, кто твой отец, и я скажу, кто ты», — сказанного было бы достаточно. Но народная мудрость гласит иначе: «Скажи, кто твой друг...» А раз так, необходимо назвать друзей Пруткова — Некрасова, Панаева и Добролюбова. Это они печатали его в «Современнике», это они вдохновляли его на великие дела, и, при том, что и сами породили плеяду замечательных поэтов — от Нового Поэта до Конрада Лилиеншвагера и Аполлона Капелькина,— пальму первенства они отдали самому достойному — Козьме Петровичу Пруткову.
Потому что у него было свое лицо. И не просто свое лицо, а лицо живое, запоминающееся и настолько незаурядное, что оно с первого взгляда было запрещено цензурой. Скажем прямо, цензура была строга, но если запрещать даже лицо, как же тогда появляться в обществе? Тем более что авторы портрета (художники Лев Жемчужников, Бейдеман и Лагорио) ничего не придумали, а нарисовали Козьму Пруткова таким, каким он предстал со страниц своих произведений...
Человек доверчивый и преданный всем руководящим установкам («Только в государственной службе познаёшь истину!»), Козьма Прутков лучше относился к цензуре, чем она к нему. Как свидетельствует (со слов Панаева) Владимир Жемчужников, некоторым его творениям «препятствовали цензурные условия; но Козьма Петрович, сам действительный статский советник и кавалер, не верил этому». Не потому ли, что это был именно тот самый слон, на клетке которого было написано: «Буйвол»?
Как уже было сказано, Козьма Петрович был женат. Возможно, он даже любил, о чем свидетельствуют свыше десятка детей, рожденных им в законном браке, а также его признание: «Гони любовь хоть в дверь, она влетит в окно». И хотя из целомудренных соображений он советовал не шутить с женщинами, поскольку эти шутки глупы и неприличны, но одной из неизвестных (NN) признался в порыве целомудрия:
Вы знаете, я слаб
Пред волей женщины, тем более девицы.
Неизвестные не известны, но известные навсегда остались в стихах поэта. Здесь и Катерина, и Зоя, и Маланья, и Амалья, и Инезилья... Нет только Антониды — так звали его жену.
Да, несмотря на свое выдающееся положение в Пробирной Палатке, а также в литературе того времени, Козьма Петрович не был чужд нежных чувств... Но все они умолкали перед чувством долга: «Приятно поласкать дитя или собаку, но всего необходимее полоскать рот».
Как истинный сын своей бюрократической эпохи, Козьма Прутков сам ничего не писал, а лишь подписывал то, что ему приносили на подпись — Алексей Толстой и братья Жемчужниковы. Иногда приносил еще один брат Жемчужников, Александр, а однажды прислал даже Петр Ершов из далекого города Тобольска. Ставя свою подпись под тем, что писали другие, Козьма Петрович не испытывал чувства неловкости, а, наоборот, поднимался над авторами, да и вообще над литературой. Хотя, возможно, он сознавал, что подписывает несовершенное, незавершенное (d'inacheve).
Когда поэт становится чиновником, он поднимается над литературой. А когда чиновник становится поэтом, он опускает литературу до себя. Козьма Прутков стал одновременно и тем и другим, поэтому он опускал литературу до себя и одновременно поднимался над литературой. Для этого, как свидетельствуют его биографы, у него были все качества: самодовольство и ограниченность, решительность и прямолинейность. С той важной оговоркой, что ограниченность не противоречит уму: она его только ограничивает.
Опыт Козьмы Пруткова показывает, что как бы ни был силен ум человека, но под влиянием самодовольства и самоупоения он может превратиться в свою противоположность.
Впрочем, хватит об уме! Были у Козьмы Петровича Пруткова и другие достоинства.
Он был добродушен. Подписываясь «твой доброжелатель», он действительно желал читателю добра, но делать добро ему мешали другие качества. А также принципы, которые он всегда приводил в соответствие с принципами начальства. Это особый вид принципиальности — приводить свои принципы в соответствие с принципами начальства. («Сознаюсь, читатель: я даже повторял чужие слова против убеждения!»)
Эта принципиальность четко выражена в программном стихотворении «Мой портрет»:
Когда в толпе ты встретишь человека,
Который наг...
В сноске к слову «наг» дается вариант: «На коем фрак». Нужен фрак — пожалуйста, не нужен — и нагишом обойдемся.
Неизменным оставалось то, что больше всего ценит начальство: благонамеренность. Иногда даже — «опасная политическая благонамеренность» (как сказано об одном из коллег Козьмы Пруткова, тоже действительном статском советнике). Хотя уже тогда было известно: благими намерениями вымощен ад (что и прежде, и впоследствии не раз подтверждалось).
Еще одно важное качество Козьмы Пруткова (по наблюдению Владимира Жемчужникова) — «патриотическое предпочтение даже худшего родного лучшему чужестранному». Впрочем, большого значения поэт этому не придавал и считал это просто разницей вкусов:
С ума ты сходишь от Берлина;
Мне ж больше нравится Медынь.
Тебе, дружок, и горький хрен — малина,
А мне и бланманже — полынь.
Неоднократное сопоставление Козьмы Пруткова с Козьмой Мининым и даже с Козимо Медичи уводит читателя от истинного смысла его имени. Скорее всего Кузьмой, а впоследствии Козьмой, его назвали, желая читателя подкузьмить. А Прутковым, — вероятно, желая читателя высечь. Нет, не высечь в мраморе, на что мог рассчитывать только Козьма Прутков, а высечь насмешкой, причем не только читателя и не столько читателя, сколько самого себя — самодовольного и напыщенного поэта-чиновника. Высечь в мраморе и одновременно высечь насмешкой,— вот как, видимо, расшифровывается это загадочное имя.
Ведь в том и состояло его предназначение, чтобы сечь самого себя, выставляя на общий обзор и позор свои смешные и нелепые качества, в которых легко узнавались качества современных ему поэтов — Бенедиктова, Хомякова, Щербины и других. Это был популярный в то время литературный прием: отрицание утверждением, разоблачение восхвалением. Это была ирония — самое убийственное оружие сатиры.
И все смеялись. Сама «несмеющаяся эпоха» (так назвал ее Блок) смеялась, читая и созерцая Козьму Пруткова, и только он один был серьезен. Всегда серьезен. Потому что сознавал всю возложенную на него ответственность. Как директор Пробирной Палатки, как ответственный писатель (один из немногих ответственных писателей, чье имя осталось в литературе). Как ответственный писатель своего времени, Козьма Прутков на многое дал ответ, но при этом старался обойтись без вопросов. Ответы — да, но вопросов чтоб не было. «Я враг всех так называемых вопросов»,— прямо заявлял он. Н. А. Добролюбов, помогавший ему печататься в «Современнике», свидетельствует, что Козьма Петрович просто-напросто исчезал, когда поднимались великие общественные вопросы. Так о нем ничего не было слышно в течение пяти лет, когда после смерти царя Николая в России началось общественное оживление. И появился он, лишь окончательно убедившись, что «все в обществе осталось по-прежнему: там много неоконченного (d'inacheve)». Так чисто литературное прутковское словцо d'inacheve приобрело неожиданно социальное звучание.
Добродушный нрав общего доброжелателя, так не соответствующий его высокому положению на государственной службе и в литературе, снискал ему любовь читающей публики. И не только читающей, но и пишущей публики: из своих бессмертных произведений Козьма Прутков вошел как хозяин в чужие бессмертные произведения. Так, у Достоевского в «Зимних заметках о летних впечатлениях» о нем говорили: «Есть у нас теперь один замечательный писатель, краса нашего времени, некто Козьма Прутков. Весь недостаток его состоит в непостижимой скромности».
Но при всей этой любви и уважении Козьма Петрович, как и всякий великий писатель, был при жизни недостаточно оценен: его Полное собрание вышло лишь через двадцать один год после его смерти.
Подготовил Полное собрание сочинений Козьмы Пруткова Владимир Михайлович Жемчужников, который, в отличие от Алексея Жемчужникова и Алексея Толстого, ничего не писал и не печатал, кроме произведений своего любимого писателя. Его перу принадлежит лучшее произведение Козьмы Пруткова — «Проект: о введении единомыслия в России».
Владимир Жемчужников ничего не жалел для своего любимца и даже подарил ему собственную дату рождения — 11 апреля. Эта дата стала для Козьмы столь ценным подарком, что он все значительные события своей жизни, а также литературные произведения датировал 11-м числом, независимо от их действительной даты. А свой год рождения — 1803 — он переделал из 1830-го — года рождения своего крестного отца.
Умер этот замечательный писатель, как утверждают его биографы, в 1863 году. Он мог спокойно умереть: трудные времена для русской сатиры кончились (настолько, насколько могут кончиться для сатиры трудные времена). Чехов уже родился. Салтыков-Щедрин вернулся из ссылки в государственную службу и целиком отдался литературной деятельности.
Правда, не было сатирика, который сам пожелал бы стать объектом сатиры, но в этом не было большой беды: чего-чего, а объектов сатиры всегда было достаточно.
В год смерти Козьмы Пруткова вышли «Невинные рассказы» Салтыкова-Щедрина, в которых впервые родилось слово, применимое ко всему литературному творчеству покойного, но бессмертного писателя.
Благоглупости.
То есть глупости, произносимые с важным видом. С умным видом. С таким видом, словно это великие мудрости.
Этот факт заставляет усомниться в том, что Козьма Прутков умер. Возможно, он просто переселился в книги Салтыкова-Щедрина, а затем и в книги других сатириков. Ведь благоглупостей много — пока их все изречешь. Тут не хватит ни Щедрина, ни всей сатирической литературы.
Благоглупостей хватает во всех временах. Благодаря этому печальному обстоятельству, Козьма Прутков выходит за рамки породившего его «Современника» и становится современником всей литературы.
Источник: Сочинения Козьмы Пруткова. Классики и современники: Русская классическая литература. Москва: Художественная литература, 1987.