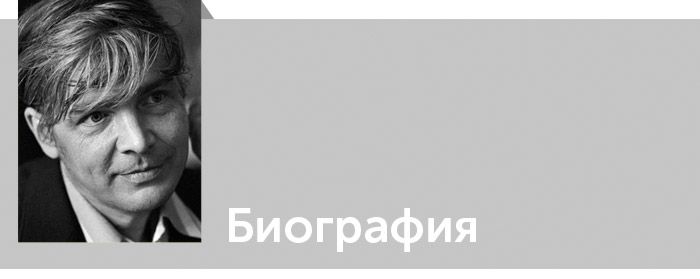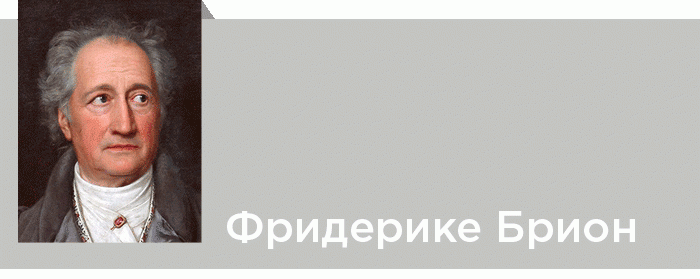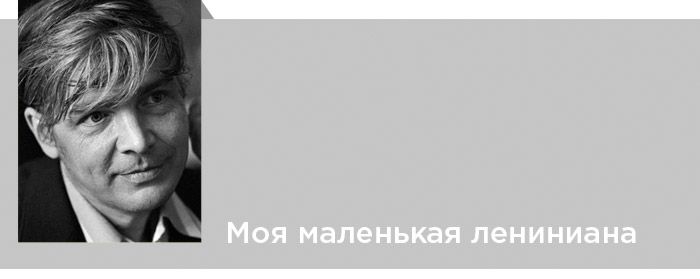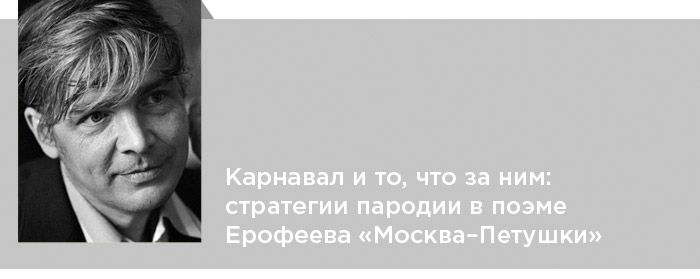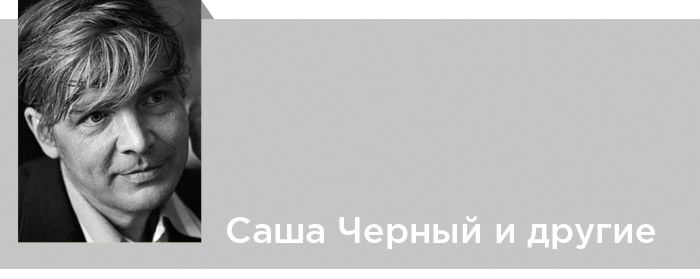Путь к смерти и ее смысл в поэме Вен. Ерофеева «Москва–Петушки»
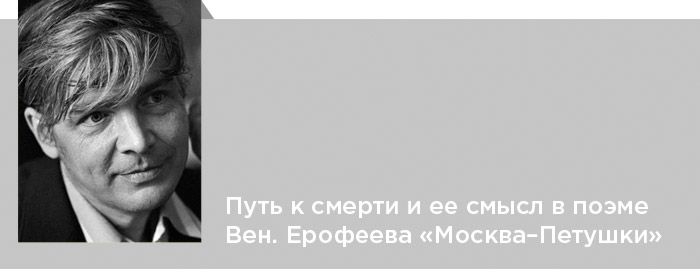
Е. А. Козицкая.
Тверь
Среди многочисленных подтекстов поэмы «Москва–Петушки», выделяемых исследователями, присутствует и библейский. Целому ряду эпизодов из жизни Венички ставятся в соответствие определенные этапы жертвенного пути Христа.[134] «В свете категорий авторского кругозора поэма „Москва–Петушки“ предстает в виде апокрифического евангелия от Ерофеева, в котором пьяница и сквернослов Веничка обретает облик Сына Божьего, посланного в мир людей, вкусившего все страдания человеческие и распятого злой силой этого мира».[135] Вместе с тем, насколько нам известно, причины такого параллелизма обычно полагаются заведомо понятными и не нуждающимися в особых комментариях. Гибель Венички в финале поэмы, рассматриваемая как «смерть… энтропия… или переход в иную плоскость»,[136] как метафора несвободы человека в тоталитарном государстве или как убийство героя уличными бандитами, объясняется исследователями более или менее сходным образом. «Мир, в котором обитают герои поэмы Ерофеева, абсурден. В нем нет места человеку с золотым сердцем и чистой душой младенца — Веничке».[137] (В этом, как справедливо отмечается в ряде комментариев, герой ерофеевской поэмы сродни персонажу романа Ф. Достоевского «Идиот» Мышкину, «князю-Христу».)
Как нам представляется, в указанной учеными параллели, вполне убедительно аргументированной, все же остается опущенным одно важное звено. Христос пришел на землю с ясным осознанием своей миссии: взять на себя грехи мира и мученической гибелью искупить их. Этого нельзя сказать о герое «Москвы–Петушков». «За чьи грехи погибла душа Венички Ерофеева?»[138] И есть ли основания утверждать, что его смерть, подобно смерти Христа, была добровольной (пусть даже подсознательно) жертвой во имя человечества?
Некоторые фрагменты поэмы, на наш взгляд, действительно говорят в пользу последнего предположения. Так, в первой же главе, «Москва. На пути к Курскому вокзалу», герой выбирает свою дорогу: «Я пошел направо, чуть покачиваясь от холода и от горя…» (с. 18). По мнению Э. Власова, здесь «пародируется традиционная фольклорная ситуация „витязя на распутье“ <…> Литературным источником пассажа является былины, в которой <…> сын царя Саула, родившийся в его отсутствие, едет на поиски отца, и конечной целью его поездки является встреча с отцом. <…> Веничка, естественно, выбирает дорогу направо, где ему „самому смерть“, то есть уже в первой главе поэмы предвосхищает ее финал» (с. 141). Следовательно, герой вполне добровольно, хотя и подсознательно, выбирает смерть. Причем добровольность эта подчеркнута: «Если хочешь идти налево, Веничка, иди налево, я тебя не принуждаю ни к чему. Если хочешь идти направо — иди направо» (с. 18). В главе «Москва — Серп и Молот» питие героя, обусловленное состоянием его души, сопоставляется с мученичеством святой:[139]
«И, весь в синих молниях, Господь мне ответил:
— А для чего нужны стигматы святой Терезе? Они ведь ей тоже не нужны. Но они ей желанны.
— Вот-вот! — отвечал я в восторге. — Вот и мне, и мне тоже — желанно мне это, но ничуть не нужно!» (с. 26).
В то же время последнее замечание героя достаточно двусмысленно и заставляет вспомнить о других его высказываниях, где он решительно отграничивает себя от людей, выражая свое неприятие этого мира. «Да брось ты, — отмахнулся я и от себя, — разве суета мне твоя нужна? Люди разве твои нужны? Ведь вот Искупитель даже, и даже Маме своей родной, и то говорил: „Что мне до тебя“? А уж тем более мне <курсив наш. — Е.К.> — что мне до этих суетящихся и постылых?» (с. 19). «Ну, конечно, все они считают меня дурным человеком» (с. 25). «Вот что дали мне люди взамен того, по чему тоскует душа» (с. 26). «Зато у моего народа — какие глаза! <…> Полное отсутствие всякого смысла — но зато какая мощь!» (с. 28). «И смотрят мне в глаза, смотрят с упреком, смотрят с ожесточением людей, не могущих постигнуть какую-то заключенную во мне тайну» (с. 29). «Я оглянулся — пассажиры поезда „Москва–Петушки“ сидели по своим местам и грязно улыбались» (с. 95). Люди иронически именуются «публикой» или даже «трезвой публикой» (глава «85-й километр — Орехово-Зуево»), «стадом» («Дрезна–85-й километр»), «палачами» («Москва. Ресторан Курского вокзала»). Даже помня о «золотом сердце» героя и органически присущей ему христианской любви-жалости к ближнему («Бог, умирая на кресте, заповедовал нам жалость, а зубоскальства он нам не заповедовал. Жалость и любовь к миру — едины» — с. 74), сложно расценить приведенные высказывания как выражение желания пожертвовать ради таких людей жизнью: для этого надо быть богочеловеком, «сверхчеловеком», каковым Веничка, по собственному признанию, не является (с. 20).
Таким образом, перед нами явный парадокс: герой внутренне отказывается от миссии Христа, но не от его крестного пути. Представляется, что одно из возможных объяснений состоит в следующем.
Тема смерти впервые — и эксплицитно — заявлена в тексте как тема смерти ребенка, причем без видимых причин, по очень вольной, если не сказать натянутой, ассоциативной связи: «… я только что подсчитал, что с улицы Чехова и до этого подъезда я выпил еще на шесть рублей — а что и где я пил? и в какой последовательности? Во благо себе я пил или во зло? Никто этого не знает, и никогда теперь не узнает. Не знаем же мы вот до сих пор: царь Борис убил царевича Димитрия или наоборот?» (с. 18). Такого рода неожиданные ассоциации с точки зрения психологии объясняются подсознательной глубокой сосредоточенностью человека на какой-либо проблеме. Это подтверждает и обращение к дальнейшему тексту поэмы. Кроме случаев риторически-спекулятивного употребления слов «младенец» и «дети» («Не буду вам напоминать, как очищается политура. Это всякий младенец знает» — «Электроугли–43-й километр», с. 55; «А кто за тебя детишек будет воспитывать? Пушкин, что ли?» — «Павлово-Посад — Назарьево», с. 76), тема детства соотносится в сознании героя ерофеевской поэмы не только с божественной чистотой и мудростью, но и с хрупкостью, незащищенностью, смертельной опасностью для жизни ребенка. «Однажды, на моих глазах, два маленьких мальчика, поддавшись всеобщей панике, побежали вместе со стадом и были насмерть раздавлены — так и остались лежать в проходе, в посиневших руках сжимая свои билеты…»[140] («Дрезна–85-й километр», с. 83). Естественно, что героя гнетет опасение и за собственного сына, который, как отмечалось исследователем, выступает в роли младенца-Христа[141] и к которому на поклонение отправляется Веничка: «А там, за Петушками, где сливаются небо и земля, и волчица воет на звезды, — там <…> в дымных и вшивых хоромах <…> распускается мой младенец, самый пухлый и кроткий из всех младенцев <…> Помолитесь, ангелы, за меня. Да будет светел мой путь, да не преткнусь о камень, да увижу город, по которому столько томился» («Реутово — Никольское», с. 38).
«Боже милостивый, сделай так, чтобы с ним ничего не случилось и никогда ничего не случалось!..
Сделай так, Господь, чтобы он, даже если и упал бы с крыльца или печки, не сломал бы ни руки своей, ни ноги. Если нож или бритва попадутся ему на глаза — пусть он ими не играет, найди ему другие игрушки, Господь. Если мать его затопит печку <…> оттащи его в сторону, если сможешь. <…> Ты … знаешь что, мальчик? Ты не умирай…» («Салтыковская — Кучино», с. 42).
Этой главе в тексте поэмы непосредственно предшествует «Никольское — Салтыковская», где Веничка впервые открыто сравнивает себя с детьми-жертвами:[142] «Но почему же смущаются ангелы…? <…> Что ж они думают? Что <…> меня, сонного, удавят, как мальчика, или зарежут, как девочку?» (с. 39). Испытывая «скорбь и страх», Веничка в то же время начинает осознавать смысл своего движения к гибели, цель которого в конечном итоге — заменить, заместить собой ребенка-Спасителя, подвергающегося опасности, отвести от него смерть. «Я не утверждаю, что мне — теперь — истина уже известна или что я вплотную к ней подошел. Вовсе нет. Но я уже на такое расстояние к ней подошел, с которого ее удобнее всего рассмотреть.
И я смотрю и вижу, и поэтому скорбен» (с. 40). Ерофеев действительно прозревает свою будущую судьбу: «душить Веничку будут в главе „Москва–Петушки. Неизвестный подъезд“, а резать — в главе „Петушки. Перрон“» (с. 246). Когда Веничку порежут, он опять-таки обратит к себе самому увещевания, которые первоначально были предназначены для больного младенца: «встань, оботри пальто, почисти штаны, отряхнись и иди. Попробуй хоть шага два <…>Ты же сам говорил больному мальчику: „Раз-два-туфли надень-ка как ти-бе-не стыдна-спать…“» (с. 112). Вновь ставя себя на место ребенка-Христа, Веничка подтверждает сделанный выбор, замыкая круг.
Итак, перед нами, если воспользоваться выражением Э. Власова, «типично „ерофеевская“ путаница». Отец-Бог жертвует сыном-богочеловеком во имя людей — таков библейский вариант; отец-человек жертвует собой ради ребенка-богочеловека, игнорируя и не принимая мир и людей в целом — это вариант Ерофеева. Интересно, что если в начале поэмы выбор смерти (дороги направо), принятие на себя роли жертвенного ребенка герой совершает интуитивно, то глава «Салтыково — Кучино», содержащая молитву отца за мальчика и их разговор, служит своего рода рубежом,[143] который маркирован: Веничку покидают ангелы — можно предположить, хранители[144] — и отныне он беззащитен, но и готов к осуществлению миссии, обретает смысл пути. «Вот и я теперь: вспоминаю его „Противно“ и улыбаюсь, тоже блаженно. И вижу: мне издали кивают ангелы — и отлетают от меня, как обещали» (с. 43). По мере приближения конца герой все более отдает себе отчет в том, что происходит. В главе «Петушки. Кремль. Памятник Минину и Пожарскому» он прямо говорит о нападении на него четверых с классическими профилями: «Началось избиение!» (с. 115), что в контексте неизбежно вызывает в памяти библейское «избиение младенцев», убитых по приказу царя Ирода и тоже фактически вместо младенца-Христа. Однако окончательное подтверждение выбора сделано раньше, в главе «Петушки. Садовое кольцо»: «Все ваши путеводные звезды катятся к закату; а если и не катятся, то едва мерцают. Я не знаю вас, люди, я вас плохо знаю, я редко на вас обращал внимание, но мне есть дело до вас: меня занимает, в чем теперь ваша душа, чтоб знать наверняка, вновь ли возгорается звезда Вифлеема или вновь начинает меркнуть, а это самое главное» (с. 114). В этом контексте дважды с некоторыми вариациями повторенная в поэме формула: «Верю, и знаю, и свидетельствую миру» — ближе всего стоит к новозаветному: «И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем миру» [1 Иоанна 4:14] (с. 449). В ерофеевской parodia sacra Веничка свидетельствует миру о своем желании спасти «самое главное» — младенца, «звезду Вифлеема». (Этому, разумеется, не мешает чисто человеческое стремление избежать гибели, не оставляющее Веничку до самого конца — ср. традиционную тему Гефсиманского борения самого Христа.) О смысле веничкиной гибели свидетельствует и финал «Москвы–Петушков»: «Густая красная буква „Ю“ распласталась у меня в глазах…» (с. 119). На протяжении всей поэмы происходило «сгущенье темных сил над детской кроваткой, тех самых сил, которые в финале книги вонзят „ШИЛО В САМОЕ ГОРЛО“ отцу, а сын навсегда останется в этом мире, как и его буква „Ю“…».[145]
Приводимый анализ одного из аспектов поэмы менее всего претендует на полноту и истинность. Мы стремились лишь предложить возможный вариант прочтения текста, природа которого — карнавальная, центонная, травестийная по своей сути — заведомо провоцирует читателя на создание множественных интерпретаций.
Примечания
[134] Более подробно об этом: Власов Э. Бессмертная поэма Венедикта Ерофеева «Москва–Петушки». Спутник писателя // Ерофеев В. Москва–Петушки. Власов Э. Бессмертная поэма Венедикта Ерофеева «Москва–Петушки». Спутник писателя. М., 2000. Все цитаты текста поэмы, равно как и комментарии Э. Власова, в дальнейшем приводятся по этому изданию с указанием страниц. См. также: Скоропанова И. С. Карта постмодернистского маршрута: «Москва–Петушки» Венедикта Ерофеева // Скоропанова И. С. Русская постмодернистская литература: Учебное пособие. М., 1999, и др. работы.
[135] Седов К. Ф. Опыт прагма-семиотической интерпретации поэмы В. В. Ерофеева «Москва–Петушки» // Художественный мир Венедикта Ерофеева. Саратов, 1995. С. 16.
[136] Вольфсон И. В. Исповедь изгоя. Развитие жанра у писателя с измененным мышлением // Там же. С. 51–52.
[137] Седов К. Ф. Указ. соч. С.7.
[138] Высказывание Вяч. Курицына цитируется по: Скоропанова И. С. Указ. соч. С.153.
[139] «В средневековье стигматы — кровавые язвы или клейма — <…> рассматривались как проявление у верующего кровавых ран распятого на кресте Иисуса Христа. <…> чаще, наносились самими религиозными фанатиками, страстно желавшими принять мучения за своего Господа» (с. 177). Таким образом, носитель стигматов, а в данном контексте и уподобленный св. Терезе Веничка, действительно представляется пародийным заместителем Христа.
[140] Учитывая, что образы и мотивы Достоевского составляют постоянный фон поэмы, нельзя исключить, что в данном случае перед нами тоже аллюзия на знаменитую речь Ивана Карамазова: дети (ср. «слезинку ребенка»), не выдержав жизни в жестоком мире, вынуждены возвратить Творцу билет.
[141] «Здесь Веничка надевает на себя новую маску — Создателя, а Иисусом становится его младенец». — Власов Э. Указ. соч. С. 259. (См. также комментарий на с. 241.) Представляется все же, что в данном случае наблюдение исследователя по поводу новой ерофеевской маски не совсем точно. Веничка (герой, а не автор, который, безусловно, является демиургом собственного художественного мира) нигде не заявляет претензий на роль Создателя. С ним Ерофеева роднит статус отца, однако в остальном Веничка всячески подчеркивает свою малость и скромность, сохраняя представление о Господе как высшей инстанции бытия.
[142] Ребенок — это также одна из ипостасей облика самого героя. «Ты, чем спьяну задавать глупые вопросы, лучше бы дома сидел, — отвечал какой-то старичок. — Дома бы лучше сидел и уроки готовил. Наверно, еще уроки к завтрему не приготовил, мама ругаться будет» («Воиново — Усад», с. 95). Другая «детская» грань ерофеевского героя, как известно, Маленький принц.
[143] Глава «Салтыково — Кучино» является в поэме 13-й по счету. Если учесть, что это число в тексте поэмы является значимым: «… сегодня что-то решится, потому что сегодняшняя пятница — тринадцатая по счету» («Железнодорожная — Черное», с. 48) — вряд ли данный факт можно считать случайным совпадением.
[144] Как нам представляется, смеющиеся ангелы, предающие Веничку в финале поэмы, свидетельствуют не об изначальном подлоге, а о том, что герой-жертва, как и весь мир, окончательно отдан во власть темных сил — после появлений Сатаны («Усад — 105-й километр»), Сфинкса («105-й километр — Покров»), Эринний (нехристианских, языческих божеств — «Леоново — Петушки») и четверых с классическими профилями. В тринадцатую пятницу происходит подмена истинного ложным: вместо ангелов, сопровождавших Веничку в начале пути, и детей (понятия, постоянно взаимосвязанные в поэме) в финале являются демоны и жестокие, бесчеловечные дети (сцена глумления над трупом). Примечательно, что искушающий Веничку Сатана предъявляет к нему не вполне мотивированное сюжетом и отсутствующее в евангельских претекстах требование: «Смири свой духовный порыв…» («Усад — 105-й километр», с. 97), то есть в данном случае: откажись от своей миссии.
[145] Попов Евг. Случай с Венедиктом // Ерофеев В. Москва–Петушки. Власов Э. Бессмертная поэма Венедикта Ерофеева «Москва–Петушки». Спутник писателя. М., 2000. С. 10.