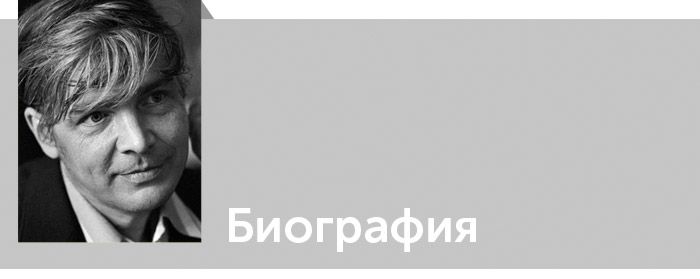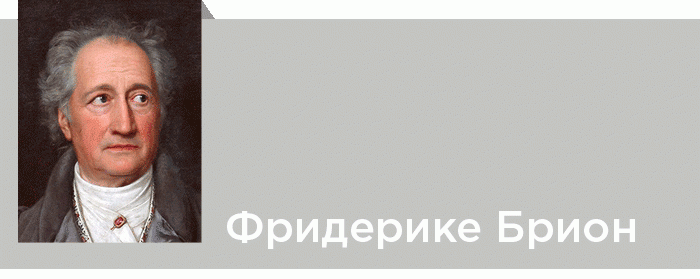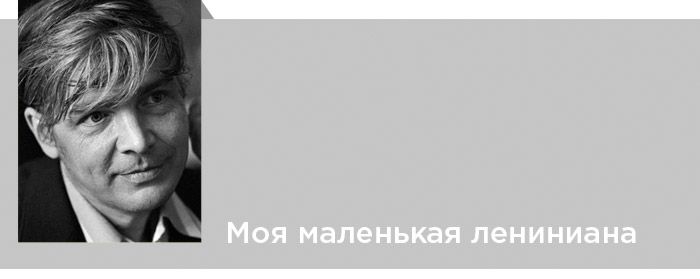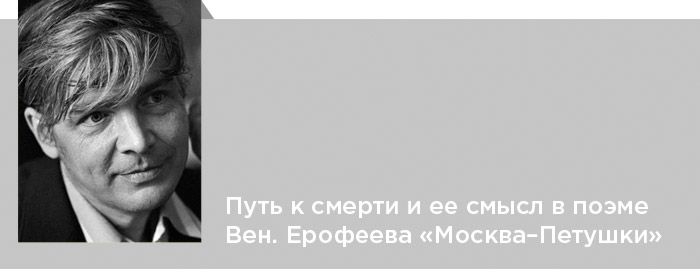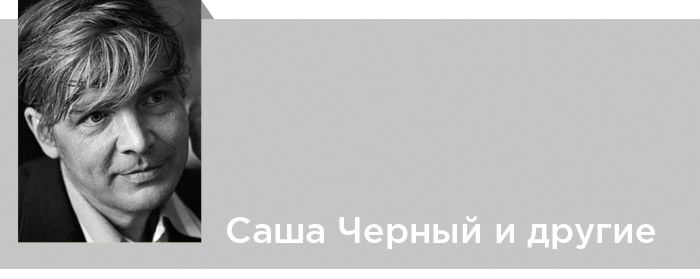Карнавал и то, что за ним: стратегии пародии в поэме Вен. Ерофеева «Москва–Петушки»
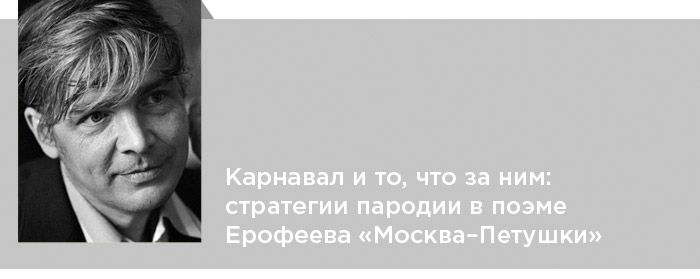
Анна Комароми.
Мадисон (США)
Выходит Василий Иванович из бани. Голова у него обмотана полотенцем. Петька говорит: «Василий Иванович, ну вы прямо как Джавахарлал Неру!» А Василий Иванович отвечает: «Ну, во первых, не Неру, а Нюру, а во-вторых, Петька, не твое собачье дело, кого я там джавахарлал».
(Советский анекдот)
Одной из основных черт «поэмы» Венедикта Ерофеева «Москва–Петушки» является пародирование широко представленных феноменов советской культуры. В тексте Ерофеева мы находим и пародирование библейских тем, поскольку автор использует пародийную стратегию не только с тем, чтобы разоблачить систему советской культуры, но и для того, чтобы создать современный апокриф.[56] В настоящей статье мы сосредоточимся на проблемах отвержения тоталитарной культурной системы и карнавализации культуры в «Москве–Петушках». Ерофеевская пародия обращается с советской культурой как с мифологическим целым, которое отвергается как мертвая инертная масса. Между тем, пародия у Ерофеева характеризуется приемами, снижающими и освобождающими элементы культуры, которые заново открываются в духе игры. Однако сам карнавал отвергается в конце поэмы, где повтор пародированных мотивов усиливает эффект отчуждения и страха. Развенчание тоталитарной системы раскрывает экзистенциальный хаос.
Ю. Щеглов предложил схему пародийных и сатирических приемов, используемых авторами для разоблачения «мертвых» элементов дискурса и десакрализации различных слоев и элементов доминирующей культуры.[57] Это приемы двух типов — обнажение и смещение. Оба эти приема могут быть направлены на частную (неофициальную) речь, на публичную речь, на официальную культуру и мифологию. Как будет показано ниже, элементы советской официальной культуры и мифологии являются главной мишенью ерофеевской пародии.
Приём обнажения заключается в демонстрации языковых стереотипов и маньеризмов, маркированных принадлежностью к определенному типу дискурса, который подлежит изжитию. В своем рассказе об Америке герой «Москвы–Петушков» обнажает клише, выражающие советское отношение к западным экономическим системам и обществам:
«„В мире пропагандных фикций и рекламных вывертов — откуда столько самодовольства?“ Я шел в Гарлем и пожал плечами: „Откуда? Игрушки идеологов монополий, марионетки пушечных королей — откуда у них такой аппетит?“» [58]
Существенно, что путешествие Венички по Америке явно фантастично: подобно всем простым советским гражданам, Веничка не имел возможности ездить за границу.[59] Его представление об Америке создается из клише официального мифа о Западе.
Приём смещения заключается в переводе элементов речи, имеющих возвышенный статус в доминирующей культурной иерархии, в контрастирующие, обычно относительно сниженные, контексты. Совмещение сакральных и профанных элементов производит эффект остранения и десакрализации.
Ерофеевская пародия в «Москве–Петушках» акцентирует смещение. Причем, элементы речи и персонажи, принадлежащие не только советской, но и классической русской и мировой культурам, берутся в своих официальных советских ипостасях: «… словом, решительно все, что было санкционировано официальными инстанциями, допущено в круг „наших“ ценностей, являлось частью коллективной мифологии и имиджа советской культуры на разных ее этапах. Все это берется Ерофеевым в одни скобки и отвергается глобально, как единая панхроническая система, в которую входит, среди прочего, и наследие прошлого в том виде, в каком оно канонизировано и фигурирует в советском обиходе».[60]
Щеглов выделил четыре разновидности комического смещения слов и представлений тоталитаризма. «Фанатическая» разновидность пародийно имитирует воинствующий «проэктивизм» раннего советского менталитета, рассматривающего мир во всех его отношениях как подлежащий пересозданию в новом идеологическом духе. Ерофеев пародирует эту тенденцию в разных видах революционного менталитета, повышая уровень капризности изменений: «Или так: передвинуть стрелку часов на два часа вперед или на полтора часа назад, все равно, только бы куда передвинуть, Потом: слово „черт“ надо принудить снова писать через „о“, а какую-нибудь букву вообще упразднить, только надо придумать какую» (с.91).
Основными пародийными приемами у Ерофеева являются «мифо-эпическая» и «карнавальная» разновидности смещения. Эти разновидности прочно ассоциируются с процессом демократизации культуры и реапроприации элементов культуры индивидуальностью. Эффект демократизации усиливается использованием неформальной лексики и синтаксиса повествователем и героями поэмы.[61] Функция веселого освобождения в пародийных приемах уступает в конце поэмы отчуждению и угнетению, испытываемым Веничкой. Ерофеевская пародия, таким образом, в конце утрачивает карнавальность и сатиричность.
«Карнавальная» разновидность пародийного смещения оперирует принципом снижения: использованием высоких элементов господствующей культуры для описания профанных или скатологических категорий, включающих еду, питье и сексуальные отношения. Здесь мы имеем дело с бахтинскими категориями «материально-телесного низа» и карнавала. Именно освобождающие и демократизирующие функции карнавала вдохновляют ерофеевскую пародию в первых частях «Москвы–Петушков».[62]
Карнавальная пародия в «Москве–Петушках» связана с традицией травестированной и ирои-комической поэмы.[63] Питье — центральный пародийный прием Ерофеева, снижающий элементы эпической поэмы. Эпическое путешествие героя начинается со стакана зубровки на Савеловском и стакана кориандровой на Каляевской. Но Веничка связывает свои беды с горечью нации: «О, тщета! О, эфемерность! О, самое бессильное и позорное время в жизни моего народа — время от рассвета до открытия магазинов!» (с.19), и быт московского алкоголика сразу переосмысливается в эпических категориях. Возвышенная лексика и тематика комически сталкиваются с особенностями современного быта, смущающими героя, который хочет выпить. Да и сам характер нации определяется языком и выпивкой:
«У нас <…> граница — это не фикция и не эмблема, потому что по одну сторону границы говорят на русском и больше пьют, а по другую — меньше пьют и говорят на нерусском <…>
А там? Какие там могут быть границы, если все одинаково пьют и все говорят не по-русски?» (с.81–82)
Неопределенность представлений («говорят на нерусском») обращения с мифическими элементами у Ерофеева (здесь — западно-европейские страны) и является частью сказового образа русского обывателя. Питье снижает традицию эпической поэзии до уровня обычного советского алкоголика.
Фантастичность — другой характерный аспект эпической поэзии — подвергается карнавальной пародии. Так, Веничка обсуждает с ангелами проблему доступности спиртного:
«— Да, мы знаем, что тяжело, — пропели ангелы. — А ты походи, легче будет, а через полчаса магазин откроется: водка там с девяти, правда, а красненького сразу дадут…
— Красненького?
— Красненького, — нараспев повторили ангелы Господни.
— Холодненького?
— Холодненького, конечно…
О, как я стал взволнован!..» (с.19)
Комичность диалога усиливается повтором деталей, непосредственно относящихся к питью и физическому состоянию вина. Ясно, что именно это наиболее важно для Венички.
Сравним карнавальные и комические приемы в разговоре Венички и ангелов с приемами характеризующими сцены разговора Венички с контролером Семенычем о конце истории:
«— …И будет добро и красота, и все будет хорошо, и все будут хорошие, и кроме добра и красоты ничего не будет, и сольются в поцелуе…
— Сольются в поцелуе?.. — заерзал Семеныч, уже в нетерпении…
— Да! И сольются в поцелуе мучитель и жертва; и злоба, и помысел, и расчет покинут сердца, и женщина…
— Женщина!! — затрепетал Семеныч. — Что? Что женщина?!!!..
— И женщина Востока сбросит с себя паранджу! Окончательно сбросит с себя паранджу угнетенная женщина Востока! И возляжет…
— Возляжет?!! — тут он задергался. — Возляжет?!!
— Да. И возляжет волк рядом с агнцем, и ни одна слеза не прольется, и кавалеры выберут себе барышень — кому какая нравится!
— О-о-о-о! — застонал Семеныч. — Скоро ли сие? Скоро ли будет?..» (с.85–86)
Исходный повтор возвышенных слов «добро и красота» комически отражается в повторе фраз с сексуальной семантикой, возбуждающих Семеныча больше философско-религиозных тем. Веничка эксплуатирует восприятие простаком Семенычем символических образов как физически реальных возможностей, сам повторяя и подчеркивая возбуждающие фразы. В своем предисловии к рассказу Веничка упоминает не только различные библейские мотивы (из Ветхого Завета, Евангелия и Откровения), но и античные (Диоген), литературные (Шехерезада, Фауст) и политические образы и мотивы (Третий Рейх, Пятая Республика, Семнадцатый Съезд). Пестрая поверхностная смесь служит примером идеологически безразличного восприятия этих элементов.
В качестве бригадира Веничка старается «расширить по мере сил» кругозор своих работников, которых особенно интригуют израильские политические деятели Моше Даян и Абба Эбан. Видимо, причиной такого интереса являются лингвистические возможности имен:
«А Абба Эбан и Моше Даян с языка у них не сходили. Приходят они утром с блядок, например, и один у другого спрашивает: „Ну как? Нинка из 13-й комнаты даян эбан?“ А тот отвечает с самодовольной усмешкою: „Куда ж она, падла, денется? Конечно, даян!“» (с.33).
Ерофеев карнавализировал этих анти-героев советской печати, не обращая внимания на их политическую одиозность. Более того, он пародирует советский миф идеологически сознательного и единого народа. Веничкины подчиненные заимствуют имена Эбана и Даяна для собственных шуток в карнавальном духе без идеологических оттенков.
Карнавальные мотивы питья и секса сходятся в восприятии рабочими блоковского «Соловьиного сада». Как Веничка объясняет им:
«Там в центре поэмы, если, конечно, отбросить в сторону все эти благоуханные плеча и неозаренные туманы и розовые башни в дымных ризах, там в центре поэмы лирический персонаж, уволенный с работы за пьянку, блядки и прогулы» (с.33).
Веничка опять смешивает ссылки, беря материал не только из «Соловьиного сада» но и из других стихов Блока, и, возможно, Сологуба.[64] Создание неопределенно-туманного «общего духа» производит впечатление, что произносящий эти слова — самоучка с претензиями, каких немало среди алкоголиков.[65] Подражание неформальной разговорной речи с ее настоятельными обращениями к слушателям и необязательными повторами, усиливает эффект сказа: «А потом (слушайте), а потом…», «Я сказал им: „Очень своевременная книга“, — сказал» (с.33). Сказ усиливает мощность впечатление упрощенного восприятия культуры. В карнавальном же духе рабочие, вдохновленные собственным просвещением, пьют одеколон «Свежесть».
Карнавальная пародия в «Москве–Петушках» разоблачает пустую приподнятость: «Жизнь дается человеку один раз, и прожить ее надо так, чтобы не ошибиться в рецептах…» (с.55). Устаревшая риторика Николая Островского претерпевает еще одно снижение: «Что самое прекрасное в мире? — борьба за освобождение человечества. А еще прекраснее вот что (записывайте)…» (с.57), и Веничка дает рецепт коктейля «Сучий потрох».[66] Игровой дух семантического снижения весело побеждает окаменевшую мораль.
Карнавальная революция, снившаяся Веничке, также снижает мифы и романтику большевистской революции. Стилизованная компиляция цитат, заимствованных у большевиков, Плеханова и Ленина, пародирует революционную стратегию:
«— Значит, ты считаешь, что ситуация назрела?
— А кто ее знает? Я, как немножко выпью, мне кажется, что назрела; а как начинает хмель проходить — нет, думаю, еще не назрела, рано еще браться за оружие…» (с.88)
Так же карнавализируются пленумы, прения и декреты. «Съезд победителей» является одним из таких примеров: «Все выступавшие были в лоскут пьяны, все мололи одно и то же: Максимилиан Робеспьер, Оливер Кромвель, Соня Перовская, Вера Засулич, карательные отряды из Петушков, война с Норвегией, и опять Соня Перовская и Вера Засулич…» (с.89). Употребление разговорной речи («в лоскут пьяны») поддерживает впечатление неофициального обращения с легендарными фигурами, пока небрежное совмещение различных легендарных фигур уравнивает и снижает их значение.[67] Немотивированное добавление злободневного элемента — война с Норвегией — усиливает индивидуальность и игровую природу описания.[68]
«Мифо-эпическая» разновидность пародийного смещения в «Москве–Петушках» тоже производит эффект демократизации культуры и освобождения от угнетающей окаменелой системы в духе бахтинского карнавала. Бахтин подчеркивал демократический характер карнавала, при котором социальные барьеры падают и запреты на поведение отменяются, а люди вступают в более вольные отношения друг с другом: «Это вольный фамильярно-площадной контакт между людьми, не знающими никаких дистанций между ними».[69] В этом типе пародии, мифологизированные люди воображаются в новых взаимоотношениях в разреженном мифологическом пространстве. Как в ограниченном хронотопе карнавала, представленное мифо-эпическое пространство открывает доступ к иначе отдаленным, возвышенным элементам.
Мифо-эпическая разновидность пересекается с карнавальной, так как канонические фигуры из элитарных сфер, включая литературу, музыку, философию и политику встречаются в сценах питья или фамильярного контакта. В главе «Есино — Фрязево» Черноусый рассказывает собеседникам о том, как Куприн и Максим Горький «вообще не просыхали»; что последними словами Антона Чехова было не «Их штербе», а «Налейте мне шампанского»; и что Фридрих Шиллер писал исключительно под воздействием шампанского: «Пропустит один бокал — готов целый акт трагедии. Пропустит пять бокалов — готова целая трагедия в пяти актах» (с.63). Творческий акт, по его предположению, так же легок, как питье шампанского. Игривость и небрежность представления легендарных фигур умаляет их иерархическую отдаленность.
Рассказ Черноусого достигает апофеоза в сцене с Модестом Мусоргским, лежащим в канаве с перепою, и Николаем Римским-Корсаковым, который заставляет Мусоргского встать и закончить свою «бессмертную оперу „Хованщина“».[70] Широко известные аспекты мифа о композиторах (их дружба, репинский портрет растрепанного Мусоргского и пр.), совмещаются со случайными, немотивированными деталями (Римский-Корсаков в смокинге и с бамбуковой тростью), и просто балаганными элементами («Ну, уж как только затворяется дверь за Римским-Корсаковым — бросает Модест свою бессмертную оперу „Хованщина“ и — бух! в канаву»). Накопление легендарных имен производит впечатление на старого Митрича: «Начитанный, ччччерт!» (с.63–64).
В рассказах о любви, «как у Тургенева», Ерофеев использовал вариант этого же пародийного приема. Все рассказы имеют в центре персонажа, заменяющего легендарную фигуру — от пьяной бабоньки, заменяющей Ольгу Эрдели (с.71–72) до жалкого председателя Лоэнгрина (с.73–74) и комсорга Евтюшкина (с.75–76).[71] Простые рассказчики вступают в отношения с карнавальными оттенками в более широкой культурной сфере. В последнем рассказе используется разговорный прием, по которому Пушкин упоминается в ситуациях, не имеющих к нему прямого отношения.[72] Дарья спрашивает Евтюшкина: «А кто за тебя детишек будет воспитывать? Пушкин, что ли?». Евтюшкин, однако, не терпит упоминания имени Пушкина. Именно этим она объясняет утрату передних зубов: «Все началось с Пушкина».
Веничка рассказывает собеседникам-собутыльникам о своих путешествиях по Америке и Западной Европе. Он описывает мифо-эпическое пространство, в котором простой советский гражданин свободно ездит («Какие там могут быть границы…»).[73] В западной Европе он оценивает возможность остаться у Луиджи Лонго, встречается с Луи Арагоном и Эльзой Триоле («или это были Жан-Поль Сартр и Симона де Бовуар?»), принимается в Сорбонне и в Британском музее (с.75–82). Образы легендарных мест, как и легендарных имен, маркированы поверхностным набором «характерных» деталей. Так, например, время «по-Гринвичу», «сэр», Британский музей и палата лордов обязательно присутствуют в рассказе Венички об Англии.
Пародийное обращение с именами Ольги Эрдели, Веры Дуловой, Арагона, Триоле и др. иллюстрирует целостный подход Ерофеева к советской культуре как к мифологическому единству. Сами по себе, талантливые советские арфистки не заслужили насмешек; спрашивается — что в них можно разоблачать? Между тем, их принадлежность к обойме артистов и писателей, которая была в те годы одобрена сверху и пропагандировалась путем концертов и передач, делает подобные фигуры законной мишенью сатиры в качестве элементов советской культуры, отвергаемой Ерофеевым как целое.
Создатели советской культурной политики действовали путем выбора одних фигур и исключения других, навязывая всему обществу свою редакцию, свой пантеон культурных ценностей. Вот почему встречаются у Ерофеева в ироническом, отчасти издевательском, контексте имена классиков (Тургенев, Чехов, Гете и т. д.). Классическая литература высмеивается постольку, поскольку она пропущена сквозь призму советской бюрократии, цензуры и идеологизированной мифологии. Обилие примеров глумления над «великим» у Ерофеева отражает то, насколько вся мировая культура была переварена и поглупела в официальной школьной трактовке поздних советских лет.
Автор так же пародийно использовал легендарные советские фигуры арктического исследователя Папанина и летчика Водопьянова (с.101), заимствуя их из официального пантеона. Их настоящие достоинства не играют никакой роли для Ерофеева, рассматривающего их исключительно, как часть созданного мифологизированного единства.[74] В этом отношении полное отсутствие интереса у Ерофеева к литературным достоинствам таких фигур как Эренбург, Арагон и Триоле свидетельствует о том, что он взял их в официально-мифологических (следовательно, порочных) ипостасях. Советская культура у Ерофеева подлежит не сатирическому очищению, а полному отвержению.[75]
Как карнавальная разновидность, мифо-эпическая пародия освобождает культуру от окаменелых форм и иерархий. Фамильярное обращение простых персонажей с прежде высокими элементами культуры позволяет игровую реапроприацию этих элементов без барьеров пространства, времени и иерархий. Мифопоэтическая целостность официальной культуры разрушается, и освобожденные фрагменты вступают в неканонические сочетания и отношения на уровне индивидуального неформального дискурса.
Веселое разрушение окаменелой советской культуры в «Москве–Петушках» существует не как самоцель. Ерофеев расширил границы карнавальной и мифо-эпической стратегий. Центральные обращения к библейским мотивам уходят из рамок советского сознания. Питье Венички связано с соборным карнавальным духом и с индивидуально созданной иерархией ценностей. Образ питья как религиозного обряда[76] указывает путь из игрового карнавала к новой серьезности. Веничка сам не вполне сливается с веселым коллективом карнавала. Он стоит отдельно от группы: его не принимают соседи в Орехово-Зуеве,[77] его статус бригадира и «маленького принца» среди своих подчиненных,[78] его одиночество после 2-го Пленума революционного государства. Эмоции Венички — это «скорбь» и «страх», а не карнавальная веселость. После демократического освобождения культуры Веничка едет дальше — один.
После, видимо, неправильной пересадки на станции «Орехово-Зуево» Веничка, находясь один в вагоне, видит, что за окнами стало темно и испытывает тревогу.[79] Использование карнавальной и мифо-эпической пародии продолжается, но в другом регистре. Веничка встречается со страшными (легендарными и мифологическими фигурами) — Сатаной, Сфинксом и Митридатом. Загадки Сфинкса построены на карнавальном мифо-эпическом хронотопе: Алексей Стаханов ходит по малой и большой нужде и пьет запоем, Водопьянов и Папанин отстоят от конечных пунктов на расстоянии плевка, лорд Чемберлен поскальзывается на блевотине, а Минин и Пожарский пьют огромное количество водки (с.100–103). Но в отличие от веселой, освобождающей пародии, тон здесь угрожающий, угнетающий. Сфинкс бьет Веничку, издевается над ним и угрожает ему: «…ты еще у меня запоешь!» (с.101).
Повторы веселых мотивов в новом, страшном духе усиливают впечатление отчуждения. Сфинкс повторяет и извращает формулировки самых дорогих образов Венички, чтобы поиздеваться над ним:
«— Ты едешь в Петушки, В город, где ни зимой, ни летом не отцветает и так далее?.. Где..
— Да. Где ни зимой, ни летом не отцветает и так далее.
— Где твоя паскуда валяется в жасмине и виссоне и птички порхают над ней и лобзают ее, куда им вздумается.
— Да. Куда им вздумается» (с.100).
В этой сцене, сочетание поэтических и грубых оттенков является злым издевательством, и повтор сочных фраз кажется лишь стоическим противостоянием. Образы «Неутешного горя» Крамского (с.105–106), Антона Чехова, Фридриха Шиллера и тайного советника Гете (с.108), появлявшиеся раньше в веселых контекстах, здесь придают мощность чувству утраты, запутанности и страха.
Карнавальные и мифо-эпические образы служат мостом из светлого, комического мира первых двух третей книги в темный, смертельно-серьезный мир ее конца. Пародийные сцены напоминают мир, от которого Веничка оторван; их веселый, игривый дух повторяется в извращенном варианте, подчеркивая одиночество и отчужденность героя.
Изобилие пародии в «Москве–Петушках» преимущественно принадлежит карнавальной и мифо-эпической разновидностям. Эти пародийные приемы используются, чтобы обнажить пустоту официальной риторики и разрушить угнетающую систему тоталитарной культуры в веселом духе народного карнавала. Их применение к мифоэпическим фигурам советской культуры показывает, что Ерофеев метил в культурную систему как целое, не различая социальных и художественных достоинств. Его целью являлось не очищение, а полное отвержение системы. Культурные элементы, освобожденные ерофеевской пародией, реапроприируются индивидуальными, неофициальными голосами в веселом хаотическом виде.
Однако хаос этот приобретает угрожающую серьезность к концу поэмы. Пародийные приемы веселой карнавальностью не ограничиваются. Ерофеев расширил функции своей пародии в последних главах поэмы. В первых двух третях карнавальный смех пародийных образов прикрывает веничкины одиночество, скорбь, и страх. В последних главах, наоборот, пародийные мотивы используются с целью усугубления экзистенциальных чувств одиночества, отчужденности и угнетения. В мире без систем, без ориентиров, герой оказывается лицом к лицу с бездной. Рассмотрение пародийных приемов, имеющих дело с советской культурой показывает, что путешествие Венички можно понять как путешествие через карнавал в страшный хаос за ним.
Примечания
[56] Ю. Н. Тынянов расширил понятие пародии, вынеся его за пределы комизма и высмеивания (См. главу «О пародии» в книге: Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977). Кроме того, см. диссертацию: Marie Martin. From быт to бытие: The Game of Parody in the Poetics of Venedikt Erofeev. Chicago: University of Chicago Press. 1995.
[57] Схема приемов приводится по лекциям Юрия Щеглова, прочитанным в Висконсинском Университете в 1998 году.
[58] Ерофеев Вен. Москва–Петушки. М., 2000. С.78. Далее ссылки на это издание даны в тексте с указанием страницы.
[59] Ерофеев сам не мог уехать из СССР, даже в конце жизни, когда врачи из Сорбонны пригласили его приехать на лечение (См.: «Умру, но никогда не пойму…»: Беседа с Игорем Болычевым // Московские новости. 1989. № 50 (12 окт.). С.13).
[60] Приводится по лекциям Ю. Щеглова.
[61] Анализ сказа в «Москве–Петушках» см. в: Орлов Е. И. После сказа // Филологические науки. 1996. № 6. С. 13–22; Карпенко И. Е. Позиция рассказчика в русской прозе ХХ века: от Ал. Ремизова к Вен. Ерофееву // «Москва–Петушки» Вен. Ерофеева: Материалы Третьей международной конференции «Литературный текст: проблемы и методы исследования». Тверь, 2000. С. 137–141.
[62] Ерофеев считал Рабле одним из своих литературных учителей (См.: Зорин А. Пригородный поезд дальнего следования // Новый мир. 1989. № 5. С.257). Книга Бахтина о Рабле пользовалась популярностью в конце 60-х годов, когда были написаны «Москва–Петушки».
[63] См.: Альтшуллер М. «Москва–Петушки» Венедикта Ерофеева и традиции классической поэмы // Новый журнал. 1982. № 146. С. 75–85.
[64] См. комментарий Э. Власова в: Ерофеев Вен. Москва–Петушки. С. 216–220.
[65] Описывая ерофеевские игры эрудиции, Лидия Любчикова вспоминает, что автор любил ссылаться на малоизвестные исторические фигуры, точно датируя цитируемый текст: «Я до сих пор не знаю, когда то была ехидная мистификация, а когда действительно „дьяк сказал“» (Фролова Н. и др. Несколько монологов о Венедикте Ерофееве // Театр, 1991, № 9. С.86). По различным воспоминаниям, Ерофеев владел феноменальной памятью и точной эрудицией.
[66] Обращение «записывайте» усиливает иллюзию устной речи. В других местах, однако, Ерофеев подчеркивает литературность текста. Так, введение графиков несовместимо со сказом и усиливает амбивалентность позиции автора. См.: Vladimir Tumanov. The End in V. Erofeev’s Moskva-Petuski // Russian Literature, 1996, №XXXIX. С. 95–114.
[67] Власов привел подобный показательный пример «хаотического сознания рядового гражданина СССР», вступающего в комсомол (Власов Э. Указ. соч. С.465).
[68] О Норвегии в советской прессе 1969 года см.: Власов Э. Указ. соч. С.468.
[69] Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М., 1965. С.20.
[70] «А Модест-то Мусоргский! Бог ты мой, а Модест-то Мусоргский!» Остранение легендарных имен достигается именованием по имени и фамилии, производящее эффект фамильярности, который усиливается употреблением разговорных частиц и восклицаний. Ср. восклицание Венички: «Эх, Максим Горький, Максим же ты Горький сдуру или спьяну ты сморозил такое на своем Капри?» (с.70)
[71] О связях с Евтушенко, см.: Guy Houk. Erofeev and Evtushenko // Venedikt Erofeev’s Moscow-Petushki. Critical Perspectives. New York, 1997.
[72] См.: Власов Э. Указ. соч. С. 384–85.
[73] См. у Эдуарда Власова о связях с повестью Эренбурга «Тринадцать трубок» (Власов Э. Указ. соч. С. 197–220. Борис Брикер и Анатолий Вишевский ссылались на анекдоты Жванецкого о пересечении непересекаемых границ: «— Как, вы не бывали на Багамах? — Ну, грубо говоря, не бывал. Вы же знаете: все время на работе». (Брикер Б., Вишевский А. Юмор в популярной культуре советского интеллигента 60-х — 70-х годов // Wiener Slawistischer Almanach, 1989, № 24. С.154).
[74] Ср. эпизод в «Золотом теленке» И. Ильфа и Е. Петрова, где героический летчик Севрюгин, часть «сияющей сущности» социализма, противостоит мещанам-жильцам коммунальной квартиры и бюрократизму общества, в котором он живет.
[75] Сатирическое очищение советской культуры и общества было идеалом сатириков «героической эры» 20-х — 30-х годов.
[76] См.: Martin. Указ. соч.; Смирнова Е. А. Венедикт Ерофеев глазами гоголеведа // Русская литература, 1990, № 3. С. 58–66; Паперно И. А., Гаспаров Б. М. Встань и иди // Slavica Hierosolymitana, 1981, № 5–6. С. 387–400.
[77] Широко отмечалась пародия раблезианского «Телемского аббатства» в этой сцене.
[78] По мнению И. В. Мотеюнайте, как «юродивый», Веничка совмещает в себе «божественное начало» с «демократической культурой». (См.: Мотеюнайте И. В. Венедикт Ерофеев и юродство: заметки к теме // «Москва–Петушки» Вен. Ерофеева).
[79] Бахтин назвал карнавальный мир и свойственный ему «народный гротеск» светлыми. Карнавальный мир — это мир, в котором элементы находятся в процессе рождения, это заря нового дня. Мир «романтического гротеска», в который Веничка погружен в последних главах, напротив, мир темный и страшный. (См.: Бахтин М. М. Указ. соч. С.48; Wolfgang Kayser. Das Groteske in Malerei und Dichtung. Hamburg, 1960).