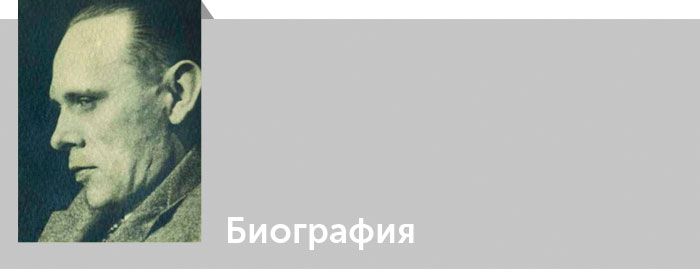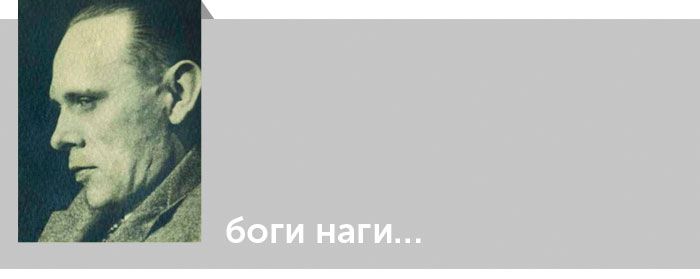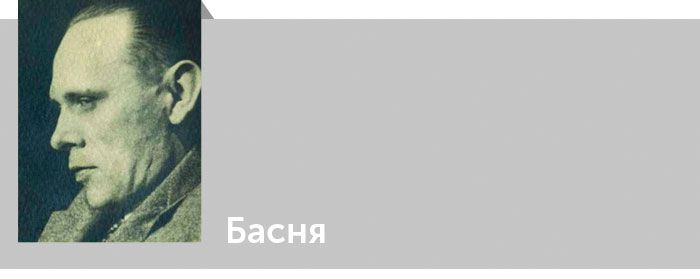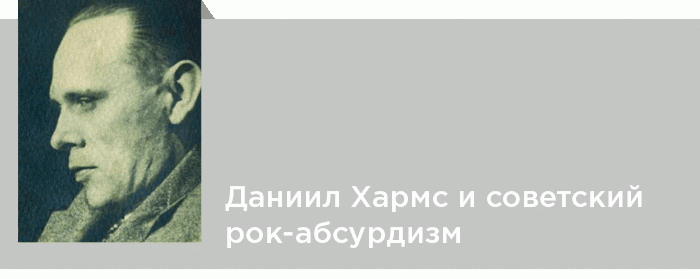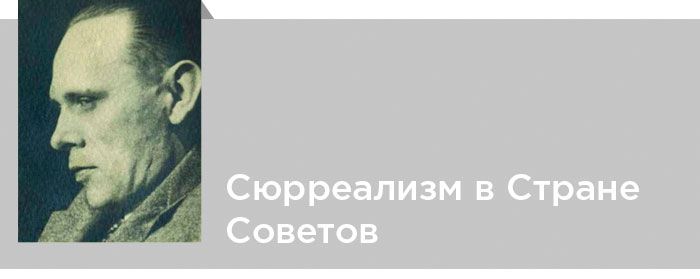«Говорю, чтобы мыслить» (интертекстуальность в творчестве Д. Хармса)

А.И. Смирнова, Е.Е. Саблина
Определяя границы текста, Ю.М. Лотман приходит к выводу о неизбежности связи любого текста с другими, неизбежности диалога и полилога между текстами не только одной эпохи, и не только принадлежащими к одному виду искусства, но и далеко отнесёнными друг от друга по временной, жанровой или иной шкале. «Текст вообще не существует сам по себе, он неизбежно включается в какой-либо (исторически реальный или условный) контекст. Та историко-культурная реальность, которую мы называем “художественное произведение”, не исчерпывается текстом. Восприятие текста, оторванного от его внетекстового “фона”, невозможно. Даже в тех случаях, когда для нас такого фона не существует (например, восприятие отдельного памятника совершенно чуждой, неизвестной нам культуры), мы на самом деле антиисторично проектируем текст на фон наших современных представлений, в отношении которых текст становится произведением» [4, с. 184].
Для понимания интертекстуальных связей, возникающих между разными текстами, особое значение для нас имеет работа французского культуролога-структуралиста Ролана Барта «Смерть автора», в которой ученый приходит к важному выводу: «Ныне мы знаем, что текст представляет собой не линейную цепочку слов, но многомерное пространство, где сочетаются и спорят друг с другом различные виды письма, ни один из которых не является исходным; текст соткан из цитат, отсылающих к тысячам культурных источников. Если бы он <писатель> захотел выразить себя, ему следует знать, что “внутренняя сущность”, которую он намерен “передать”, есть не что иное, как уже готовый словарь, где слова объясняются лишь с помощью других слов, и так до бесконечности». Барт ссылается на то, что слово «текст» этимологически заведомо предполагает некую «ткань»: «текст образуется из анонимных, неуловимых, и вместе с тем уже читаных цитат – из цитат без кавычек»; читатель же (или, по Барту, «читающий») сравнивается с праздно гуляющим человеком: «Его восприятия множественны, не сводятся в какое-либо единство, разнородны по происхождению; случайные детали наполовину опознаваемы – они отсылают к знакомым кодам, но сочетание их уникально» [1, с. 428].
Развивая идеи Барта, его последователь Л. Женни замечает: «Свойство интертекстуальности – это введение нового способа чтения, который взрывает линеарность текста. Каждая интертекстуальная отсылка – это место альтернативы: либо продолжать чтение, видя в ней лишь фрагмент, не отличающийся от других, <...> или же вернуться к текстуисточнику, прибегая к своего рода интеллектуальному анамнезу, в котором интертекстуальная отсылка выступает как смещенный элемент» [11, с. 263].
Существует и ещё одна классификация интертекстуальных проявлений в тексте – разграничение между внешней и внутренней интертекстуальностью. Внешняя интертекстуальность подразумевает лишь припоминание источника читателем, примером такого рода явления может служить пародия; внутренняя интертекстуальность предполагает включение фрагмента источника – интекста – в данный текст.
В современном литературоведении термин «интертекстуальность» пользуется особой востребованностью и популярностью. Им часто обозначается общая совокупность межтекстовых связей, в состав которых входят не только бессознательная, автоматическая или самодовлеющая игровая цитация, но и направленные, осмысленные, оценочные отсылки к предшествующим текстам и литературным фактам. (В область межтекстовых связей входят также соотношения между авторским словом и словами чужими, в частности двухголосыми).
Наряду с постструктуралистским пониманием интертекстуальности как фактора своеобразного коллективного бессознательного, в настоящее время получило распространение и иное ее толкование, связанное с функциональным значением интертекстуальности как литературного приема, сознательно используемого писателями. В связи с этим представляет интерес классификация разных типов взаимодействия текстов, предложенная известным французским теоретиком литературы Жераром Женеттом. Она состоит из пяти основных типов: «соприсутствие» в одном тексте двух и более текстов (цитата, аллюзия, плагиат и т.д.); паратекстуальность как отношение текста к своему заглавию, послесловию, эпиграфу и т.д.; метатекстуальность как комментирующая и часто критическая ссылка на свой предтекст; гипертекстуальность как осмеяние и пародирование одним текстом другого; архитекстуальность, понимаемая как жанровая связь текстов [2, с. 219].
В связи с классификацией Ж. Женетта необходимо напомнить, что понятие межтекстовых связей («схождений») как явления многопланового, намного обогнав свою эпоху, наметил в 1920-е годы Б.В. Томашевский. Вопрос о воздействии одних писателей на других, с сожалением говорил ученый, «сводится к изысканию в текстах “заимствований” и “реминисценций”. Он утверждал, что насущной задачей литературоведения является различение разных родов (типов) текстовых схождений. Это, во-первых, «сознательная цитация, намек, ссылка на творчество писателя», определенным образом освещающие (трактующие) ранее созданные произведения. Во-вторых, это «бессознательное воспроизведение литературного шаблона». И, наконец, в-третьих, это «случайное совпадение». Без разграничений такого рода, полагал Б.В. Томашевский, «параллели носят характер сырого материала, небесполезного для исследования, но мало говорящего уму и сердцу». Он замечал, что «выискивание этих параллелей» вне уяснения их характера, сути, функции «напоминает некий род литературного коллекционерства» [6, с. 210–213].
Добавим, что присутствующие в словесно-художественном произведении, но не всецело принадлежащие автору речевые единицы (как бы их ни называть: неавторскими словами и реминисценциями, или фактами интертекстуальности, или осуществлением межтекстовых связей) естественно рассматривать прежде всего как звенья содержательно значимой формы.
Обращаясь к творчеству Даниила Хармса, стоит заметить, что оно «пронизано» интертекстуальными связями. В его текстах присутствуют как явные отсылки к произведению того или иного автора, так и «скрытые» цитаты. Хармсоведы тексты обэриута вписывают как в контекст мировой литературы и театра абсурда (работы Ж.-Ф. Жаккара, Д. Токарева), так и в контекст современного писателю художественного процесса (В. Сажин, А. Александров, И. Кукулин, В. Симина). В связи с чем хотелось бы подчеркнуть, что Хармс был хорошо знаком с различными литературными текстами русских и зарубежных писателей, о чем свидетельствует неполный список прочитанных им авторов, приведенный в дневнике. Русская литература в нем представлена от апокрифов и Иоанна Дамаскина до А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого и современников Хармса – Д. Бурлюка, В. Хлебникова, Ф. Сологуба, А. Белого (всего тридцать два писателя), зарубежная литература – от В. Шекспира, Данте, Сервантеса до К. Гамсуна, Дж. К. Джерома, Конан Дойля (всего в списке сорок три автора). Кроме этого, в дневнике имеются множественные перечисления книг по психологии, эзотерике, алхимии и литературоведению, также приведен перечень «наизустных» стихотворений, насчитывающий двадцать девять наименований. Вполне закономерно обэриут Хармс, эрудиция которого не вызывает сомнений, широко использует в своих текстах различного рода реминисценции. Рассмотрим некоторые из них.
В пьесе «Елизавета Бам» [8, с. 7–40] обращают на себя внимание слова «Свои люди сочтемся» и «Говорю, чтобы мыслить». Первая фраза – это название пьесы А.Н. Островского, а вторая – одно из основополагающих философских суждений Рене Декарта. Причем оно не цитируется дословно, а предстает в преобразованном виде: в оригинале это звучит так: «Cogito ergo sum» («Мыслю, значит существую»).
Другой пример отсылки к западноевропейскому творчеству представляют следующие строки:
будто папа пилигримом
на комету ускакал
ау деау дербадыра
ау деау деррабара
ау деау хахетити
Монна Ванна
хочет пить [8, с. 68].
В стихотворении, как легко заметить, на фоне совершенно заумных фонетических созвучий, которые, впрочем, завораживали слушателей в хармсовском исполнении, неожиданно «всплыло» имя героини Метерлинка Монны Ванны, которое, разумеется, представляет собой лишь отсылку к узнаваемому культурному слою, лишенную каких-либо содержательных аспектов.
Стоит также отметить, что перу Хармса принадлежит множество прозаических текстов о русских классиках – А.С. Пушкине, Н.В. Гоголе, Л.Н. Толстом, Ф.М. Достоевском, написанных им в жанре литературного анекдота. Д. Хармс не воспроизводит жизнеописания писателей, а придумывает свои комические истории, тем самым разжигая интерес у читателя и побуждая его познакомиться ближе с творчеством названных авторов. Кроме этого, хотелось бы отметить, что книга А. Крученых («500 новых острот и каламбуров Пушкина») в ряду его работ по «сдвигологии русского стиха» была знакома обэриутам. Без сомнения, сама идея «звукового сдвига, образующего слово, не бывшее в тексте» актуальна для их поэтики. Приведем лишь один пример, заслуживающий внимания в контексте штудий: «О львах» [3, с. 31]. Так, в строке «то знали ль вы не знали вы» в монологе Грекова из произведения А.И. Введенского «Минин и Пожарский», где был напечатан монолог, изза допущенной ошибки звуковой сдвиг оказался эксплицированным: «то – знали львы – не знали львы». (Ср. также основной пример Крученых из «Евгения Онегина» – «со сна садится в ванну со льдом» [3, с. 7], и ремарку Хармса в «Лапе» – «Мария Ивановна со сна», когда о сне не идет и речи).
В контексте сказанного стоит отметить, что заумь Д. Хармса – это не столько фонетические, сколько семантические стихи, и читатель, таким образом, реконструирует какойлибо предмет (явление, происшествие), который подразумевает автор. В дневнике писателя приводится рецензия на поэму А.В. Туфанова «Домой в Заволочье», где Хармс полемизирует с главой «Ордена заумников DSO», избравшим в качестве «Материала для своего искусства» «произносительно-слуховые единицы языка, фонемы». Для него важно не слово, а «звуковой жест», и нужно понимать, «что делают заумные стихи, а не что изображено в них» [7, с. 9]. В связи с этим для него не имеет значения, какой язык выбирается в качестве исходного для фонемного анализа. Национальная принадлежность зауми для Д. Хармса чрезвычайно важна в рамках идеи, что язык – это собрание звуков, организованное определенным образом, и когда «слово идет на службу разуму, звук перестает быть всевеликим и самодержавным, звук становится “именем” и покорно исполняет приказы разума» [9, с. 132]. Это движение от звука к смыслу характерно прежде всего для самой хлебниковской вещи Д. Хармса «Лапа» [8, с. 76–95]. «Лапа» – реминисценция В. Хлебникова, он даже является персонажем данного произведения.
Вместе с тем в качестве примера поэтического диалога, можно сопоставить стихотворение Д. Хармса «Шарики сударики» и стихотворение И. Анненского «Шарики детские», которые лексически очень близки друг другу. В обоих текстах присутствуют слова «шарики», «летят», «сударики», например у Анненского:
Шарики детские, шарики!
Вам, сударики, шарики,
А нам бы, сударики, на шкалики!
И у Д. Хармса:
Шарики сударики
Блестят шелестят.
Но стихи различны по своей экспрессивной окраске: если Анненский использует сниженную грубую просторечную лексику, передавая разговор торговцев на рынке, то Хармс ориентирует свой текст на игровое начало, на детское непосредственное восприятие. Таким образом, частое повторение стихотворных строк с различной комбинацией одних и тех же слов приводит стихотворение к «смысловому вакууму» (термин М. Ямпольского).
Характерный для творчества Хармса прием расподобления или самоуничтожения используется им и в данном произведении (нагромождение повторяющихся сочетаний нивелирует смысл текста), а также принцип смешения характеристик воздушных шариков и людей («судариков»), способных летать, шелестеть и пр.
Стихи обоих авторов также тематически близки: «шарики детские, деньги отецкие» (Анненский), у Хармса нет прямой отсылки к материальной стороне вопроса, но фраза «И люди тоже шелестят» наводит на мысль о деньгах, то есть шелестят не люди, а деньги, на которые они купили шарики.
Интерес Хармса к творчеству другого современника, Андрея Белого, также наводит на мысль об межтекстовых связях в произведениях создателя «зауми», что ждет еще своего исследователя. В архиве Д. Хармса сохранилась заметка 1927 года, где обэриут обращается к петербургской тематике, очевидно, во время работы над «Комедией города Петербурга»: «Прием А. Белого, встречающийся в его прозе, – долгождан. Я говорю о том приеме, который не врывается как сквозняк, не треплет скрытый в душе волос милого читателя. О приеме говорю я таком же естественном, как… Достаточно. Уразумение наступит в тот именно момент, когда не ждет того читатель. До тех пор он правильно догадывается, но трусит. Он трусит. Об авторе думает он. Автор мог предвидеть все – как? За этим следует слово, одно (много два) – и читатель говорит в пыль забившись, скучных метафор, длинных периодов, тупых времен – пыль. Тут говорит он себе, так же просто как до начала чтения, – мысль его прояснилась…» (18 июля 1927 года) [9, с. 275].
В данной статье мы попытались наметить основные направления в рассмотрении проблемы интертекстуальности в творчестве Хармса, не ставя перед собой задачи выявить ее функции в текстах писателя. Сама же эта проблема, отличаясь научной новизной, представляется нам чрезвычайно актуальной. По словам И.И. Ильина, «значение концепции интертекстуальности выходит далеко за рамки чисто теоретического осмысления современного культурного процесса, поскольку она ответила на глубинный запрос мировой культуры ХХ столетия с его явной или неявной тягой к духовной интеграции. Приобретя необыкновенную популярность в мире искусства, она, как никакая другая категория, оказала влияние на саму художественную практику, на самосознание современного художника» [2, с. 221].
Список литературы
- Барт, Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика / Р. Барт ; сост. Г. Косиков. – М. : Прогресс, 1994. – 616 с.
- Ильин, И. И. Интертекстуальность / И. И. Ильин // Современное зарубежное литературоведение (страны Западной Европы и США): концепции, школы, термины : энцикл. справ. – М. : Интрада, 1996. – 320 с.
- Крученых, А. В. 500 новых острот и каламбуров Пушкина / А. В. Крученых. – М. : Издание автора, 1924. – 71 с.
- Лотман, Ю. М. Структура художественного текста / Ю. М. Лотман. – М. : Искусство, 1970. – 262 с.
- Смирнов, И. П. Порождение интертекста (Элементы интертекстуального анализа с примерами из творчества Б.Л. Пастернака) / И. П. Смирнов. – СПб. : СпбГУ, 1997. – 189 с.
- Томашевский, Б. В. Пушкин – читатель французских поэтов / Б. В. Томашевский // Пушкинский сборник памяти С.А. Венгерова. – М. ; Пг. : ГИЗ, 1923. – С. 210–213.
- Туфанов, А. Освобождение жизни и искусства от литературы / А. Туфанов // Красный студент. – 1923. – № 7/8. – С. 7–12.
- Хармс, Д. Повесть. Рассказы. Молитвы… / Д. Хармс ; сост. Р. Грищенков. – М. : Кристалл, 2000. – 512 с.
- Хармс, Д. Полн. собр. соч. В 4 т. Т. 4 / Д. Хармс ; под ред. В. Сажина. – СПб. : Акад. проект, 1999–2003. – 480 с.
- Ямпольский, Б. М. Память Тиресия: Интертекстуальность и кинематограф / Б. М. Ямпольский. – М. : Культура, 1993. – 457 с.
- Jenny, L. La stratégie de la forme / L. Jenny // Poétique. – 1976. – № 27. – Р. 262–267.