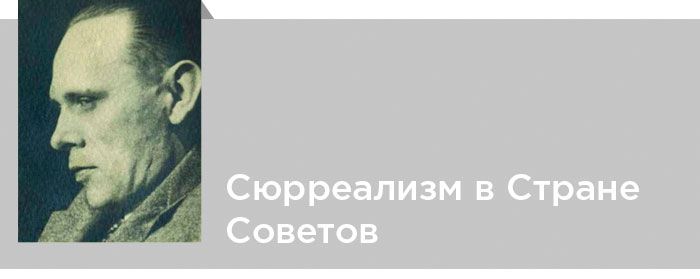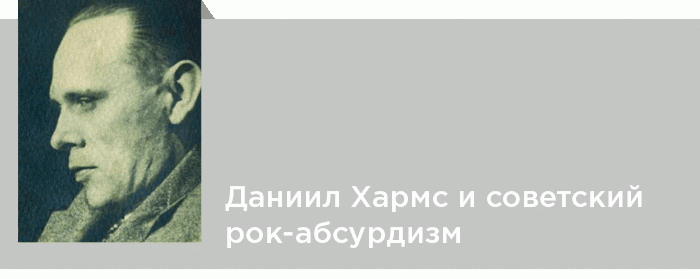Отцы и дети в мире «Черного юмора»: Д. Хармс и О. Григорьев

С. Козлова, А. Куляпин
По мнению С. Б. Борисова, предпосылкой появления в русской литературе «черного юмора» в начале ХХ века стал перевод с немецкого книги Г. Гофмана-Доннера «Степка-растрепка», переиздававшейся до 1917 года более десяти раз. Ее составляли стихотворные рассказы «назидательно-запугивающего» характера» и «исполненные с натуралистическим описанием жестоких смертей»)1. Другим источником могли быть стихотворные повести также немецкого автора Вильгельма Буша, в особенности «Макс и Мориц». «Жестокий, бесчеловечный юмор В. Буша, трактующий убийство как комическую ситуацию, был популярен в России начала ХХ века настолько, что персонажи ею повестей являлись, по сути, персонажами русской литературы»2.
А. Кобринский приводит свидетельство сестры Д. Хармса, что любимым его чтением в детстве были книги В. Буша, причем не в адаптированном и смягченном варианте русского перевода, а именно на немецком языке. «А поскольку, — как утверждает А. Кобринский. — на русской почве традиции «черного юмора» прививались плохо, Хармса можно, вероятно, считать наиболее значительным автором этого направления»)3.
При этом «черный юмор» Хармса оценивается в критике как результат прямого воздействия «садизма» немецких стихотворцев на его творчество и личность. А. Кобринский усматривает в «Реабилитации» Хармса «некую концепцию всеобщего надругательства не только, над личностью, но и над человеческой логикой, над самыми основами бытия»4. С. Борисов тоже не видит этического смысла изображения насилия и смерти: «смерть, причем насиљственная и жестокая, подается автором лишь как повод для забавы»5. Исследователь, приведя в пример упрек Э. Аренина Хармсу в том, что тот не любит детей, делает обобщающий вывод: «...стихия комического убийства, впитанная в детстве от В. Буша, стала столь соприродна Д. Хармсу, что без сторонних рефлективных воздействий он не сознавал вопиющей «негуманности» своих поэтических конструкций»6.
Однако рассмотрение «черного юмора» Хармса хотя бы только в свете проблемы отцов и детей позволяет судить, насколько своеобразна и далека эстетика обэриута от опыта его немецких предшественников.
Вот стихотворение Хармса «(Отец и мать родили сына»7 (1931). Начиная с первого стиха, утверждающего полное согласие и равенство родителей в деле появления на свет ребенка, вся строфа рисует семейную идиллию:
Отец и мать родили сына,
и рота тетушек примчалась.
Мать отдыхала на кровати,
а люлька медленно качалась.
Далее отец, представляя гостям новорожденного, неожиданно разрушает эту идиллию: говорит о младенце «как он паршив». Мать бросается защищать ребенка, объясняя его неприглядность тем, что он только родился, «глаз едва лишь приоткрыл». Но отец продолжает «долбить нескончаемую мысль / о гадости своего сына». Однако мать начинает понимать, что грубое поношение новорожденного отцом только маска, под которой тот скрывает свою гордость и довольство:
Мать:
«Ой ли, ты-то не Доволен,
сам же, батенька, сияешь»
Ответный грубый окрик отца: «Цыц, молчи, паршивка, / чего люльку не качаешь», — выдает нежную заботу его о сыне и, никого уже не обманывая, восстанавливает семейный мир.
Знаком притворства отца служит его реплика «смотри, жена, какая рожа — / такую вспомнят и коляды», которая заставляет «вспомнить» народный обычай ряженья на святках, а вместе с ним и другой обычай «оберега» новорожденного от сглаза и нечистой силы путем бранного поношения младенца. Так, «черный» юмор Хармса, по сути, обыгрывает обряды, занесенные новой эпохой в разряд «суеверий». Этим «суевериям» так же, как и «садистскому» физиологизму, противостоит вполне научное описание еще не сформировавшегося сознания младенца, объясняющее бессмысленность его «рожи»:
Он глаз едва лишь приоткрыл,
но ничего им в комнате не замечает —
глаз не бежит куда ему приказано,
и ухо музыки не ловит,
и стук лишь по костям попадает в череп.
Вся ситуация подразумевает аллегорию спора между Отцом-разумом, одухотворяющим и облагораживающим человека, и Матерью-природой, рождающей и любящей свое творение таким, каково оно есть. Скандальная негация дискурса снимает «ученую» патетику и становится иным — эмоционально-экспрессивным — способом различения видимой «бессмыслицы» сущего и его невидимого «смысла».
Ближе к стихотворным повестям В. Буша стихотворение Хармса «Полет в небеса»8 ( 1929), где главными персонажами оказываются мать и сын Вася. Стихотворение начинается горькими упреками матери в свой адрес за то, что слишком много времени уделяла супругу: «На одной ноге скакала / и плясала я кругом / бессердечного ракала» (от «ракалия» — «негодяй, бестия, наглый подлец9) и огороду — «Я качалась в огороде / Без движенья головы», — позабыв о сыне, что привело к трагедии. Вася подметал полы «в даче», «шевелил метлой ковры», на одном из которых «ракал» рассыпал «ворох пороха»; «Это порох сатана / разорвался на полу» — Вася улетел верхом на метелке «слеп и хром» «в небеса». Для Г. Гофмана-Доннера или В. Буша это событие послужило бы поводом для комически-остраненной натуралистической фиксации процесса гибели и останков бедного Васи. Хармс также создает комически-остраненную картину гибели мальчика, но не прибегает к натуралистическим подробностям.
Далее, в отличие от авторов садистских стихов, в которых причиной несчастья, как правило, является непослушание ребенка, Хармс переносит ответственность за гибель мальчика на родителей и в первую очередь на отцов — ракалов, сделавших даже домашнее пространство небезопасным для жизни. Тем самым поэт предвосхитил тревоги и страхи перед милитаризацией и агрессией технической цивилизации, которые нашли выражение в «черном юморе» детских садистских стишков, ставших популярными в середине ХХ века. Но и в них комизм создается наивно-остраненной позицией рассказчика, сосредоточенного только на акции физической метаморфозы живого тела. У Хармса гибелью ребёнка не заканчивается, а только начинается рассказ, показывая, что комикование — не «самоцель» и служит не «для забавы».
Предметом внимания оказывается не смерть, а проблема послесмертия героя. Комический пафос направлен как будто на атеистическое осмеяние христианского бессмертия души. Стихотворение продолжается описанием вознесения бессмертного духа Васи к небесам, но возносится он, подобно ведьме, на метле; пастух, подразумевающий пастыря, попа, провожающего в последний путь душу покойного, также низвергнут в низкий быт и, в свою очередь, — в демоническую стихию, уподобленный бородатому водяному, вылезающему из воды; все стихотворение строится как пародия на высокую трагедию с прологом, эписодиями, хором и финальным плачем. Ернические реплики-рефрены Хора — «Вася, в небе не застрянь» — выражают новое отношение народа к религии.
Однако кощунственный дискурс принадлежит исключительно взрослому речевому миру (Мать, Пастух, Хор), тогда как детский дискурс, насыщенный культурными реминисценциями (лермонтовский «Демон», пушкинский «Пророк», миф об Икаре, масонская символика духовного совершенствования: молоток, ладья — и т.д.), сопротивляется атеистической десакрализации смерти человека, эстетизирует и мистифицирует образ погибшего ребенка. Причем дух его — «быстр, ловок, юн и смел» — сливается с духом древних героев в общей оценке мира как хлама и дряни, от которого без сожаления отрывается чистая душа Васи. Детское сознание, еще не подвергшееся идеологической чистке, у Хармса оказывается хранителем духовной культуры человечества. В то же время сознание народа демонстрирует результат насильственной обработки традиционного миропредставления. В финальном отчаянном вопрошании Матери и ответной заключительной реплике Хора смешиваются, принимая абурдную форму, и кощунственные, и религиозные элементы: «Ты на воздух ускакал, / оторвавшись от травы. <...> Боже мой, <...>/ Где мой Вася дорогой? — Все хором:/ Он застрял на небесах», то есть там, где только и может упокоиться невинная христианская душа Васи.
В более откровенной форме эта оппозиция отцов и детей в отношении к смерти выражена в стихотворении 1937 года «Деды жили, деды знали»10, «дети» скептически относятся к безусловной вере: «отцов» только в науку, которая не способна дать ответ на вопрос «куда нам плыть?», и отдают предпочтение вере «дедов» в бессмертие: «Очень скучно было б миру, / Человеку и душе, / Если б жил и бух в могилу!». Стихотворение сам Хармс осмысляет как пророчество и завет внукам: «Я видал такие знаки. / Я слыхал такую весть».
Разница эстетических функций «черного юмора» в поэзии Хармса и его немецких предшественников очевидна и в стихотворении Хармса «Пожар»11 (1927). Как и в других стихах обэриута, сам процесс гибели младенца в огне скрыт в общей картине пожарной сумятицы, то есть факт гибели ребенка не исчерпывает содержания, является лишь частью общего хаоса, вызванного пожаром. В комическом свете представлены не просто суета и хаос катастрофы, а деформации мира, связанные с необычным ракурсом его видения. Объектом комизма является не реальный мир, а его субъективное преломление в глазах «потерявших голову» людей. Причем первым в ряду образов, разрушающих нормальную картину мира, является ракурс его видения младенцем из колыбели, для которого нянька, заснувшая над ним, кажется «наверху, под самым потолком»: «заснула кувырком». В глазах «сонной няньки» среди клубов дыма «мир становится короче», и «Петя призраком летит», и мешкают его сапожки. Ее попытка рассмотреть комнату «в замочек», чтобы найти мальчика, безуспешна: заполненная дымом, комната кажется пустой, и обезумевшая нянька автоматически воспроизводит фразу своей повседневной заботы, несообразной с экстраординарной ситуацией: «Где ж ты, Петя, мальчик милый, / Что ж ты кашу не доел?». В помраченном сознании отца возникает абсурдная подмена: «Где найти мне обезьяну вместо сына?» В довершение всего неожиданно смешиваются полярные стихии огня и воды: «Над карнизом пламя вьется, / Тут же гром и дождик льется». Однако существует eщe один вариант стихотворения с другой концовкой, в которой объясняется несуразица. На сцену являются пожарные, которые льют воду в пламя. Правда, запоздалость и потому полная безуспешность их действий выражается в комических образах, заимствованных из фольклорных «небылиц»: «Люди в касках золотых / Топорами воздух бьют, / И брандмейстер на машине / Волу плескает в кувшине».
В финале второго варианта текста воссоздается печальный исход события: «Петя сгорел»,— но без каких-либо жестоких подробностей, а стоны и слезы отца и няньки выражают не нейтральное, как принято в «черном юморе», а соответствующее скорбное отношение к смерти, хотя и остраненное пародийно-иронической интонацией повествователя.
Действительно садистский, смертельно-пыточный характер комизм Хармса приобретает при изображении отношений между поколениями в ситуации «учитель — ученик». Здесь «черный юмор» выполняет функцию сатирического гротеска, в свете которого обучение детей предстает как изнурительная для тела и мозга система однообразно повторяющихся действий, от которых школьники «кончаются, не докончив образования»:
Учитель:
«Смотри в ступку на дно
и пестиком зёрна толки»
Школьница:
«Учитель, я измучена
непрерывной цепью опытов.
Пять суток я толку. И что же:
окоченели мои руки, засохла грудь,
о Боже, Боже!»
«Окно»12, 1931
Но и в этом случае трупный физиологизм «черного юмора» - «Вот уже одиннадцатый случай <...> Ну что за притча! / Едва натужится бедняжка — / уже лежит холодный трупик» — составляет только внешний слой текста, более глубокий план которого строится на интеллектуальной игре словами. Так, основной мотив сюжета — школьница должна толочь зерна в ступке до тех пор, пока не постигнет «скрытую тетлоту парообразования» — обыгрывает, с одной стороны, известный фразеологизм «толочь воду в ступе», с другой — полисемию слова «парообразования», которое в данном тематическом контексте подразумевает школьное образование как образование пара из той самой воды,которую толкут ученики в ступе. Сюжет стихотворения реализует буквально эту риторическую фигуру: школьница «постигает скрытую теплоту парообразования» после смерти, когда ее душа, подобно пару, вылетает в форточку: «Ты стала, девочка, бесплотна / и больше ни гу-гу!» —констатирует учитель, а окно может самодовольно заявить: «Сквозь меня душа пролилась. / Я — форточка возвышенных умов».
Таким образом, «черный юмор» в поэзии Хармса облекается в сложную многофункциональную и многоуровневую структуру текста, не соотносимую с примитивом фольклора или массовой литературы.
Тема «отцов и детей» в прозаических миниатюрах Д. Хармса, как и в его стихах, занимает немного места. При этом садизм «черного юмора» имеет и здесь однонаправленную адресацию: его жертвами отзываются только дети. «Жестокое» отношение к детям получает у Хармса различные мотивации, одна из которых, провоцирующая самую шокирующую реакцию, акцентирует бессознательность и никчемность, бесполезность младенцев как свойства, несообразные с принципами разума и пользы нового строящегося мира. С прагматической позиции взрослого, «точно знающего» назначение всякой вещи и всякого существа, дети — ненужные, непрошенные гости, подлежащие в силу этого уничтожению. Литературную маску такого «взрослого» принимает Хармс, когда говорит: «О детях я точно знаю, что их не надо пеленать. Их надо уничтожать. Для этого я бы устроил в городе центральную яму и бросал бы туда детей». «Травить детей — это жестоко. Но что-нибудь ведь надо же с ними делать!»13 «Садизм» взрослых по отношению к детям является у Хармса знаком отсутствия культуры, духовного одичания людей. Дети, как существа зависимые и беззащитные, могут быть просто объектом приложения властных амбиций любой «тетеньки». Так, в случае «Из голубой тетради № 12» (№ 53) тетенька развлекается беспричинной бранью, угрозами, унижением племянника Феди частью от скуки, а частью испытывая степень знания им «своего места», полной зависимости от взрослых малого и беззащитного существа.
Бессмысленно-тупая агрессивность родительниц к своим питомцам становится содержанием кульминационного эпизода в рассказе «Начало очень хорошего летнего дня»14 (1939). Хармс, пародируя жанр буколики, дает натуралистическую картину жизни деревни. Как в пасторали, повествование начинается описанием yтpa «хорошего летнего дня» («чуть только прокричал петух») и выгона стада, только стало оказывается «человеческим», и мирная жизнь пейзан представлена как серия хулиганских действий в их отношениях друг с другом. Подзаголовок названия «симфония» может заключать намек на еще один источник пародии — «Пасторальную» (шестую) симфонию Бетховена. «Симфонизм» означает в данном «случае» гармоническую согласованность абсурдно-агрессивных акций всех персонажей. Их жертвами в самой динамичной части повествования, «скерцо» симфонии, выступают дети: «Тут же невдалеке носатая баба била корытом своего ребенка. А молодая, толстенькая мать терла хорошенькую девочку лицом о кирпичную стену». Анафорический монтаж двух фраз: «Маленькая собачка, сломав свою тоненькую ножку, валялась на панели», «Маленький мальчик ел из плевательницы какую-то гадость» отождествляет собаку и ребенка как одинаково ненужных и заброшенных существ в безобразном и бесчувственном мире взрослых. При этом абсолютная покорность жертв только утверждает парадоксальную гармонию «очень хорошего летнего дня».
Нет ожидаемого конфликта отцов и детей и в рассказе «Отец и дочь»15 (1936). Ситуация «черного юмора» строится на «игре в покойников», которая, в свою очередь, подразумевает игру слов. Материалом последней служит перифрастическая семантика выражения: умирающий — не жилец на этом свете. Следуя ее развитию, живой человек — это «жилец». Реализация буквального значения антитезы жилец / не жилец мотивирует абсурдную ситуацию: смерть дочери или отца удостоверяет не врач, а управдом: «—Вот, говорит Наташин папа,— засвидетельствуйте смерть. Управдом подул на печать и приложил ее к Наташиному лбу». Однако печать управдома, распоряжающегося с ее помощью судьбами «жильцов», оказывается недействительной для сторожа кладбища, неукоснительно соблюдающего границу между миром живых и миром мертвых. Для отца же авторитет управдома бесспорен, и он хоронит дочь на улице, отметив место захоронения своей шапкой. Оставленная шапка символизирует потерю головы, то есть разум: не случайно, увидев дома живую Наташу, он умирает от «растерянности». Дочь как будто повторяет логику отца, отправляясь за свидетельством о смерти к управдому. Но повтор не абсолютный, а вариативный, провоцирующий особое внимание читателя. Дочь оказывается мудрее отца, она хоронит на улице только «бумажку с печатью», оставив на могиле не шапку-голову, а «носочки» — ноги — знак пустой беготни за «бумажками». Вернувшись домой, она «удивилась» не тому, что отец живой, а тому, что он играет, как дитя, «на маленьком бильярдике с металлическими шариками». Происходит обмен возрастными ролями: в то время как отец, старея, превращается в ребенка, дочь «росла, росла» и «стала взрослой барышней». Хармс, высмеяв «детские» страхи «отцов» перед «управдомами», возлагает надежды на здравый разум детей. Однако юмор Хармса не был бы «черным», если бы гомерический смех над покойниками, за которых «приняли друг друга» отец и дочь, не обернулся в финале известием о реальной гибели их соседей: «Кажется, под автомобиль попали».
В цикле «Веселые ребята»16 «черный юмор» Хармса демифологизирует русских писателей-классиков. Каждый из них — от Пушкина и Гоголя до Толстого и Достоевского — наделен постоянной комической характеристикой, составленной из путанных обрывков легенд, анекдотов, фантастической смеси лиц и времен.
Постоянная формула, которой начинаются все анекдоты о Толстом, — «Лев Толстой очень любил детей» — подразумевает обиходный миф, клишированное представление о великом писателе как «отце русской литературы». Хармсовский Толстой в тревоге, чтобы Пушкин и Достоевский не оспорили этого его звания, пускает в ход костыль. К своим детям — русским писателям — Толстой относится ласково: «гладит их по головке», как патриарх заботится о том, чтобы их было как можно больше («Приведет полную комнату, шагy ступить негде, а он все кричит: ”Еще! Еще!”»17), сам «рассказывал им сказки, истории с моралью для поучения» и под угрозой «костыля» определял им в наставники других писателей («Бывало, привезет в кабриолете штук пять и всех гостей оделяет»). Пушкина Толстой отмечает особо, переводит его из возраста детей в «подростки», но «все равно» бежит за ним, чтобы «погладить по головке». «Взрослых» же, то есть писателей, которые, по Хармсу, равны ему, он «ненавидит». С Достоевским соперничает, Герцена преследует, награждая то костылем («и все в глаз норовит, в глаз»), то дрянными «детьми» («то вшивый достанется, то кусачий. А попробуй поморщиться — схватит костыль и трах по башке!»)18.
Приемы комического Хармс в этих «случаях» черпает не столько из эстетики «черного юмора», сколько из балаганной клоунады, персонажи которой гоняются друг за другом, бранятся, получают колотушки, падают, точно куклы, со стула, как это происходит в анекдоте о Пушкине и его сыновьях-идиотах: «сидят они за столом; на одном конце Пушкин все время падает со стула, а на другом конце - его сын», который «тоже все время падал»19. Черный колорит все эти кукольные комедии получают только потому, что их герои — святыни русской культуры. Конфликт отцов и детей находит выражение на уровне авторской рефлексии как бунт авангардистов против отцов-классиков. По крайней мере, «садизма» в комическом изображении последних Хармс не допускает, в чем, возможно, проявляется «конец авангардизма».
Традиция русского «черного юмора», угасшая вместе с обэриутами, возродилась в 1960—70-е годы в фольклорной форме детских садистских частушек, в которых нашло отражение общее мироощущение, сложившееся к середине ХХ века, в катастрофах которого были нарушены онтологические и духовные основания человеческого существования. Семантика предметов военной, промышленной, бытовой техники, используемых в них в качестве средств насилия и смерти, указывает, с одной стороны, на то, что создавались эти частушки именно в это время, с другой стороны, на то, что носили они преимущественно вторичный по отношению к реальности характер, «паразитируя» на текстах массовой литературной и кинопродукции о войне, о бандитах, о мафии, на анекдотах, слухах и публикациях прессы. Будучу явлением устного массового творчества, садистские частушки (СЧ) фиксируют отношения между взрослыми и детьми в устойчивых повторяющихся формулах — «базовых структурных моделях», содержание которых раскрывает их проблематику:
— маленький герой находит опасный предмет, следствием чего становится массовая или индивидуальная гибель людей;
— дети на опасной или чужой территории;
— детские игры, имитирующие смертельно опасные деяния взрослых (революция, война, спорт, коммерческие бандитские разборки).
Во всех случаях дети выступают представителями сущего, изначально естественного мира, тогда как взрослые — творцами пустоты, бессущественности, противоестественного начала. В наивном, игровом, бессознательном отношении детей к смертоносным орудиям и предметам нового быта находят отражение как безумие взрослых в милитаризации мира, так и трагическая изнанка технического прогресса: «Алые галстуки вьются над сквером: / Бомба попала в дворец пионеров»20. «Ленточки, звездочки, косточки в ряд. / Трамвай переехал отряд октябрят».
Эта проблема проявлена в картинах деонтологизации жизненного пространства мира, творимого взрослыми и угрожающего жизни детей, что отражается в формульной ситуации «Дети на опасной территории»21. Комизм возникает из абсурдной трансформации живого существа в продукт переработки механизмом, при этом «частичное» беспомощное существо ребенка уподобляется пассивности и бесформенности всей неорганической материи, из которого люди и механизмы «лепят» формы: «Это не ватмана лист, не картонка, / Напополам разделенная тонко. / Не календарь, не плакат, не газета. / Мальчик, катком перееханный, это». С другой стороны, основой «черного юмора» становится метаморфоза отцов, управляющих машинами, срастающихся с ними и принимающих их механистический, бездушный, «садистский» характер действий: «Дядя газоны косил неспеша. / Мелко нарезаны два малыша».
Несубстанциальность детства в глазах взрослых находит выражение в ситуации, когда жизнь детей сопоставляется со стоимостью вещей, измеряемой денежным эквивалентом. Детям, не ведающим о ценности вещей, взрослые постоянно внушают страх наказания за их порчу или потерю. Этот страх и абсурдная несоизмеримость ценностей порождают формулу юмора», которая может быть обозначена как «Родители сожалеют об утраченной вещи, равнодушные к гибели детей»: «Рухнуло тело, обуглились кости» и «папочка бедный в куче костей ищет кроссовки за двести рублей», или в другом варианте — «Вася учился летать, / И сиганул с подоконника... / Горько рыдает несчастная мать: “Снял кто-то кеды с покойника”».
В свойстве детей подражать в своих играх отцам срабатывает принцип бумеранга, на котором строится «черный юмор». Особенностью этой группы СЧ является то, что большей частью жертвами детских игр оказываются взрослые: «Юный солдатик стоял в карауле, / Метко в кого-то всадил он три пули. / Тихо на землю пришелец упал... / Жаль, что пароля не знал генерал». Таким образом, бумеранг, запущенный «отцами» в виде преданий о собственных «подвигах», обращается против них. При этом СЧ разоблачают и «безумную», и азартно-игровую суть гибельных предприятий и «забав» отцов: «Мальчик. Трибуны. Большой стадион. / Громко он крикнул: «Зенит — чемпион!» / Сломаны череп и два позвонка. / Много болельщиков у ”Спартака”». Свою крайнюю и, действительно, садистскую степень человеческая неполноценность детства с точки зрения взрослых получает в ситуациях СЧ, где дети сами превращаются в игрушку, потеху взрослых: «Дочка просила у мамы конфетку. / Мама сказала: ”Сунь пальцы в розетку... ”».
Детский «садистский» фольклор стал частью городской народной культуры времен «застоя», «культуры улиц и кухонь, культуры тайного протеста, ерничанья, насмешки, анекдота»23, которой было порождено и творчество Олега Григорьева.
С детским «черным юмором» eго связывает короткая частушечная форма стихов, наивная позиция наблюдателя, «формульность» ситуаций, так что нередко трудно судить, подражает ли поэт садисткой частушке, или СЧ является фольклорным вариантом его стихов:
О. Гритрьев:
Чтобы яблоки были ядовитые,
Надо в ствол мышьяку вогнать,
Все детки в округе будут убитые,
Если станут в садик к вам залезать24
СЧ:
Дети украли вишни из сада,
Бабушка Вера была очень paдa:
Не зря она сбрызнула деревья —
Много поминок будет в деревне.
В то же время усложнение структуры примитива СЧ у Григорьева происходит за счет литературного приема необычной версификации, эвфонии, полисемии, пародии или переделки литературного текста простым прибавлением: примитив + прием, — которое при минимуме средств максимально расширяет смысловое поле короткого текста. Построенная на ироническом обыгрывании массмедиальных клише политическая дидактика фольклорной частушки трансформируется у О. Григорьева в лирическом модусе, сохраняющим при этом «садизм» «черного юмора».
О. Григорьев:
Бомба упала и горд упал,
Над городом гриб подымается.
Бежит ребенок, спотыкаясь о черепа,
Которые ему улыбаются. [С. 223]
СЧ:
В поле нейтронная бомба лежала.
Девочка Маша кнопку нажала...
Некому выругать девочку эту —
Спит вечным сном голубая планета.
«Улыбающиеся» оскалы черепов являют в контексте стихотворения картину адского карнавала, бала сатаны, празднующего очередную победу над творением Бога, воплощением которой является ребенок. В реальном приближении улыбающиеся ребенку черепа отражают автоматизм поведения взрослых, механически приветствующих улыбкой и с того света свое любимое дитя. В контексте того же «черного юмора» в этом оскале черепов можно усмотреть и «садистское» злорадство взрослых, оставивших наследнику мертвый мир, и общее «детское» неведение заигравшегося человечества, не ведающего, что творит.
Семантическое расширение известной формульной ситуации «Дети на опасной территории» возникает у Григорьева за счет риторического обыгрывания переносных значений слов:
Однажды Сережа и Оля
Попали в магнитное поле.
Напуганные родители
Еле их размагнитили. [С. 135]
Здесь в поле «черного юмора» скрещиваются тревога детей, исходящая от быта, оснащенного электромагнитной техникой, и тревога родителей по поводу сексуальной свободы, захватившей и детей: обыгрывается семантика «притяжения» — магнитного и полового.
Эстетизация примитива СЧ осуществляется у Григорьева также за счет глубокой проработки нарратива. В механизме «черного юмора» не происходит, как в традиционной комике, преобразования страшного в нестрашное, когда то, что представлялось ужасным, оказывается пустяком, обманом зрения, розыгрышем, фантазией — это смех над собственным страхом. В «черном юморе» страшное сохраняет свою сущность, а моментом смехового остранения становится неадекватная - нейтральная, наивная, остроумная — реакция повествователя, вызывающая парадоксальную рецепцию, сочетающую и страх, и смех. Неадекватность реакции «рассказчика» обьясняется, как правило, со ссылкой на А. Бергсона, его «безучастностью», «нечувствительностью», «как бы краткой анестезией сердца». Однако дистанция между нарратором и брутальным событием отражает не столько порог чувствительности, сколько языковой порог: абсурд и ужас происходящего оказывается как бы «ниже исходной границы человеческого языка»25. Не случайно, что наиболее распространенной областью «черного юмора» являются биологические страхи, как наименее «переводимые» на язык слов и не поддающиеся логическому толкованию.
В том смысле Д. Хармс и О. Григорьев являют пример эстетического преодоления как психологического, так и языкового порога в изображении брутальных ситуаций. Достигается это, как мы показывали, посредством перевода непереводимых на логический язык явлений на язык иносказаний, игры словами, литературными мифами, жанрами, клише. При этом отношение нарратора к изображаемому миру выступает у Д. Хармса в аспекте творческой саморефлексии, обнажающей тенденцию и приемы деконструкции, деформации мира. И сам образ автора-обэриута предстает в ситуации «отцов» и «детей» в «обычном для подростка пубертатного возраста задиристом самоутверждении путем битья стекол в домах и т.д.», каким являет себя вообще авангард — «этот капризный, избалованный непредсказуемый, деятельный и веселый ребенок»26.
Григорьев, в отличие от Хармса, не озабочен творческим самоопределением, и игровой аспект языка и мира не является в его поэзии преимущественным. Театральность, присущая «черному юмору» Хармса, проявляется у Григорьева большей частью в ролевой персонификации речевого субъекта, в смене нарративных масок автора. Одной из таких масок является ребенок, выступающий в качестве героя-рассказчика. Он напоминает нарратора детских СЧ в своем наивном неведении сути происходящего. В отличие от отстраненно-констатирующей позиции рассказчиков в СЧ, детский взгляд на вещи в стихах Григорьева — заинтересованный, осмысляющий и переживающий ситуацию, именно в детском сознании осуществляется перевод непонятных действий взрослых в игровой или мифологический план. Так, в стихотворении «Сатир» дети, наблюдая поведение педофила, объясняют его либо как соучастие в детских играх и шалостях («Но... не вызывает страх — / Дети улыбаются»), либо как реализацию фантастического персонажа («Этот дядя с рожками, / Видимо, сатир» [С. 1361].
Нередко сама эллиптическая конструкция нарратива предполагает аналитическую рецепцию, раскрывающую внутреннюю логику ситуации:
На заду кобура болталась,
Сбоку шашка отцовская звякала,
Впереди меня все хохотало,
А позади все плакало. [С. 13]
Здесь известная в СЧ формула брутального исхода в подражании детей милитаризму взрослых акцентирует беспечность последних, забавляющихся нелепым обликом вооруженного до зубов малыша: «Впереди меня все хохотало» — и трагический оборот того, что представлялось забавным: «А позади все плакало».
Позиция наивного неведения детским нарратором смерти и страдания служит в стихах Григорьева не только способом нейтрализации момента сопереживания, но в большей степени, является приемом актуализации нелепой, алогичной внешней стороны странного явления, раскрывающей, в свою очередь, абсурд в его внутренней сути. Подобную нарративную тактику демонстрирует самое известное, ушедшее в фольклор, стихотворение О. Григорьева «Я спросил сантехника Петрова...» [С. 171]. Нелепое действие взрослого человека («надел на шею провод») и немотивированное нарушение правил диалога, тем более, разговора с ребенком («сантехник ничего не отвечает»), выражают существо столь же нелепого, несообразного с логикой мира его ухода из жизни: «Тихо ботами качает». В наивной позиции нарратора явно сквозит сожаление.
Эмоционально наполненной оказывается и другая, особенно характерная для Григорьева, авторская маска, под которой угадывается не «задиристый, капризный, деятельный и веселый ребенок» русского авангарда, а «ранимый, бесконечно обманывающийся <...> ребенок и чудак», обозначивший «чудачество как форму «внутренней эмиграции» 1960-1970 годов»27.
Беззащитный, трогательно-смешной чудак как лирический герой «черного юмора» Григорьева представляет собой чистый, идеальный зазор между нарастающей агрессией как со стороны детей, так и со стороны взрослых. Его «беззащитность» зиждется, с одной стороны, на идеальном принципе бережно-снисходительного отношения взрослого к детям и корректно-почтительного отношения к старшим по возрасту. Этот принцип не позволяет ему оказать сопротивление нападению ни тех, ни других. С другой стороны, какое-либо сопротивление оказывается бессмысленным, когда дети, сбившиеся в массу, бесконтрольны в своих действиях и играх, а злоба взрослых лишает их контроля над собой. Комизм бессмыслицы каких-либо принципов перед лицом неразумия детей и старушек стал содержанием стихотворения «Крадучись, точно вор...»:
...Полон детишек мой двор,
В меня запустили камень.
Двор показался мне адом,
Навели на меня пушку,
Задом прячусь я за дом,
Сбил с молоком старушку. <...>
Старуха как треснет бидоном, <...>
Упал я в лужу со стоном.
— Боюсь я детских игрушек,
А больше детей и старушек.
Григорьев переводит традиционный конфликт отцов и детей в противостояние неразумия тех и других нравственной норме, носителем которой оказывается не мудрец отец или учитель, авторитет которого у Григорьева дискредитирован, как и у Хармса, а простодушный добрый чудак. Его самоощущение в страшном мире лучше всего передает следующее четверостишие: «Как бумажный пароходик, / Среди страшных льдин, / Грозно стиснутый народом, / Я лавирую один»
Правда, способность «лавировать» изменяет ему, когда он оказывается среди детей. Обманываясь их «невинностью», он неизменно становится комической жертвой их «забав» и действий:
Дети бросали друг в друга поленья,
А я стоял и вбирал впечатленья.
Попало в меня одно из полений —
Больше нет никаких впечатлений.
Злые дети со счастливыми рожами
По плечам моим и коленям лазали.
Дети ели большие пирожные
И кремом меня нарочно мазали. [С. 139]
О. Григорьев проблематизирует средствами «черного юмора» те формульные ситуации СЧ, в которых то оживает древний ужас каннибализма (бомжи, «закусывающие» двумя «толстыми малышами» в СЧ «В кустах с одной бутылкой...»), то напоминает о себе угроза нового современного оружия массового уничтожения людей («Бомба упала и город упал» [С. 223]. В отношениях родителей и детей одинаковую опасность, как и в СЧ, представляют как «педагогические» действия взрослых, обучающих детей милосердию садистскими приемами («Кузнечик» [С. 134]), так и дети в своей мести родителям и наставникам за ограничение их свободы («Видел я учителя...» , «Первую получку справили, / Наставнику синяков наставили...» [С. 188]). Кроме того, Григорьев включает в реестр «садистских» формул новые тревоги нового времени, связанные с распространением сексуального насилия и наркотиков («Мальчик Шмяк и девочка Шлеп / <...> / Bмеcтo укропа собрали мак...». «Девочка красивая...» [С. 155] и др.)
«Черный юмор» Д. Хармса и О. Григорьева реализует отношение высокой поэзии к масскульту или фольклору как оппозицию отцов и детей, раскрывающую широкий спектр ее семантических значений: сознательного и бессознательного, мудрого и наивного, мастера и эпигона, прогрессора и профанатора. Эстетика «черного юмора» в любой его форме открывает новые онтологические и социологические аспекты вечной проблемы отцов и детей.
1 Борисов С.Б. Эстетика «черного юмора» в российской традиции
2 Там же.
3 Кобринский А. Хармс сел на кнопку, или Проза абсурда Искусство Ленинграда. 1990. №11, с. 70.
4 Кобринский А. Хармс сел на кнопку, или Проза абсурда // Искусство Ленинграда 1990. №11. С. 70.
5 Борисов С.Б. Эстетика «черного юмора» в российской традиции.
6 Там же.
7 Хармс Д. Цирк Шардам: собрание художественных произведений. Cпб.: Кристалл. 2001. С. 385-386.
8 Хармс Д. Цирк Шардам: собрание художественных произведений. СПб.: Кристал, 2001. С. 203-205.
9 Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка: Т. IV. М., 1982. С. 56.
10 Хармс Д. Цирк Шардам... С. 749.
11 Там же. С 62-64.
12 Хармс Д. Цирк Шардам... С. 384-385.
13 Хармс Д. Цирк Шардам... С. 849.
14 Хармс Д. Цирк Шардам... С. 846.
15 Там же. С. 699-700.
16 Зощенко М.Н., Хармс Д.И., Аверченко А. Т. Рассказы. Барнаул: День, 1993. С. 232-242.
17 Зощенко М.Н., Хармс Д.И., Аверченко А. Т. Рассказы. Барнаул: День, 1993. С. 233.
18 Там же. С. 236.
19 Хармс Д. Полет в небеса: Стихи. Проза. Драма. (Письма. Л. Сов. писатель, 1988. С. 392-393.
21 Электронный ресурс Либ.ру ANEkD01Y/sadist.Далее тексты СЧ приводятся по этому источнику без указания.
22 На эту проблему указывает А. Н. Губайдуллина на материале поэзии О. Григорьева: «Дети, по Григорьеву, не признают правил, преград, активно осваивают окружающую природу»: Губайдуллина А.Н. Деонтология детства в лирике О. Григорьева / / Русская литература в ХХ. Выпуск 8. Томск, 2006. С. 91.
23 Яснов М. «Маленькие комедии» Олега Григорьева. Электронный ресурс.
24 О. Птица в клетке. СПб.: Изд. Ивана Лимбаха, 2007. С. 135. Далее указываются страницы этого издания.
25 Липавский Л. Исследование ужаса. М.: Ad Marginem. 200.5. С. 18.
26 Беренштейн Е.П. Авангард как жертва Даниила(у) Хармса(у) / Литературный текст: Проблемы и методы. Исследования IV. Сборник научных трудов. Тверь, 1998. С. 11.
27 Яснов М. Вослед уходящей эпохе / / Григорен О. Птица в клетке. С. 13—14.