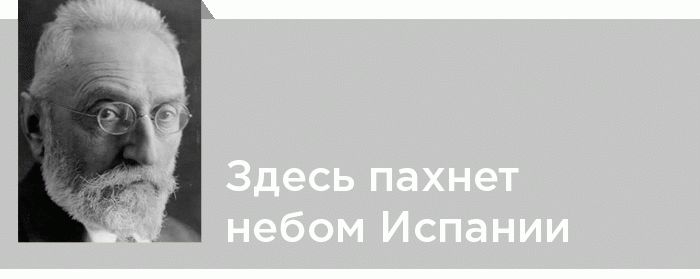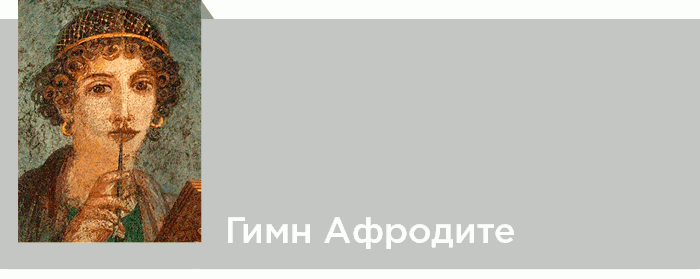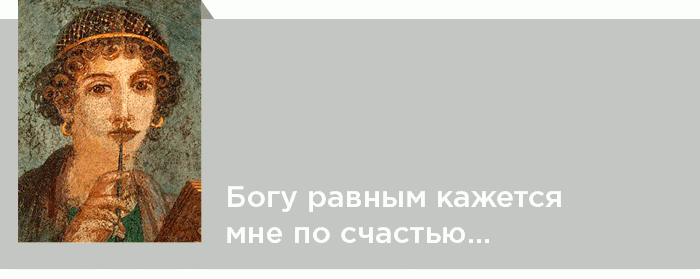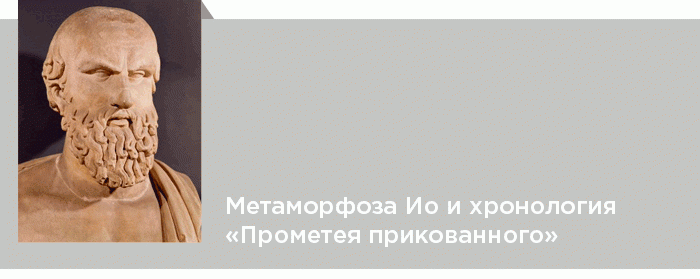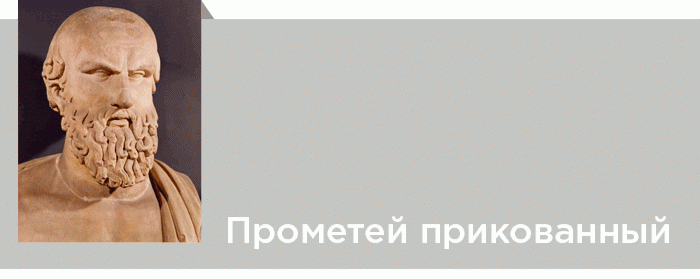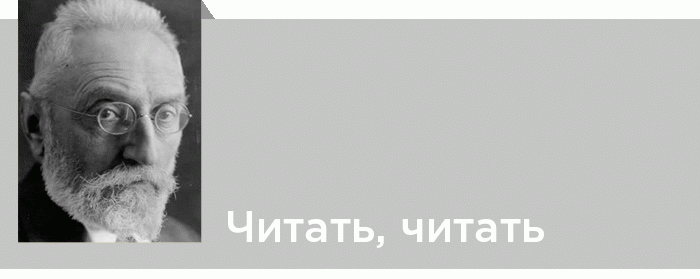Кассандра в системе характеров трагедии Эсхила «Агамемнон»

Г. А. Жерновая
В статье рассматривается характер Кассандры как элемент системы характеров в сопоставлении с главным героем Агамемноном. Типологически элемент системы «Кассандра» именуется автором как персонаж-«аналогия». Изучение структуры характера Кассандры (два этоса, два патоса) дополнено исследованием функциональных значений образа.
Ключевые слова: характер, этос, патос, персонаж-«аналогия», человекобог, вина, воздаяние, смерть, судьба.
G. А. Zhernovaya
CASSANDRA IN THE CHARACTERS’ SYSTEM OF AESCHYLUS’ TRAGEDY «AGAMEMNON»
The article reviews the nature of Cassandra as an element of characters’ system in comparison with Agamemnon, the main hero. Typologically element of «Cassandra» referred to by the author as a character-«analogy». Studying the structure of the character of Cassandra (two ethoses, two pathoses) completed with the study of the functional values of the image.
Keywords: character, ethos, pathos, character-«analogy», man-god, guilt, retribution, death, fate.
В системах характеров трагедий Эсхила центральный элемент (главный герой) отражается в периферийных элементах – характерах других действующих лиц, проявляя при этом свою сущность через сопоставление с ними. К главному герою, окруженному сопутствующим ему хором, присоединяются по принципу противоположности еще два персонажа, условно называемые автором данной статьи персонаж «вне хора» и персонаж «из хора». В некоторых трагедиях Эсхила система характеров дополнена персонажем-«аналогией» (термин опять же условный), изучение отношений и связей которого с главным героем и составляет содержание настоящей работы.
Кассандра – персонаж-«аналогия», призванный определить и уточнить грани характера Агамемнона – появилась в античном театре, так можно предположить, в результате реформы Софокла – введения третьего актера. Однако роль эту не стоит ограничивать только рамками ее функциональных заданий, потому что по яркости и эмоциональной силе она превосходит всех действующих лиц трагедии, включая Клитемнестру и тем более Агамемнона, осмыслению судьбы которого она способствует. Кассандра – это пьеса в пьесе, полюс высокой патетики, «гастрольная роль», как говорят теперь. Четвертый эписодий с ее участием подводит трагедию к кульминации.
Однако участвует Кассандра не в одном только четвертом эписодии, но еще и в третьем, в котором Агамемнон делает свой последний выбор перед пурпурным ковром, но там она молчит, как молчит и в начале четвертого. Молчание Кассандры – это огромная по временной протяженности экспозиция роли, первый этос характера героини и одновременно художественный прием разительной силы. К тому же, молчание молчанию рознь, и в четвертом эписодии оно значит иное, нежели в третьем. Как отметил В. М. Волькенштейн в своем теоретическом исследовании, «молчание в драме может выражать сопротивление, нежелание отвечать, скрывание, угрозу, мольбу и т. д. Его действенная природа может быть весьма разнообразна» [6, с. 66]. Молчание Кассандры неоднократно сопоставлялось в зарубежной и отечественной науке с молчанием Прометея и Ниобы, героев других эсхиловских трагедий.
Введение в театральную практику третьего актера совпало с поздним периодом творчества драматурга, и Эсхил воспользовался им своеобразно: в сценах с тремя актерами у него по-прежнему диалог ведут двое, а третий, хотя и участвует в диалоге, но молчит. При встрече Агамемнона с Клитемнестрой безмолвно присутствует Кассандра. Пленная троянская царевна приведена на официальную церемонию встречи царя с женой, она не спрятана им среди других рабынь, не оставлена в обозе до лучших времен, он сразу «сдает» ее на милость Клитемнестры. И если Эсхил выстраивает для Кассандры грандиозную сцену молчания, то, наверное, не потому только, что еще не привык пользоваться софокловским нововведением [См. об этом: 25, с. 205; 2, с. 102].
Важнейшая черта трагического облика Кассандры – ее одержимость языческим богом. Общеизвестно, что эстетически совершенные боги древних греков понимались позднейшим христианством как демоны и бесы. Эта христианская ис тина в разные времена воспринималась по-разному: ее признавали и отвергали, ей служили и ее осмеивали за вульгарность и скудоумие. Однако в самой логике, по которой Аполлон, покровитель языческих прорицаний (мантики) и искусств, был низведен христианскими богословами в бесы, а пророческое безумие Кассандры – в бесовское наваждение, нет противоречия, а в мысли этой нет ни парадокса, ни недоразумения. Вот и Ж.-Л. Барро, в ХХ в. затевая постановку «Орестеи», водил актеров во время гастролей в Бразилии на сеансы оккультизма и народные представления – поединки человека с духом, верно ощущая языческую природу духовности эсхиловских персонажей [См.: 3, с. 108–116].
Священная одержимость Кассандры, как и должно быть в языческом мире, имела болезненно-патологический характер. Платон видел в основе исступления безумие. Исходная посылка размышлений в диалоге «Федр» выражена им в форме дилеммы: исступление равно или не равно безумию. Вопрос, поставленный столь резко, позволяет главному герою Сократу дать ответ, вскрывающий «диалектику» зла и блага в указанном явлении: «Это было бы сказано хорошо, если бы исступление мы могли просто считать злом; но оно иногда становится источником величайших благ» [16, с. 391]. Божественное исступление, по Платону, бывает четырех видов: пророческое – от Аполлона, при посвящении в таинства – от Диониса, творческое – от Муз, эротическое – от Афродиты и Эрота [См.: 16, с. 417].
Пластика исступлений Кассандры описана А. Ф. Лосевым: «Она издает дикие крики на неведомом никому языке, и с воплями, судорогами она бросается на землю и в самозабвении бьется о нее руками и ногами, как бы желая провалиться в тот хаос и в ту бездну, в которую она и без того должна будет перейти через несколько мгновений» [15, с. 80–81]. По А. Ф. Лосеву, исступления Кассандры вызваны не столько страхом смерти, сколько мистическим ужасом, который, в свою очередь, составляет содержание творчества Эсхила и явлен в образе Кассандры почти наглядно [См.: 14, с. 828–829].
Талфибий знает, что вестники радости и вестники скорби молятся разным богам. Существовал запрет на смешение молитв богам ночи и дня, земли и неба, смерти и жизни. Исключением из правила была мантика, объединяющая ночной оргиазм Диониса с дневной избыточной мыслью Аполлона, которая «оперена» словом и которой подвластны различные (не только словесные) формы выражения. Прорицатель служит двум богам, и эта двойственность делает его родственным духу трагедии, что гениальный создатель Кассандры чутко угадал. Хор, пока не знал о пророческом даре Кассандры, пытался ее «одернуть», приструнить, т. к. она Аполлона звала скорбными возгласами. В толковании Вяч. Иванова, «плачевный вопль Кассандры, зовущей Аполлона, – вовлечение Феба в ночной предел состояний патетических – представляется ужаснувшимся старцам хора той же трагедии преступным кощунством» [9, с. 196].
Вопрос о том, почему возлюбленная Аполлона вещает в дионисийском экстазе, – не праздный. Ответом на него про- ясняется идейно-смысловая ткань трилогии, ее «темные» и «бездонные» глубины. Кассандра – муза-менада. В ней Аполлон и Дионис соединились прочнее, чем в Дельфийском святилище, они не просто породнились, а отождествились, стали одним. Женщина обретает дионисийскую оргийную пластику в момент вселения в нее Аполлона, он действует в ней, проявляясь через экстаз. О соединении двух мантических природ – дионисовой и аполлоновой – подробно написано у Вяч. Иванова, причем среди фактологических источников его аналитики важное место принадле жит Эсхилу [См.: 9, с. 34–35]. Исследователь приходит к выводу, что «мистическое слияние братьев-соперников в двуипостасное единство было намечено дельфийским жречеством в экзотерической форме внешних доказательств нерушимого союза и особенно в форме обмена священными атрибутами и знаками соответствующих божественных энергий. Задолго до Филодама, Аполлон – уже у Эсхила <…> – “плющеносец и Вакх”» [9, с. 54].
Подобный театральному принцип реализации той же самой религиозной идеи в другом искусстве описан И. В. Шталь в работе о вазовых росписях IV в. до н. э. Если в трагедии Эсхила бог дневного света Аполлон проявляет себя в дионисийской пластике порабощенной им женщины, то на вазовых изображениях ночной Дионис, царь потустороннего мира, преследует возлюбленную им душу в характерной позе Аполлона: «В ряде случаев правая рука Диониса согнута в локте и приподнята. Над крылом грифона видны запястья и кисть руки, пальцы которой сложены так, как если бы сжимали некий вертикально расположенный предмет. Аналогия подсказывает: это поза Аполлона, летящего на лебеде и держащего в руке лавровую ветвь» [21, с. 9]. И далее: «О том, что перед нами Дионис, свидетельствуют его средство передвижения и атрибут (не лебедь, а грифон), а также такие атрибуты дионисийства, как тимпан под ногами грифона и всадника» [Там же].
По Вяч. Иванову, сила и глубина проникновения в отдаленные времена (прошлого или будущего) зависит от первоначального хтонического Диониса, но вслед за тем Аполлон выходит на первый план, т. к. «все изреченное и изрекаемое в его власти более, чем во власти Диониса, который сам слишком глубоко погружен в ночь» [9, с. 39]. Идея двуединства Аполлона и Диониса сложилась и была утверждена в Дельфах; ее распространение имело объединяющее значение для эллинского мира. По А. Ф. Лосеву, «факт внутреннего синтеза Аполлона и Диониса в Дельфах есть самое несомненное, что только известно из религии и мифологии периода греческой классики» [13, с. 324].
В созерцательно-интеллектуальные формы аполлонических прозрений добавлен экстатический дионисийский элемент, и эсхиловская Кассандра – не просто тому свидетельство, а радикальное обострение рассматриваемой идеи. По наблюдениям А. Ф. Лосева, «вся античность была убеждена в чрезвычайной экстатичности и крайнем безумии ее пророческих вещаний» [13, с. 383].
Однако самый способ прорицаний Кассандры, изображенный в трагедии Эсхила, причем изображенный без уточняющих описаний в ремарках и какойлибо детализации, не следует считать воспроизведением неких актов конкретных прорицателей. Подобно тому, как при встрече Клитемнестры с Агамемноном не копируется дворцовый церемониал, так и в одержаниях Кассандры нет достоверной психологии, только условно-театральная реальность, «зашнурованная» в строгие формы хоровой и сольной лирики.
Приступы пророческого безумия у Кассандры начинаются неожиданно, они управляются не ею и непостижимы для нее. Каждый из них состоит из ряда «видений-картин», плывущих перед ее взором: она видит и одновременно рассказывает об увиденном, точнее, поет, т. к. все три наваждения даны в вокальномелической форме. Слова ее «темны» и загадочны. Когда приступ истощается и возвращается ощущение действительности, она старается связать исчезающие видения с реальностью, пока не настигнет новый шквал наваждений. В четвертом эписодии таких шквалов, как уже отмечалось, три: первый введен в рамки коммоса (пение персонажа с хором), второй и тре тий представлены монологами (возможно, ариями героини), а между ними развивается действие трагедии, в которое они вписываются эпическими блоками. Языковая специфика эписодия так охарактеризована О. М. Фрейденберг: «У Эсхила в “Агамемноне” Кассандра “видит” все, что произойдет в доме царя; а произойдут убийства. Об этом она и вещает хору сперва в загадочных выражениях, затем (если можно так сказать) в разгадочных. Пока Кассандра пророчествовала в мелической форме, она говорила именно загадками. Ее речь в форме речитатива становится понятийной. Теперь не загадками говорит она, а метафорами. И так как Кассандра – пророчица, вся ее речь состоит из загадок, обращенных мыслью Эсхила в сплошные иносказания» [18, с. 464]. Вяч. Иванов придавал особое значение этим переходам от «загадок» к «разгадкам»: «Наступает внезапно мгновение, когда пророческая речь, по словам самой пророчицы, сбрасывает с себя покрывало, под которым она таилась как невеста, и называет вещи и события их именами, определительно, без загадочных намеков и иносказаний: это аполлонийский момент в мантике» [9, с. 40].
Большинство отечественных исследователей сходятся на том, чтобы видеть в экстазе прорицателей момент соединения бога с человеком, слияние их, вселение бога в человека. По Вяч. Иванову, «дионисийское исступление уже есть человекообожествление, и одержимый богом – уже сверхчеловек (правда, не в том смысле, в каком употребил слово “Uebermensch” его творец – Гете)» [10, с. 32]. И. Ф. Анненский говорит о двойном зрении эсхиловской героини – божественном и человеческом: «Кассандра – это одержимая. Ее трагедия есть трагедия бога в бренной человеческой оболочке. <…> В Кассандре гибнет скудельный сосуд божественного знания» [1, с. 233–234].
Однако человекобог (это более верное слово, нежели сверхчеловек) в Кассандре ущербен, поскольку она оказалась не способной на полную самоотдачу богу, а без этого невозможно действительное обожествление. И дело не только в Кассандре, не сумевшей полюбить бога и обманувшей его, но и в несовершенстве (ограниченности) самого бога. Языческий бог не есть любовь, и он не обещает ее человеку, поэтому и люди не обязаны любить богов, хотя такое положение дел не может устраивать, прежде всего, самих богов.
Подробный анализ отношений Кассандры с Аполлоном (до начала трагедии, в мифе, хотя и с неизбежной «оглядкой» на Эсхила) можно найти у А. Ф. Лосева, который констатирует, что возлюбленных у Аполлона было много и все они оказывались несущественными для бога, который во всех случаях усугублял их и без того тяжкую долю: «Мифы изображают Аполлона всегда отличающимся известным пренебрежением к женщине, даже известного рода холодностью и брачной незаинтересованностью. И мужчины, и женщины обычно терпели от любви Аполлона не только большие страдания, но чаще всего это оканчивалось их гибелью» [13, с. 372]. Современный петербургский исследователь Л. С. Клейн нашел объяснение бедствий возлюбленных Аполлона в том, что Аполлон и Артемида, по его догадке, были патронами инициаций, покровителями мужской и женской юности [См.: 12, с. 355]. «Похоже, что этот загадочный бог питал особую ненависть к свадьбам, бракосочетаниям, любви и продолжению человеческого рода вообще. <…> Первооснова аполлоновского комплекса, видимо, в том, что Аполлон в первобытном обществе греков был воплощением мужской юности, как его сестра Артемида – женской девственности, девичества, и оба они – охранителями и защитниками норм добрачной жизни. Поэтому Аполлон и Артемида – воинствующие ревнители всяческой чистоты. Дельфийский Аполлон – бог очищения. Поведение брата и сестры есть “божественная абсолютизация этих идеалов”» [12, с. 347–348] (курсив автора. – Г. Ж.).
Если говорить применительно к Аполлону и Кассандре, то, по А. Ф. Лосеву, трагизм их отношений мог возникнуть из-за того, что «бог порядка и меры питал нежные чувства к стихии. <…> Это, очевидно, мир, упорно не подчиняющийся Аполлоновой упорядоченности и мере и погибающий от свойственных ему стихийных и случайных сил, несмотря на все благоволение к нему Аполлона» [13, с. 377].
Страстно влюбленный Аполлон наградил Кассандру даром прорицания, сделал ее человеческое существо вместилищем своего знания о прошлом и будущем и обеспечил себе беспрепятственный доступ в ее душу. Но Кассандра не смогла полюбить бога, и он, не будучи в силах отнять дар, уничтожил его тем, что словам ее у людей не было веры. К тому же приступы экстатического безумия случались с нею по желанию ее вдохновителя, а после них она оставалась наедине с собственным человеческим сознанием, принимала решения и вынуждена была нести ответственность за свои и чужие поступки. Ущербное человекобожество Кассандры делает ее похожей на Агамемнона, и эта черта становится решающей для нее как персонажа«аналогии».
Если персонаж «вне хора» и персонаж «из хора» в эсхиловской системе характеров строятся на подчеркивании в сходном с главным героем различного (противоположного), то персонаж-«аналогия» выявляет, наоборот, в противоположном (различном) – сходное. Кассандра и Агамемнон поданы трагиком в нескончаемых контрастах и противопоставлениях: женщина – мужчина, троянка – эллин, пленница – завоеватель, рабыня – господин, знание – неведение и т. д. Их объединяет общая смерть от руки Клитемнестры в доме Атридов, назначенная судьбой, и неудачливость в отношениях с богами (параллель: пророчица – царь). Их роковое сходство в смерти Эсхил подчеркнул адекватным композиционным строением двух эписодиев: в третьем он проходит свой путь от триумфальной колесницы до дверей дворца, в четвертом – она. Дорога к смерти одного и другой пролегает в одном и том же пространстве: только он идет по пурпуру, а она – без пурпура. Он – царь, она – пророчица, оба имеют атрибуты своего священства, знаки человекобожества. Он – жрец Зевса, ее дар – от Аполлона, в том и другом случае отношения с богом – личные. Они выходят из одной колесницы, идут к смерти по одной дороге, преодолевая одинаковое расстояние. Перед смертью он снимает обувь, чтобы уменьшить свое величие, она ломает пророческий жезл и рвет повязки.
Готовилось убийство одного, но убиты двое, одна из них – пророчица Аполлона. Мстителей будет также двое, хотя разит мечом один, т. к. задача второго – поддерживать в первом память об Аполлоне. И перед судом мстители предстанут вдвоем – Орест и Аполлон. Вместе с Кассандрой в действие трилогии введен важнейший из персонажей – бог Аполлон, сын Зевса, вдохновитель отмщения за Агамемнона. Так постепенно вызревает одна из магистральных тем «Орестеи»: месть свершилась и за Кассандру не только по ее предсказанию, но и по ее просьбе, значит, по ее воле.
Характер Кассандры в своей структуре и проблемах сходен с характером героя, но это не сниженный вариант Агамемнона, как в случае с Вестником, а его возвышенная проекция, выполненная психологическими средствами. По оценке А. Ф. Лосева, этот образ «превосходит решительно все, что у Эсхила можно было бы относить к области психологического реализма. Небывалый по своей трагичности комплекс переживаний Кассандры изображен у Эсхила не эпическими описаниями, не в виде рассказа вестника и передачи чувств и настроений хора. Они даны здесь сами по себе во всей своей жуткой обнаженности, во всем своем острейшем и, можно сказать, обжигающем психологизме» [15, с. 85].
Кассандра, как и Клитемнестра, проявляет себя в двуплановой ситуации. И первый план – это положение троянской царевны, ставшей рабыней в Аргосе, потерявшей родных и отечество, привезенной безжалостным завоевателем в свой дом и отданной под власть его злой жены. В трагедии эта сторона ситуации намечена, но не разработана, хотя некоторые горестные детали предстоящего рабства на чужбине все же должны были тревожить зрительское воображение.
Эсхил развертывает в трагедии не миф о пророческом даре Кассандры, а миф о ее смерти, согласно которому она была убита Клитемнестрой вместе с Агамемноном по возвращении героя домой. Поэтому она явилась зрителю в колеснице Агамемнона, а местом действия стала площадь перед дворцом в Аргосе. Сознание Кассандры путешествует во времени – из настоящего в прошлое и будущее, что и дает ей печальную привилегию как бы не замечать своих перемещений в пространстве и по социальной лестнице, несмотря на их ужасающую действительность. С той самой минуты, как она отказала Аполлону в троянском храме, ее жизнь оказалась ограниченной отношениями с отвергнутым богом, что на драматургическом уровне составляет второй план ее ситуации. Площадь в Аргосе – это место последней земной встречи Кассандры с Аполлоном. Внутренняя жизнь Кассандры всецело погружена в череду общений с богом, ведь именно он ведет ее из Трои в Аргос (Агамемнон здесь не имеет решающего значения). Своеобразие духовного мира Кассандры позволило драматургу превратить ее в оригинальный художественный прием, обеспечивающий наглядно-театральное воплощение религиозно-философских идей, открывающий возможность показать на примере Агамемнона действие судьбы, проследить ход и поступь мировой необходимости.
Об отношениях Агамемнона и Кассандры мифологическая традиция сохранила разноречивые сведения: с одной стороны, Аполлон якобы обрек ее на вечное девство, с другой – она якобы была наложницей Агамемнона и матерью его детей [См.: 13, с. 384]. Эсхил, избегая крайностей, ограничивается показом отношения Хора к ней, а Хор – заместитель Агамемнона [См. об этом: 8, с. 85–105]. Бережность Хора к Кассандре вызвана почтением к богу, присутствие которого в ней ощущается, а также печалованием о ее рабской доле:
Сердце ужалила жалоба горькая,
Доля бездольная, – вещий твой, жуткий плач.
Жалость и страх в душе.
(Аг. 1164–1166) [Здесь и далее цитаты из текста трагедии «Агамемнон» даются по изданию: 23]
Два плана жизненной ситуации Кассандры формируют ее этосы [Подробнее об этом см.: 8, с. 90–94]. Первый из них: царевна-рабыня внешне уже примирилась с неизбежным, но душа ее время от времени еще воспламеняется мятежным огнем, который трудно погасить. Градации пламени – от пожара до тления, от бунта до смирения – скрывает в себе молчание. Присутствуя при встрече Агамемнона с Клитемнестрой, она никак не реагирует на происходящее, потому что смирилась с положением безгласной вещи, за которую мыслят и чувствуют другие. Но когда Клитемнестра приглашает рабыню войти в дом, в молчании Кассандры появляются новые смысловые оттенки. Хор советует не противиться госпоже, но Кассандра вопреки здравому смыслу молчит, не двигаясь с места. Как женщина Агамемнона перед лицом счастливой соперницы она не может поступить иначе. И. Ф. Анненский в своей интерпретации осложняет содержание сцены, вводя в нее дополнительный мотив палача и жертвы: «У царицы сквозь высокомерную ласковость мало-помалу прорезывается наружу злоба. <…> Клитемнестру дразнит мысль о будущей жертве. Кассандру сковывает представление убийцы» [1, с. 235]. Клитемнестра между прочим верно «считывает» смысл происходящего: «Она – иль в исступленьи, иль мятежится» (Аг. 1064).
Казалось бы, что первый проблеск сознания после исступления, начавшегося сразу вслед за уходом Клитемнестры, первое слово героини должны были прояснить ситуацию с царицей, но Кассандра говорит об Аполлоне: «Дав согласье, – бога обманула я» (Аг. 1208). Налицо прием параллелизма, когда два поступка героини имеют общую мотивацию. Женская неуступчивость-непоследовательность, пренебрежение пользой и здравым смыслом в двух разных ситуациях привели к сходному результату.
Первый этос Кассандры – неуступчивость рабыни перед госпожой, женщины перед соперницей (молчаливый бунт), второй этос выражен в изувеченном пророческом экстазе как результат той же неуступчивости перед богом: женщина превыше всего, даже бога. По догадке Г. Д. Гачева, «Кассандра была именно покарана даром провидения, знанием грядущей судьбы. И оттого она просто жить не могла, была парализована в своих желаниях – шагу ступить не могла, ибо наперед видела длинный ряд его последствий. Но это значило, что в ней человек исполнял роль божества: всеведение кажется человеку сверх сил» [7, с. 217]. У А. Ф. Лосева интерпретация отношений Кассандры с Аполлоном, хотя и «отягощена» мифологически ми подробностями, посторонними Эсхилу, но в главном соответствует трагедии: «При всем своем дерзании и при всей своей бесцеремонности в отношении Аполлона Кассандра чувствует свою глубочайшую вину перед ним, мучится от этой вины и в конце концов даже теряет все свои жизненные и духовные силы от постоянной подавленности этим грехом» [13, с. 381].
Первый патос Кассандры – мольба об отмщении за несправедливость, предчувствие отмщения как грядущей справедливости, предсказание победы отмстителю:
Но взыщет пеню божий суд за эту кровь.
Отца отмститель, матереубийца-сын
Придет воздатель и мою вспомянет кровь.
Скиталец по чужбинам, он придет домой
Замкнуть звеном последним роковую цепь.
(Аг. 1280–1284)
Это предсказание сбудется, и каждое его звено создаст свой сюжетный узел в последующих частях трилогии. Но сказаны эти слова не только ради оформления композиционного каркаса трагедии. Они рождены мощным эмоциональным порывом героини, в них выражены ее пафос и патос, которые разрастаясь, дают взрыв катастрофической силы – торжество троянки Кассандры, предвидящей гибель своих завоевателей:
Что ж мне, чужой, о доме не своем стенать?
Я ль родины не видела последних мук?
А ныне вижу гибель победителей,
Суд страшный сил небесных над гордыней злых.
В том боги клятвой поклялись великою.
(Аг. 1286–1289)
А. Шопенгауэр видел в смиренном согласии Кассандры умереть, конечно, основу ее характера, но также и отражение собственной идеи угасания воли перед смертью (резиньяции). Не замечая двуплановости в развитии женского трагического характера, он обнаружил в Кассандре некоторую непоследовательность резиньяции – потребность в отмщении (вспышку волевого напряжения) как некий структурный элемент, принадлежащий, скорее, ее сущности (характеру), нежели бытию (действию), и объяснил это непрямыми формами резиньяции у античных трагиков: «Кассандра в “Агамемноне” великого Эсхила готова умереть <…>, но и ее утешает мысль о мести» [19, с. 456].
Второй патос Кассандры – в ее покорной готовности пойти на смерть во дворец, принять неотвратимое. На приглашение Клитемнестры она не ответила ни словом, ни жестом, ни движением. Теперь ей, узнавшей о приближении смерти, так естественно было бы и дальше остаться на площади, предпринять неразумную попытку бежать, просить и плакать. Но Кассандра не делает того, что естественно, а принимает вызов судьбы. Не из протеста, а из смирения. Так поступают знающий бог и отчаявшийся человек. Такой поступок требует чрезвычайного мужества:
Иду – и в мертвых две судьбы оплакивать –
Свою и Агамемнона. Я жить сыта…
О, смертных участь жалкая! Их счастие –
Как тень. Страданье? Как чертеж с доски
Смывает губка, – так сотрутся все дела.
Грустней, чем дар вещуньи, это веденье!
(Аг. 1313–1314; 1327–1330)
Человеку христианской культуры, пребывающему в постоянном общении («денно и нощно») с Богом, знающему, что в его отдельной от всех жизни нет случайностей, что все его сокровенные мысли и явные поступки взвешены и измерены Господом, что впереди – Страшный суд как подведение духовно-нравственного итога жизни, трудно себе представить затерянность язычника античных времен в благо- устроенном космосе, с богами, так недалеко отстоящими от людей, с постоянным дерзанием быть человекобогом. А именно из этой затерянности, из эмоционального переживания космического одиночества рождается особое мирочувствование как почва для трагедии. Самое непостижимое для нас в античной культуре – это трагическая эмоция, окрасившая собою предсмертные слова Кассандры о пустоте земного существования смертных, о бесполезности человеческих страданий и порывов. Кассандра – идеальное воплощение эсхиловской модели трагического характера, символ Трагедии, свет, в котором приобретают отчетливую (утреннюю) ясность терзания духа главного героя – Агамемнона.
Невыразимые предчувствия Агамемнона – Хора (стасим третий) в эписодии Кассандры обретают выражение. Трагедия Агамемнона находит здесь осмысление, орудием которого становятся «видениякартины», представшие ее внутреннему взору и получившие чеканную словесноритмическую оформленность. Сила присутствия Аполлона в бренной оболочке Кассандры так велика, что Эсхил для характеристики мощи сверхъестественного явления заменяет декламацию пением. В период формирования театрального языка «видения-картины» Кассандры – совершеннейшее театральное приспособление, почти машинерия: телескоп или эккиклема. Если античный спектакль в целом – это грандиозное аполлинийское «сновидение», которым грезят зрители [См.: 4, с. 96–111; 5, с. 349–355], то «видения» Кассандры – это «крупный план» душевного опыта неординарной личности. Происходит «удвоение» оптики: духовного зрения Кассандры, которому открыт тайный смысл случившегося, и земного зрения всех других участников представления. Она «видит», как убивают Агамемнона, и ее описания «обжигают», потому что за ними стоит несомненная действительность. А Агамемнон в это время жив и не знает об угрозе, нависшей над ним, ведь Кассандра «видит» событие раньше, чем оно совершается. Но когда зритель услышит вопли смертельно раненного Агамемнона, его сознание свяжет предсказанное и происходящее. Поэтому так важна попытка И. Ф. Анненского проникнуть в психологию героини в момент движущегося перед ней «видения»: «В Кассандре проявляется совершенно трезвый ужас, физическое отвращение перед той виденной ей одной и звучащей только ей картиной, которою бог начинает тревожить разом все ее чувства. Кассандра видит вперед. И шаг за шагом она передает ничего не понимающим старцам весь ход убийства» [1, с. 235].
Три приступа одержания претерпевает Кассандра, в каждом из них «видения» плывут перед нею по кругу: прошлое, будущее и судьба прорицательницы. Поэтому изложение вопросов функционального назначения характера Кассандры будет дано в статье не через последовательное описание каждого круга, а через анализ тематики пророческих «снов»: сначала мотивы прошлого (родовое проклятие Атридов), затем будущего (убийство Агамемнона) и, наконец, судьбы Кассандры (насильственная смерть и провозглашение грядущего возмездия).
Хор в пароде вовлек в ситуацию окончания Троянской войны, с которой начинается трагедия, события десятилетней давности – начала войны, тем самым возложив на Агамемнона ответственность и за убийство на жертвеннике Ифигении, и за гибель аргивян под Троей. Теперь Кассандра еще раз раздвигает временные рамки действия: начало трагедии отнесено на несколько десятилетий назад от жертвенника в Авлиде, к той трапезе, на которой Атрей, отец Агамемнона, накормил своего брата Фиеста мясом его собственных детей, своих племянников. Открывается новая ретроспектива осмысления судьбы Агамемнона, обозначается связь с преступлениями рода. И как только исступленная Кассандра назовет беззаконие Атрея, Хор откликнется словом понимания. Значит, не только Хор, но и Агамемнон задумывался над злодеяниями предков, догадывался, что судьба отдельного человека (его самого) вписана в контекст родовой участи. «Видение» Кассандры тайные страхи и предчувствия делает явными.
Вот они, вот стоят, крови свидетели:
Младенцы плачут: «Тело нам
Рассекли, и сварили, и отец нас ел».
(Аг. 1095–1097)
Толкование «видений» Кассандра дает позднее, когда приступ одержания уже идет на убыль, но бог еще не покинул ее; бог дает ее словам убедительность и резкость, что позволяет в них усматривать или приговор божьего суда, или поступь судьбы в хитросплетениях человеческих страстей. Вот «видение» дома Атридов в Аргосе:
Богопротивный кров, злых укрыватель дел!
Дом-живодерня! Палачей
Помост! Людская бойня, где скользишь в крови.
(Аг. 1090–1092)
А вот комментарий пророчицы к «видению»:
Давно не покидает сих чертогов хор
Созвучный, но не сладкогласный; с скрежетом
О мести вопиет он! Упился и пьян
Пролитой кровью; буйствует, из дома вон
Не выйдет, – в пляске сплетшийся Эринный хор!
Оне поют все ту же песнь: про первый грех,
Свершенный в доме, корень зла, проклятья сев.
И брата не забыли, ложе братнее
Когда-то осквернившего…
(Аг. 1186–1194)
Названы «корень зла» – измена жены мужу и орудие божественного возмездия – Эринии. Причем не три богини, как известно из мифологии, а целый хор. Не следует, однако, забывать, что триада – обозначение множества. Поскольку в третьей трагедии хор Эриний возглавит действие, нельзя не остановить внимания на том, что впервые он появился в «Агамемноне», именно как хор, а не отдельная Эриния, только еще не видимый ни зрителю, ни Кассандре. Она слышит пение Эриний и полагает, что это знак неотвратимости возмездия, нависшего над домом Атридов.
Новый (второй) круг «видений» вновь начинают ждущие отмщения дети:
Гляди – вот там, в притворе пред дворцом, они
Сидят недвижны, снам подобны, призраки
Детей, закланных… чьей рукой? не родича ль?
В горстях окровавленных держат снедь… чья плоть,
Не их ли? – эти внутренности? Страшный пир!
Кого-то угощают… Кто вкусил? Отец!..
(Аг. 1217–1222)
Здесь прежняя картина дополнена чудовищными подробностями, которые без труда, однако, опознаются Хором. Сваренные и съеденные дети не ушли из дома, они невидимо присутствуют среди его обитателей и домочадцев. Дети Фиеста в эллинском менталитете классического периода – олицетворенный ужас человеческих беззаконий, превосходящих допустимое и мыслимое. Наконец, до Кассандры Троянскую войну и аргивское войско во главе с Агамемноном не совмещал в одной плоскости с детьми Фиеста, т. е. не рассматривал в аспекте родового проклятия Атридов.
Важная особенность эсхиловского толкования мифа в том, что источник зла видится ему не в жестокости и самовозношении (гибрис) Атрея, а в супружеской измене его жены Аэропы с его родным братом Фиестом, измене, подвигнувшей Атрея на злодеяние. По Эсхилу, вина прежде всего падает на Аэропу и Фиеста – и только потом на Атрея. Позиция Эсхила подкреплена древним источником – Гомером, ко торый открывает возможность главному герою «Одиссеи» встретиться при посещении Аида с Агамемноном и поделиться с ним своими многоумными соображениями о причинах гибели рода Атридов:
Горе! Конечно, Зевес громовержец потомству Атрея
Быть навсегда предназначил игралищем бедственных женских
Козней; погибло немало могучих мужей от Елены;
Так и тебе издалека устроила смерть Клитемнестра.
(Од. 436–439; пер. В. А. Жуковского)
Эта версия мифа была, вероятно, основной.
Философско-психологическая проблематика вины и воздаяния (по трилогии Эсхила) разработана в европейской и отечественной науке подробно, поскольку большинство ученых полагало, что действенно-конфликтная структура трагедии призвана эту проблематику иллюстрировать. На самом же деле она присутствует в трагедии как духовно-нравственный фон, на котором развернуты эпизоды поединков персонажей, создающих сюжетную линию несколько иной направленности.
Представления Эсхила о чередовании вины и воздаяния (по закону необходимости – в трех поколениях семьи Атридов) можно показать на последовательности мифологических ситуаций, нашедших в «Орестее» сходную интерпретацию. 1) Аэропа изменила Атрею, разделив ложе с его братом Фиестом и отдав ему власть (мотив власти в этом сюжете основополагающий). В ответ – Атрей казнил Аэропу, убил детей Фиеста, предложив их тела на трапезе в качестве снеди (дети – невинные страдальцы, за них должно последовать божественное возмездие). 2) Елена изменила Менелаю с троянским царевичем – гостем Парисом и бежала с ним в Трою, захватив сокровища Спарты (здесь сокровища по значению равны власти). В ответ – Агамемнон, желая отомстить за унижение брата, собрал общегреческое войско и развязал войну против Трои, не остановившись перед жертвоприношением собственной дочери (невинная жертва). За десять лет войны были убиты тысячи воинов, греческих и троянских, их смерть губительно сказалась на семьях и детях, обездолив и лишив перспектив несколько следующих поколений. Одержав победу, он сравнял Трою с землей, уничтожив все мирное население города, оставшиеся в живых попали в рабство (здесь речь идет о неисчислимых невинных жертвах). 3) Клитемнестра изменила Агамемнону с его двоюродным братом Эгисфом, сыном Фиеста, они убили Агамемнона и невинную пленную троянку вместе с ним под предлогом мести за Ифигению и детей Фиеста, а на самом деле – чтобы захватить власть в Аргосе. Мнимое отмщение Клитемнестры стало началом новой вины. В ответ – Орест убил Эгисфа и свою мать Клитемнестру.
По Эсхилу, всякий человеческий поступок, большой или малый, имеет две стороны: личное стремление действующего и божественную санкцию на это действие. Если воля богов совпадает с личной волей человека (его целью и желанием), значит такой поступок может сделать человека всесильным, равным богам (человекобогом). Если же, совершая поступок, человек осуществляет интерес, не совпадающий с волей богов, то его деяние будет несовершенным и двойственным, а если при этом прольется невинная кровь, то такой поступок будет подлежать возмездию как людскому, так и божественному. В каждом поступке, направленном на восстановление попранной справедливости, присутствует из-за человеческого несовершенства корень нового преступления, требующе го, в свою очередь, нового отмщения. При этом последнее отмщение всегда превосходит беззаконность первой вины. Героям «Агамемнона» не дано выйти за пределы сковавшей их двойственности.
Люди же, назначенные для убийства, и люди, совершающие убийства, предопределены, и нет возможности что-либо изменить в распоряжениях судьбы. Может ли человек выйти из лабиринта предопределенности, как ему избежать судьбы – вопросы важные, но не корректные по отношению к Эсхилу, т. к. не имеют прямых связей с проблематикой «Орестеи». Судьба у Эсхила включает в себя волю богов и имеет статус высшей справедливости: судьба всегда права, а человек всегда по заслугам наказан.
Представленная выше опись чередований вины и воздаяния в трех поколениях семьи Атридов позволяет провести анализ данных в динамике перехода от одного поколения к другому. На первом этапе враждой был охвачен род – братья Атрей и Фиест, в результате чего невинно пострадали дети Фиеста. Традиционно считается, что их было двое [См., напр.: 22, с. 154]. Эгисф, тринадцатый сын Фиеста, в своем монологе говорит о двенадцати убитых Атреем братьях, не уточняя, правда, одновременно убитых или в разное время (Аг. 1604). Если на каждого из убитых – по Эринии, то как раз составится хор, пение которого слышит Кассандра. На втором этапе война разразилась между двумя близкими народами, захватив большой регион греческого мира территориально и достигнув необычайного масштаба бесчинств. Невинно погибших – тысячи, и Ифигения – их символ. На третьем этапе противоборство достигло максимальной ожесточенности, хотя его размах сужен до пределов семьи: враждуют мать и сын. Сын убивает мать, причину своего рождения, и по сути тем самым прерывает на себе продолжение злосчастного рода Атридов. Аэропа – Елена – Клитемнестра – как бы одно лицо, слившееся в конце концов с образом демона Аластора, издавна поселившегося в доме Атридов: ведь все три этапа бесчинств начинаются одинаково – с измены жены и предательства брата.
Будущее в «видениях» Кассандры отстоит от настоящего на минуты, не успевшие слиться в часы: предсказание сбывается до окончания эписодия. Кассандра «видит» подготовку убийства Агамемнона, его исполнителей Клитемнестру и Эгисфа, орудия убийства – сеть и секиру («топор двуострый»), наконец, сам момент убийства, описание которого дано в формах символических:
А!.. а!.. Вот, вот… Держи! Прочь от быка гони
Корову! Рог бодает…
Рог черный прободает плоть, полотнами
Обвитую! В хитрых тенетах он!
Рухнул в купальню, мертв… Выкупан в бане гость.
(Аг. 1125–1129)
Бык и корова – супруги Агамемнон и Клитемнестра, аналогичные Зевсу и Гере. Бык – священное животное царя богов, причем на Крите, где поклонялись Зевсу – Дионису, жертвенного быка убивали секирой, двойным топором [См.: 9, с. 124–131]. (Ср.: «Островной Дионис, бог двуострой секиры, быка и дифирамба, есть вместе бог морской, бог дельфинов и рыбачьих сетей, плавающий на корабле или, как истинный владыка стихии влажной, шествующий по водам» [9, с. 131].)
Кассандра описывает в своем «провидческом» монологе как Агамемнона, так и его убийц. Прямо названа черта, составляющая патос характера героя. По Кассандре, Агамемнон в своем патосе является владыкой, «усталым от браней» (Аг. 1226). Отсюда неразумная доверчивость к Клитемнестре, ошибка, за которую он платит жизнью:
А козней воровских герой
Не видит… Ноги лижет псица злобная,
Язык коварный лесть плетет; как Ата, сеть
Раскинула пред мужем в темноте жена!
О дерзость! Сокрушает хитрость женская
Богатыря!
(Аг. 1227–1232)
Эгисф – мститель за детей Фиеста, но он «лев без мощи львиной» (Аг. 1223– 1224), а если коротко – «домашний вор». В этой характеристике дана общая оценка личности. Оценочный момент преобладает и в описании Клитемнестры, построенном на подборе имен, которые могли бы точно соответствовать ее преступлению. Воинственность – это обобщающая характеристика царицы:
А как она вскричала! Воин так кричит,
Победу торжествуя. Вы же думали –
Спасенье мужа празднует…
(Аг. 1237–1239)
А через мгновенье зритель слышит победный вопль Клитемнестры над трупами Агамемнона и Кассандры, подтверждающий правоту непризнанной пророчицы. Затруднения Кассандры с выбором определений для Клитемнестры вызваны размером совершенного последней злодеяния, невозможностью охватить мыслью и словом все его аспекты. Исследователь трагедии В. Н. Ярхо отмечает: «Прелюбодеяние Клитеместры [так пишется имя героини в работах В. Н. Ярхо. – Г. Ж.] вместе с убийством мужа представляет осквернение страны и ее богов (1645), – по своим масштабам оно не только тождественно тому, какое совершил Агамемнон, принеся в жертву ради чужой жены родную дочь, но и вдвое превосходит его: Клитеместра убила своего мужа и отца своего сына» [24, с. 112].
Смерть Агамемнона зафиксирована в таком авторитетном для античности источнике, как «Одиссея», но гомеровские описания события, при всей их несогласованности в деталях между песньми, все же не совпадают с «видениями» Кассандры. Гомеровский вариант убийства Агамемнона исследован И. В. Шталь, которая обнаружила в «Одиссее» несколько художественных пластов, взаимодействующих друг с другом и взаимовлияющих друг на друга, а также две разноречивые версии события [См.: 20, с. 352–356]. Там другое место действия (дом Эгисфа), другой убийца (Эгисф, а не Клитемнестра; и даже если ей принадлежали замысел и подготовка преступления, все равно она – лишь сообщница, принимавшая непосредственное участие в убийстве), там представлены сражение и гибель двух дружин (Агамемнона и Эгисфа) в пиршественной зале. Отступления трагика от традиционного мифа столь значительны, что мысль о существовании других версий между Гомером и Эсхилом, не дошедших до наших дней, возникает естественно. Помимо «киклической» поэмы о возвращении героев, называются имена Ксанфа, Стесихора, Пиндара как предшественников Эсхила [См.: 11, с. 316]. Отступления же от мифа показывают, что Эсхил не ставит во главу угла верность традиции, он создает трагический сюжет, акцентируя в мифе те детали и подробности, которые раскрывают его замысел. На одну особенность «видений» Кассандры обратил внимание С. И. Радциг: «Она дает возможность поэту в безумных видениях пророчицы показать то, что должно сейчас произойти во дворце; ясно, что эта сцена не имеет отношения к мифологии» [См.: 17, с. 119].
Хор не верит Кассандре не только потому, что Аполлоном так определено, но и потому, что принадлежность Хора Агамемнону регулирует по воле поэта сферы его сознания и эмоций. В прошлом Хор без труда разбирается и даже способен оценить могущество пророческого дара пленной троянки. А вот предсказаний о бу дущем ему услышать не дано, потому что Агамемнон во дворце еще не почувствовал его горестной реальности. После монолога с «видениями» и «толкованиями» Кассандра простой «эллинской речью» говорит, без метафор и иносказаний: «Очами узришь гибель Агамемнона» (Аг. 1246) – но Хор ее все равно не понимает.
Третий (последний) тематический пласт «видений» Кассандры связан с узнаванием ею собственной судьбы – скорой смерти от руки Клитемнестры. Этому посвящены финал коммоса и второй монолог. В коммосе мотив прощания с жизнью подан как скорбная мелодия – плач о близкой смерти, причем называет она только одну конкретную деталь – обоюдоострую секиру, а затем переходит к воспоминанию о Трое. Хор сравнивает ее с соловьем, который поет как стонет, но «не насытится песнию грусть-тоска» (Аг. 1144–1145). Именно этот раздел придает всему коммосу оформленность и стилевую окраску – патетическое оплакивание себя перед смертью и подготовка к ней.
В монологе Кассандры нет «видений» как таковых, есть только называние деталей и оценка предстоящих событий:
Меня погубит львица вероломная,
Что с волком спит, покуда льва в берлоге нет.
Варя отраву мужу, зелья пригоршню
И на мою подложит долю Мрака дочь.
Точа топор – цареубийцу, выместит
И на царевой спутнице ревнивый гнев.
(Аг. 1258–1263)
Верно определены отношения Клитемнестры с Эгисфом, верно мотивировано, почему Клитемнестра убьет Кассандру. И эта совершенная точность придает дополнительную силу мотиву грядущего отмщения, который завершается пророчествомзагадкой:
Когда жена
Искупит смертью смерть мою, смерть женскую,
И муж падет за мужа, чья жена – палач, –
Меня, гостеприимцы, в день тот вспомните!
(Аг. 1317 –1320)
По дороге на казнь она остановится у двери, из которой пахнуло свежей кровью – «Фимиам – и тлен» (Аг. 1311). Но, преодолев отвращение, она откроет дверь и войдет во дворец. И умрет безмолвно. В классицистском театре вопль умирающего за сценой станет откровенным театральным штампом, но Агамемнон дважды кричит, как положено было воину в пылу сражения – сообщать о себе или звать на помощь. Он умирал не на поле брани, но ему поздно было менять привычки. Кассандра молча пришла – и молча ушла.
Примечания
- Анненский И. Ф. История античной драмы: курс лекций / сост. В. Е. Гитин и В. В. Зельченко. СПб.: Гиперион, 2003.
- Анпеткова-Шарова Г. Г., Чекалова Е. И. Античная литература: учеб. пособие. Л.: ЛГУ, 1989.
- Барро Ж.-Л. Размышления о театре. М.: Изд-во иностранной литературы, 1963.
- Волошин М. Аполлон и мышь // Волошин М. Лики творчества / отв. ред. В. А. Мануйлов, Б. Ф. Егоров. Л.: Наука, 1988. С. 96–111.
- Волошин М. Театр как сновидение // Волошин М. Лики творчества / отв. ред. В. А. Мануйлов, Б. Ф. Егоров. Л.: Наука, 1988. С. 349–355.
- Волькенштейн В. Драматургия. М.: Сов. писатель, 1969.
- Гачев Г. Д. Содержательность художественных форм. Эпос. Лирика. Театр. М.: Изд-во Моск. ун-та; Флинта, 2008.
- Жерновая Г. А. Хор и герой как проблема характера в поздних трагедиях Эсхила («Агамемнон») // Искусство и искусствоведение: теория и опыт: Жанр – форма – направление / под ред. Г. А. Жерновой. Кемерово: КемГУКИ, 2009. Вып. 7. С. 85–105.
- Иванов В. И. Дионис и прадионисийство. СПб.: Алетейя, 1994.
- Иванов В. И. Ницше и Дионис // Иванов В. И. Родное и вселенское / сост. В. М. Толмачев. М.: Республика, 1994. С. 32.
- История греческой литературы / под ред. С. И. Соболевского и др. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1946. Т. 1.
- Клейн Л. С. Анатомия «Илиады». СПб.: Из-во С.-Петерб. ун-та, 1998.
- Лосев А. Ф. Античная мифология в ее историческом развитии. М.: Учпедгиз, 1957.
- Лосев А. Ф. О мироощущении Эсхила // Лосев А. Ф. Форма – Стиль – Выражение / сост. А. А. Тахо-Годи. М.: Мыль, 1995. С. 828–829.
- Лосев А. Ф. Эсхил // Лосев А. Ф., Сонкина Г. А., Тимофеева Н. А., Черемухина Н. М. Греческая традиция: учеб. пособие. М.: Гос. учеб.-пед. изд-во Министерства просвещения РСФСР, 1958.
- Платон. Диалоги / пер. с древнегреч. В. Н. Карпова. СПб.: Азбука, 2000.
- Радциг С. И. Миф и действительность в греческой трагедии // Филологические науки. Науч. доклады высшей школы. 1962. № 2.
- Фрейденберг О. М. Образ и понятие // Фрейденберг О. М. Миф и литература древности / отв. ред. Е. М. Мелетинский. М.: Наука, 1978. С. 464.
- Шопенгауэр А. Мир как воля и представление / пер. с нем. М. И. Левиной; сост. И. С. Нарский, Б. В. Мееровский. М.: Наука, 1993. Т. 2. С. 456.
- Шталь И. В. Гомеровский эпитет как элемент художественной системы // Поэтика древнегреческой литературы / отв. ред. С. С. Аверинцев. М.: Наука, 1981. С. 352–356.
- Шталь И. В. Свод мифо-эпических сюжетов античной вазовой росписи по музеям Российской Федерации и стран СНГ (пелики, IV в. до н. э., керченский стиль). М.: Олма-пресс, 2000.
- Штоль Г. Мифы классической древности: в 2 т. / пер. с нем. В. И. Покровского и П. А. Медведева. М.: Высшая школа, 1993. Т. 2.
- Эсхил. Трагедии (в переводе В. Иванова) / отв. ред. Н. И. Балашов. М.: Наука, 1989.
- Ярхо В. Н. Драматургия Эсхила и некоторые проблемы древнегреческой трагедии. М.: Худ. лит., 1978.
- Ярхо В. Н. Эсхил. М.: Худ. лит., 1958.