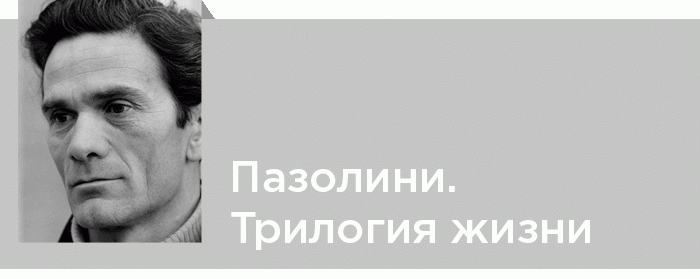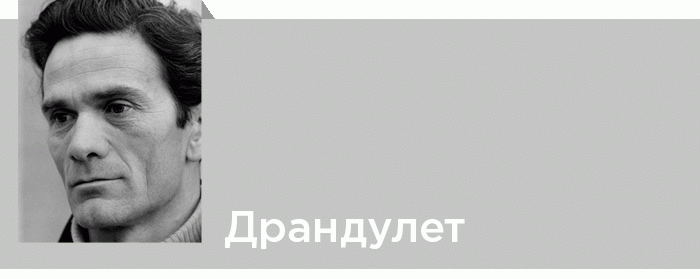Пьер Паоло Пазолини и его миф: «Трилогия жизни» полвека спустя

Ф. Фуртай
Делается попытка анализа великой трилогии Пазолини, включающей фильмы «Декамерон», «Кентерберийские рассказы», «Цветок тысячи и одной ночи», с учетом полувековой временной дистанции. Задача статьи — показать ее многослойность, которая служит основанием для разного понимания и оценок произведения, имевших место при жизни Пазолини и спустя десятилетия после его трагического и загадочного ухода. Также обращается внимание на различие приемов художественной выразительности между элементами литературного образа (фонемами) и кинематографической визуальностью (кинемами), с которыми так много экспериментировал Пазолини. Не соглашаясь с устоявшейся точкой зрения, сравнивающей «Трилогию жизни» с дантовским делением на Ад, Чистилище и Рай, автор статьи полагает, что фильмы, созданные Пазолини на основе литературных произведений, некорректно рассматривать в качестве аналогий с метафизическим «вертикальным» путешествием Данте в посмертные миры. Напротив, передвижения в трилогии Пазолини — юг, северо-запад, восток — «горизонтальные», земные и даже хронологически почти совпадают. «Трилогия жизни» Пазолини — это скорее три жизненных модуля, с которыми встречается человек: «Декамерон» — бытовая повседневность в ее отношениях с искусством (схожую коллизию мы наблюдаем в «Андрее Рублеве» А. Тарковского), «Кентерберийские рассказы» — выражение радости жизни, связанное с комичностью человеческой телесности, «Цветок тысячи и одной ночи» — греза-сказка о всепобеждающей любви в антураже чарующего Востока, увиденного глазами европейца. Именно поэтому эти фильмы можно по праву назвать «Трилогией жизни».
Ключевые слова: итальянское кино, Пьер Паоло Пазолини, «Трилогия жизни», маргинал-пассионарий, фонемы, кинемы, кинообраз, философия жизни, авторское кино, семиотика кино.
Великое кино Италии создавалось великими режиссерами. Это были разные судьбы, характеры, творческие индивидуальности. Ренессансный оптимист, брутальный волшебник Феллини, потомственный аристократ, утонченный эстет Висконти, занудный провидец и расчетливый романтик Антониони, великий комбинатор и пересмешник Бертолуччи. Их всех объединяло не только то, что они были великими кинорежиссерами, но и то, что они являли собой тип мыслителя-гума- ниста, наследника тысячелетней художественной традиции классической и ренессансной Италии. Пазолини был не таким! Неистовый и беззащитный, нарушитель устоев и скандалист, гомосексуалист и «маменькин сынок». Тем не менее именно его можно называть титаном эпохи Возрождения: Пазолини писал стихи и картины, романы и научные статьи, публицистику и киносценарии, снимал фильмы и снимался сам как актер.
К тридцати восьми годам, когда Пазолини решил попробовать себя как режиссер в кино, за его плечами был не только большой и горький жизненный опыт, но и творческие достижения. После первого сборника «Стихи в Казарсе», выпущенного еще в студенческие годы (1942) и замеченного и оцененного такими интеллектуалами и критиками, как Джанфранко Контини, Альфонсо Гатто и Антонио Русси, в 1954 г. выходит его сборник «Несравненная юность», подводящий итог поэтического творчества на фриульском диалекте за период 1941-1943 гг. В 1957 г. увидел свет сборник поэм «Прах Грамши», получивший престижную литературную премию Виареджо, а в 1958 г. — «Церковный соловей», включающий стихи на итальянском языке, созданные в 1943-1949 гг. В 1952 г. Пазолини удалось издать антологию «Диалектальной поэзии XX века» (о чем он мечтал еще в студенческие годы).
В середине 1950-х годов Пазолини начал писать прозу. В 1955 г. выходит его первый роман «Ragazzi di vita» (в русском переводе роман опубликован под названием «Шпана»), в котором рассказывалось о жизни мальчишек из предместий Рима, одновременно жалкой, безобразной и жестокой [1]. Примечательно, что свой первый роман Пазолини пишет на романеско (dialetto romanesco), т. е. на римском диалекте, то ли из эстетства, то ли из желания позлить буржуазного обывателя, то ли из уважения к народной культуре. В 1959 г. выходит его второй роман «Una Vita Violenta» («Жестокая жизнь»), который также повествует о непроглядной реальности социальных низов. Его первые книги получили одобрение не только Итальянской компартии, но и советских коммунистов. В прессе того времени отмечали, что Пазолини является не только поэтом и писателем, он — мыслитель и критик и в силу этого общественный деятель. Его приятель и коллега по журналистскому делу, известный итальянский литературовед Энцо Сичилиано, назвал его лучшим критиком своего времени [2]. В эти годы молодой Пазолини познакомился и сдружился с известными итальянскими писателями Аттилио Бертолуччи и Альберто Моравиа, с которым у него были творческие отношения, общие убеждения, совместная поездка в Африку, постройка дома и, к сожалению, нереализованный сценарий по древнегреческой трагедии «Орест». В конце 1950-х годов Пазолини познакомился с Федерико Феллини.
Это непростое десятилетие было ознаменовано не только литературным успе-хом Пазолини-поэта, писателя, публициста, он продуктивно работал и как киносценарист. К 1960 г. у него написано пятнадцать сценариев, по которым были сняты такие фильмы, как «Женщина реки» Марио Сольдати с начинающей актрисой Софи Лорен в главной роли, «Девушка на витрине» Лучано Эмера с Лино Вентурой и Мариной Влади, «Кокетка Мариза» и «Бурная ночь» Мауро Болоньини, «Мрачный жнец» Бернардо Бертолуччи, «Ночи Кабирии» и «Сладкая жизнь» Федерико Феллини.
В истории мирового кинематографа не так уж много режиссеров, кто писал для своих фильмов сценарии, снимал их и играл в этих фильмах роли. Еще меньше тех, кто начинал свой путь в кино, никогда не учившись режиссуре, кто снимал как хотел и к тому же часто непрофессионалов. Наконец, Пазолини единственный, кто пришел в кино, будучи известным успешным поэтом, писателем и сценаристом. Он начинает снимать фильмы, потому что ищет расширения читательской аудитории и провидчески понимает, что послевоенная культура становится все более визуальной, а не фонетической.
Неудивительно, что страстное желание быть собой и говорить со зрителем о реальности обусловило выбор дебютного фильма — экранизацию своего второго романа «Una Vita Violenta», которая получила название по прозвищу главного героя — «Аккатоне» (1961).
Начинается пятнадцатилетняя деятельность Пазолини как режиссера, принесшая ему мировую славу, престижные призы и номинации и одновременно эпитет «ненавидимый», данный ему определенными слоями общества1. Девять его художественных картин (из снятых шестнадцати) запрещались цензурой, а его самого часто обвиняли, как правило бездоказательно, в нарушениях приличий. И открыл этот список фильм «Аккатоне», который тут же запретила цензура. Это вызвало громкий общественный резонанс, начались дискуссии против цензурного запрета фильма; в этих публичных протестных выступлениях участвовал Федерико Феллини (случай весьма редкий!).
Примечательно, что большую часть фильмов Пазолини снял по собственным сценариям. Более того, его кинотворчество невозможно понять до конца вне связи с его поэзией, вообще с литературной деятельностью. Можно сказать, что творчество Пазолини обладает автобиографическим единством, в котором кино помогает лучше увидеть и понять его поэзию, в них разрабатываются одни и те же темы и звучат одни и те же мотивы. Вопрос взаимосвязи фильмов Пазолини с его литературным творчеством и в более широком контексте — связь кинообразов с образами живописи Возрождения и музыкальным сопровождением — тема обширная и недостаточно изученная. Она, безусловно, требует отдельных больших исследований.
В сущности, фильмы Пазолини — это продолжение монолога, который вначале рождается как апофатическое чувство, затем концентрируется в мысль, мысль вербализируется в стихотворение, роман или сценарий, а затем визуализируется в кинообразе. Сам Пазолини видел в обращении к кинематографу отражение своего стремления к истинному художественному языку, который был бы не связан с конкретной культурной средой и языком.
«Я дал различные объяснения, почему я люблю кино и перешел в кино. Я хотел использовать другую технику, вызванную моей выразительной одержимостью.
Я хотел изменить язык, отказавшись от итальянского языка, вообще итальянского, протестуя против языков и против общества. Но истинное объяснение того, что я делаю в кино, — это воспроизведение реальности, так чтобы очень близко подойти к первому человеческому языку — действию, представляющему человека в реальной жизни» [4].
Сценарной основой для прославленных картин, которые сам Пазолини называл «Трилогией жизни» и которые получили мировое признание и награды престижных кинофестивалей в Берлине и Каннах, были выбраны великие литературные произведения. Нельзя сказать, что за полвека, прошедшие после выхода на экраны фильмов трилогии, они не привлекали внимания исследователей. Однако работ, посвященных непосредственно «Трилогии жизни», единицы [5-8]. Тем более интересно посмотреть на эту монументальную кинофреску не в философско- эстетическом ключе, в котором ощущалось влияние взглядов Маршалла Маклюэна и его концепции «визуального порядка», и не с точки зрения историка итальянской литературы, но с точки зрения искусствоведа, исследующего специфические черты современного художественного процесса, ведущим видом искусства которого является кино (см.: [9-11]).
«Трилогия жизни: Декамерон»
Сценарий «Декамерона» («Il Decamerone»), получившего Серебряного медведя на Берлинском кинофестивале в 1971 г., был создан Пазолини на основе великого произведения Джованни Боккаччо. Гуманист в русле интеллектуальных течений своего времени, Боккаччо восхищался культурой Античности (что импонировало Пазолини, имевшему за плечами две удачные авторские экранизации античной драматургии — «Царь Эдип» и «Медея»). Созвучно его натуре было и то, что Боккаччо после многих столетий ригоризма вновь ввел в европейскую литературу тему эротики и сексуальных отношений между мужчиной и женщиной. Эротизм у Боккаччо предстает как здоровое, радостное, юмористическое, хотя и грубоватое начало человеческого существования.
К 1970 г., когда Пазолини обращается к теме Боккаччо и начинает снимать «Декамерон», в тренде европейского и американского кинематографа были фильмы, отражающие, с разной степенью талантливости, проблемы социального неравенства и мафии, рефлексии на недавние студенческие протесты 1968 г. и экологические проблемы, псевдопервобытные фантазии и особенности молодежной музыкальной субкультуры. Однако Пазолини, подобно титану эпохи Возрождения Микеланджело, никогда не оглядывался на общепринятые нормы и господствующие тенденции в кино. Он был первым, кто обратился к этому памятнику ренессансной литературы. Среди фильмов о современных проблемах и недавнем прошлом, где не последнее место занимали эротика, насилие и пошлость, Пазолини развернул цветную, первозданную в своей телесности, радостную и наполненную нерефлексирующей обыденностью монументальную средневековую фреску.
Сценарий фильма основывался на девяти новеллах, выбранных из ста, рассказанных героями Боккаччо: день первый, новелла первая; день второй, новелла пятая; день третий, новелла первая; день четвертый, новелла пятая; день пятый, новелла четвертая; день шестой, новелла пятая; день седьмой, новелла вторая и десятая; день девятый, новелла десятая.
Непосредственно в сюжеты этих не связанных между собой новелл Пазолини не вносил изменений, и рассказы о патологическом лжеце, прослывшем после смерти святым, о неудачливом и одновременно везучем торговце Андреуччо, о любви дворянки и слуги, о молодом садовнике в женском монастыре, о приходе умершего кума к своему другу, о продаже бочки любовнику и другие комические, а иногда и драматические ситуации из жизни средневековой Италии в фильме переданы наиболее близко к литературному источнику.
Встает вполне правомерный вопрос — что явилось критерием для выбора именно этих новелл из целой сотни занимательных рассказов в книге Боккаччо? На наш взгляд, их было достаточно, чтобы очертить весь круг жизненных ситуаций, с которыми встречается любой человек (обман, несчастная/счастливая любовь, измена супруга, неудача/удача в делах, желание волшебства, приключение, опасность в дороге, творческие искания). Однако у Пазолини это не только пестрые рассказы об обыденной жизни обыкновенного человека, но и основа для образа «нового искусства». Если у Боккаччо эти незатейливые рассказы являются частью времяпрепровождения в период карантина во время чумы, то у Пазолини эти же сюжеты — основа для творчества.
Невозможно в такой целевой установке сценария, над которым работал Пазолини, не увидеть прямых перекличек с фильмом «Страсти по Андрею» («Андрей Рублев»), который триумфально прошел по Западной Европе за два года до этого. Пазолини и Тарковский не были дружны, но ценили творчество друг друга. В частности, своим студентам Тарковский среди обязательных для просмотра фильмов называл и картины Пазолини [12].
Сходство сценариев просматривается не только в цепи демонстраций различных жизненных ситуаций, но и в том, что мир, где они разворачиваются, видится взором художника — у Тарковского глазами Андрея Рублева, у Пазолини — Джотто, крупнейшего художника «нового искусства» Проторенессанса. Тем не менее это не означает, что на сценарий фильма Пазолини оказали влияние «Страсти по Андрею» Тарковского. Как видно из воспоминаний Пьера Паоло, тема «Декамерона» как культурного явления и средства пережить внешние невзгоды появляется еще во время добровольного заключения в деревне Версута в годы войны: «Как сладки были воскресенья, которые мы проводили в ту зиму и весну благодаря фриульской поэзии и музыке П.! Мы обычно собирались вместе в моей комнате, или в маленькой комнатке в задней части кухни Цикуто, где жили наши друзья, или даже, как последний выбор, в сарае, который я использовал как школу. Теперь уже никто не мог выбросить из головы, что это был наш Декамерон, или, точнее, временное прозрение того внутреннего скита, в котором мы укрылись, до которого не долетало даже эхо тех страшных взрывов, сотрясавших землю днем и ночью. Мы говорили о музыке и поэзии. Хотя с крайней веселостью, много смеха и много перерывов, чтобы посплетничать о наших общих буржуазных друзьях С.» (цит. по: [6, p. 353]).
Один из кинокритиков того времени Хэл Эриксон (Hal Erickson) в своем синопсисе писал, что «Декамерон» был первым из «трилогии жизни» режиссера Пазолини, что фильм, основанный на сексуально заряженных рассказах Боккаччо, представляет собой «лоскутное одеяло» из его любимых тем, а режиссер играет роль начинающего художника-монументалиста, который говорит сам себе, что завершенная работа никогда не будет такой удовлетворительной, как мечта об этой работе [13].
Если вчитаться в незатейливый текст синопсиса, видно, что он состоит из двух почти несвязанных частей: первая — это пестрое собрание «сексуально заряженных» рассказов, вторая — сожаления художника о том, что завершенная работа хуже, чем грезы о ней. Уместен вопрос: взаимодействуют ли эти части в фильме? Откуда и зачем в фильме возникает персонаж, который точно даже не идентифицируется — то ли сам Джотто, то ли его ученик? В восемь из девяти новелл Боккаччо, вошедших в фильм, Пазолини не вносит сюжетных изменений, и только новелла (совсем маленький рассказ) шестого дня, повествующая о возвращении из своих загородных домов известного юриста Форезе да Рабатта и живописца Джотто во Флоренцию, подвергается переработке. У Боккаччо оба персонажа — состоятельные люди, попавшие под сильный дождь, имеют вид жалкий и не соответствующий их известности и положению в обществе. Они принимаются подшучивать друг над другом, в частности Рабатта говорит, что, глядя на Джотто, не поверишь, что он первый в Италии живописец. В ответ Джотто отшучивается, что Форезе да Рабатта похож на человека, который умеет читать только по складам. В сущности, Боккаччо говорит в этой новелле о том, сколь важен в обществе внешний вид.
Что делает с этой новеллой Пазолини? Во-первых, он представляет Джотто не зажиточным горожанином, едущим на лошади, как у Боккаччо, а шагающим по дорогам средневековой Италии пешком. Во-вторых, его спутники — это не известный богатый юрист, а полунищие подмастерья, артель художников, напоминающая живописную артель Андрея Рублева. Тем самым Пазолини снижает социальный статус «главного визуализатора» повествований «Декамерона». И это идет вразрез с авторской концепцией Боккаччо, который пишет свой труд для зажиточных и грамотных купцов, для городской элиты.
Таким образом, Пазолини свой «Декамерон» строит на диалоге и даже на противопоставлении двух авторских концепций, разделенных более чем шестью веками. И в этом смысле мы согласимся с исследователем из дублинского Trinity College Э. М. Феррарой (E. M. Ferrara), которая в своей статье [6] подробно рассматривает авторские концепции Боккаччо и Пазолини с точки зрения гендерной теории. Мы признаем за автором этой статьи право видеть основание концепции Пазолини в противоборстве «мужского» и «женского» начал в обществе, подкрепленное разностью итальянских диалектов, однако вызывает сомнение утверждение Э. М. Феррары о том, что метафора «пустоты или чистой стены», часто встречающаяся в «Декамероне», а также взгляды Джотто-Пазолини в никуда, в «неназываемое», указывают на гомосексуальные формы отношений.
Попытаемся дать анализ этой концепции с иной точки зрения, помня о том, что каждый великий поэт, художник, режиссер прежде всего творец, и только потом уже чей-то любовник! Иными словами, не надо преуменьшать гомосексуальность Пазолини (тем более что он ею бравировал), но и не надо ее преувеличивать. Образ, который создает Пазолини в «Декамероне» (первоначально роль Джотто должен был играть Сандро Пенна), многослоен. В нем Пазолини предстает не только как персонаж рассказов Боккаччо и не только как живописец нового «реалистичного» искусства, чьи произведения предназначены для широких слоев верующих, но и как отражение одного из любимых героев творчества Джотто, святого Франциска Ассизского. Пазолини-Джотто в центре жизни средневековой Италии — совсем как странствующие францисканские монахи; художник наблюдает «человеческую комедию», чтобы после запечатлеть увиденные образы на своих фресках. Поэтика фильма светла и радостна, она проникнута духом францисканства, иногда показанного в фильме буквально. Когда в измененном сюжете Боккаччо с Джотто спутник художника говорит ему (по тексту Боккаччо), что в промокшей фигуре нельзя узнать первого художника Италии, в ответ живописец только заливисто смеется. Если Боккаччо в этой новелле рассказал об обмене насмешками двух уважаемых людей, то у Пазолини этот сюжет обретает совершенно иной смысл: внешний вид ничто, главное то, что внутри! Невозможно не услышать в этом новозаветный постулат «Царство Божие внутри вас», но он показан радостно и по-простому, по-францискански.
Однако кроме иной «социальной ориентации» авторская концепция у Пазолини подкреплена и лингвистически. Пазолини не был бы собой, т. е. прежде всего поэтом, если бы не использовал языковой ресурс. В отличие от текста Боккаччо, написанного флорентинцем на тосканском диалекте (хотя Боккаччо некоторое время жил в Авиньоне и служил при неаполитанском королевском дворе), «Декамерон» Пазолини говорит на неаполитанском итальянском. У Пазолини в первой половине фильма есть два рассказчика — старик, велеречиво начинающий на тосканском диалекте свой рассказ о монастыре в Ломбардии, затем переходящий на неаполитанское наречие, и плут Чеппарелло, представляющий собой рассказчика двуличного, амбивалентного, вводящего в заблуждение священника, слушающего его лживую исповедь. В первом случае старик не видит языкового несоответствия между Ломбардией и Тосканой (если еще принять во внимание, что дело происходит в XIV в.), а Чеппарелло в конце исповеди вообще умирает, после чего объявляется святым Шапелето.
Это весьма знаковые моменты в авторской концепции Пазолини. Во-первых, так он показывает, что слово может быть лживым, неточным, вводящим в заблуждение источником, а во-вторых, в сюжете с Чеппарелло-Шапелето демонстрирует уничтожающую силу слова, приводящего к смерти как наказанию за ложь. В такой языковой стихии фильма нельзя не увидеть отражение многолетней борьбы Пазолини за полилингвальность, за сосуществование диалектов итальянского языка. Пазолини продолжал языковую битву, начатую примерно за тридцать лет до съемок «Декамерона» [6; 14]. Сам режиссер о диалектах в фильме писал: «Ведущими лингвистическими центрами Италии являются частные компании, расположенные в Милане и Турине <...>. Я выбрал Неаполь не для того, чтобы напасть на Флоренцию. Я выбрал его, чтобы провоцировать всю дерьмовую неокапиталистическую и ориентированную на телевидение Италию: никакой лингвистической Вавилонии, но чистый неаполитанский язык. Однако это не народное кино. Неаполитанский — единственный итальянский язык, на котором говорят на международном уровне» (цит. по: [6, p. 347]).
На первый взгляд кажется странным, что Пазолини — поэт и писатель — так принижает истинность слова и явно отдает предпочтение визуальности, в контексте фильма — живописцу Джотто. Однако это не покажется таковым, если мы будем иметь в виду, что Пазолини-режиссер всегда стремился быть певцом реальности. Согласно ему, быть выразителем реальности означает прежде всего наблюдать за реальностью. Примечательно, что в роли Джотто постоянно подчеркивается акт смотрения или пристальный взгляд на окружающий мир. Единство визуального метода познания действительности подчеркивается еще и кадрами, в которых Джотто-Пазолини ходит по базару, наблюдает за людской жизнью через сложенные пальцы, имитирующие рамку картины (но она же и рамка кинокамеры!). Так через образ ренессансного художника Пазолини транслирует свою идею превосходства визуальных искусств (в том числе кино) над литературой за их способность запечатлевать реальность. Тема киноязыка, его отношений с реальностью давно была предметом размышлений Пазолини. Еще в 1965 г. на фестивале «нового», т. е. прогрессивного, кино в Пезаро он выступил с докладом, в котором начал развивать свою философию языка кино [15].
С точки зрения Пазолини, кино — это реальность во всех ее проявлениях. Тем не менее, демонстрируя превосходство живописи перед ускользающими смыслами словесности, завершается «Декамерон», на первый взгляд, неуместной фразой Джотто-Пазолини, сказанной вполголоса самому себе: «Зачем создавать произведение, если так приятно о нем мечтать (видеть сны)».
«Трилогия жизни: Кентерберийские рассказы»
В 1972 г. выходит на экраны фильм «Racconti di Canterbury», получивший Золотого медведя на кинофестивале в Берлине. Так же, как и с «Декамероном», это была первая экранизация произведения, открывающего золотой период великой английской литературы, — «Кентерберийских рассказов» Джеффри Чосера. Примечательно, что Чосер, который на 23 года был младше Боккаччо, так же, как и знаменитый итальянец, принадлежал к купечеству, но к лондонскому. Отец Джеффри — состоятельный виноторговец, и сам Чосер в молодости служил чиновником таможни.
Вдохновением к написанию «Кентерберийских рассказов» послужили два путешествия Чосера в Италию (в 1373 и 1378 гг.) спустя несколько лет после смерти Джованни Боккаччо. Зная итальянский язык, Чосер в Италии познакомился с произведениями Данте, Петрарки и Боккаччо. Некоторые сюжеты из этих произведений нашли свое отражение в творчестве Чосера, в частности перевод рассказа Боккаччо о Гризельде Чосер сделал основой для рассказа оксфордского студента, а итальянская «Тезеида» послужила первоисточником для истории рыцаря в «Кентерберийских рассказах».
Однако есть общее и между Чосером и Пазолини — оба поэты. И в этом смысле Джеффри Чосер не мог не импонировать Пазолини. Чосер был новатором в языковой стихии тогдашней провинциальной Англии, он явился зачинателем литературного английского языка на основе лондонского диалекта, которым век спустя заговорили и Кристофер Марло, и Уильям Шекспир. Чосер выработал особую форму английского стихосложения, так называемые чосеровы строфы. Сама судьба Чосера чем-то напоминала судьбу Пазолини — такая же бурная, со взлетами, падениями, тайной. Понятно, почему в своих «Кентерберийских рассказах» Пазолини решил предстать сам в роли Джеффри Чосера, в роли поэта. Но на этом вмешательство Пазолини-автора в средневековую поэму не ограничилось. У Чосера сюжетную канву поэмы составляет повествование о том, как группа паломников, в которой собрались представители всех слоев английского общества XIV в. — от мельника до аббатисы, от рыцаря до йомена, — едут в Кентербери, чтобы поклониться мощам святого Фомы Бекета. Чтобы скоротать время в пути, каждый предлагает общему вниманию свою историю. Персона автора в сюжете не присутствует, хотя иногда (как после рассказа студента) следует послесловие Чосера.
В «Кентерберийских рассказах» двадцать четыре повести, из которых Пазолини для сценария берет восемь. Большая часть этих сюжетов являет собой точную, зачастую дословную передачу текстов Чосера. Пазолини во многом следует эстетике Чосера, визуализируя фарсовый юмор (который столетие спустя назовут, вслед за Шекспиром, фальстафовским), здоровую, почти животную сексуальность, смешение «низкого» и «высокого» — всего того, что в современном обществе вызывает лицемерное, интеллигентское отторжение, которое так ненавидел Пазолини. Играя в фильме роль самого Чосера, Пазолини тем самым делает себя частью этого богомолья, частью средневековой жизни, тем субъектом, который фиксирует все эти рассказы и происшествия, свидетелем которых он явился. Несколько раз в фильме возникают кадры, изображающие Пазолини в роли Чосера, сидящего то в своей библиотеке, то в комнате постоялого двора, либо записывающим увиденное, либо читающим «Декамерон». То есть и во второй части трилогии Пазолини позиционирует себя и как неотделимую часть жизни, и как фиксатора реальности. И в этом главная установка его авторской концепции и во второй части «Трилогии жизни» — художник как фиксатор реальности.
Конечно, так же, как и в первой части трилогии, Пазолини расставляет свои акценты в киноповествовании. Например, рассказ монаха значительно расширен, в частности Пазолини включает в него весьма современный сюжет о власти денег и коррупции. Двое мужчин застигнуты в спальне гостиницы за однополым сексом. Один из них подкупом судьи выпутывается из неприятностей, но другому, более бедному, повезло меньше: его судят, осуждают за содомию и приговаривают к смертной казни. Судье не приходит в голову, что такое деяние не может быть совершено одним человеком. Совершенно в средневековой «эстетике казни» его сжигают заживо в железной клетке («жарят на сковороде»), по словам одного из зрителей. Примечательно, что Пазолини сопровождает эту сцену кадрами того, как торговцы продают зрителям пиво и запеченные продукты, совсем как в современных кинотеатрах, где независимо от того, смотрят ли зрители комедию или трагедию, продают мороженое, чипсы и кукурузу. Индустрию развлечений для масс Пазолини представил в ее изначальном виде.
Показанные у Пазолини в виде средневековых фаблио, эти незатейливые рассказы по сути своей являются сатирой на современное ему общество, как в рассказе о пожилом купце, который женился на молоденькой девушке Мэй и неожиданно ослеп. Когда Мэй встречается со своим любовником в дупле большого дерева, к старому мужу возвращается зрение. Мэй убеждает мужа, что у того галлюцинации. Пазолини явно проводит аналогии с современным обществом, в котором путем информационной обработки можно убедить людей в прямо противоположном.
В другом сюжете, основой которого послужил пролог к рассказу батской ткачихи, четвертый муж женщины во время секса умирает. Ткачиха быстро решает выйти замуж в пятый раз за молодого студента. И здесь Пазолини разворачивает комическую ситуацию в стиле классических итальянских комедий, показывая, как ткачиха буквально мечется, бегая от похорон покойного мужа в одном крыле собора к своей свадьбе в другой капелле. Такая ситуация была совершенно невозможна в рамках средневековой культуры, режиссер пародирует здесь нравы современного общества, давно не соблюдающего ритуальный порядок жизни и следующего лишь своим желаниям.
Весьма интересно трактует Пазолини и рассказ повара. У Чосера этот рассказ очень короткий (возможно, не окончен). В нем повествование доводится до того момента, когда подмастерье Перкин — жулик, шулер и негодяй, всегда обкрадывающий мастера и живущий за счет своих многочисленных подружек, был выгнан хозяином. После чего Перкин приходит к своему приятелю и его жене-проститутке. Пазолини не только продолжает этот сюжет до логического конца (Перкина арестовывают двое полицейских и сажают в колодки), но и меняет тональность рассказа. У Пазолини подмастерье Перкин предстает не вором, а простодушным дурачком, к тому же визуально похожим из-за своего котелка и трости на Чарли Чаплина. Не рефлексируя, Перкин окунается в водоворот событий: то присоединяется к группе мужчин, играющих в кости, то оказывается в постели своего приятеля и его жены. От частых преследований стражей порядка его спасают трущобы, в которых Перкин чувствует себя как рыба в воде. Персонаж странный, анахроничный среди средневековой обстановки, вызывающий как жалость, так и отвращение. Странное чувство двойственности еще более усиливается в связи с тем, что эта роль была отдана Нинетто Даволи — многолетнему спутнику Пазолини (любовнику и другу). В этом образе сталкиваются различные визуальные и смысловые коллизии: во-первых, перед нами чосеровский жулик Перкин, во-вторых, беззащитный «маленький человек» Чаплина, в-третьих, пазолиниевский веселый, спонтанный Нинетто Даволи.
Кажется весьма странным, что среди собрания веселой сексуальности, забавных и глупых недоразумений в «Кентерберийских рассказах» Пазолини появляется весьма зловещая история «Продавца индульгенций», повествующая о том, что трое гуляк-приятелей, заподозривших некоего старика в том, что тот убил их приятеля, требуют показать им, где он его прячет. Старик приводит компанию к дуплистому дереву, где приятели находят клад. Оставив двоих караулить сокровища, третий товарищ едет в город и привозит три бочки вина, чтобы отпраздновать удачу, но в двух бочках он отравил вино. Двое оставшихся решают, что сокровища надо делить на двоих, поэтому вернувшегося из города товарища закалывают, но сами умирают, как только выпивают отравленное вино.
В синопсисе Кристи Хассен (Kristie Hassen) (весьма небрежном) было всего одно предложение: «Итальянский режиссер Пьер Пазолини рассказывает четыре из чосеровских рассказов в своей графической и сатирической картине-хронике XIV века с тогдашними социальными, сексуальными и религиозными обычаями в Англии» [16]. Но в том-то и дело, что, хотя фильм Пазолини был построен на средневековом материале, его внутренние смыслы были связаны с современными процессами. Страсть к наживе, эмоциональная глухота, потакание эгоизму, судебная несправедливость, ложная религиозность и продажность, стремление все, даже самое смерть, превратить в шоу — вот черты буржуазного общества, которые показывал Пазолини.
Тем не менее было бы колоссальным упрощением считать, что «Кентерберийские рассказы» Пазолини — сатира на современное общество, прикрытая средневековым флером. В этом смысле показателен образ Чосера-Пазолини, введенного в сценарий. С одной стороны, пазолиниевский Чосер — участник богомолья, т. е. обычный человек XIV в., на которого покрикивает жена, но, с другой стороны, этот человек с улыбчивым лицом почти юродивого и есть тот, кто фиксирует реальность, кто запечатлевает время. И неслучайно поэтому в финальных кадрах фильма паломники прибывают к месту поклонения в Кентерберийский собор, а Чосер дома заканчивает свой труд словами: «Здесь заканчиваются Кентерберийские рассказы, поведанные мною только ради удовольствия. Аминь».
Фраза, кстати, нигде у Чосера не встречающаяся, т. е. эта мысль полностью принадлежит Пазолини, к тому же написана по-итальянски. Если зритель внимательно смотрел фильм, то последний кадр с таким посланием вызывает чувство, которое можно выразить вопросами недоумения: что? как это понимать? Когда человека жарят на сковороде, когда приятели травят и убивают друг друга из-за денег, когда торгуют церковными должностями, когда жена — проститутка, когда мельник обворовывает студентов, когда одного судят, а другой уходит от правосудия за взятку, когда... Созерцание и фиксирование всего этого должно приносить нам удовольствие? Или, может, Чосер-Пазолини имел в виду свое удовольствие от записанного?
Однако если посмотреть на визуальный ряд «Кентерберийских рассказов» более пристально, невозможно не заметить, что костюмы действующих персонажей похожи на моду XIV в., но весьма приблизительно, иногда утрируются ее отдельные элементы; среди средневековых интерьеров могут появиться фигуры, напоминающие внешним видом не только Чаплина, но и австрийских полицейских времен Ярослава Гашека; встречаются эпизоды в эстетике английского гэга, отсылающего к немому кино; в языковом отношении персонажи фильма — билингвы, иногда говорящие/поющие то по-итальянски, то по-английски.
На наш взгляд, ключевым моментом раскрытия истинного смысла того, что происходит в фильме на самом деле, является кадр, в котором на задремавшего в своей библиотеке с рыжим котом на коленях Чосера-Пазолини грозно прикрикивает жена, одеждой напоминающая кукольного Панча из средневекового театра марионеток. Автор дремлет, находясь в блаженном мире своих образов, но грозный окрик «кукольной» жены «Джеффри Чосер!» выводит его в мир игры, в котором и разворачиваются все представленные истории. Кинотекст, возникающий в «Кентерберийских рассказах» Пазолини — это игра кукол, в которую играет эстет-постмодернист XX в., в этой игре причудливо соединяются и ненависть к буржуазному обществу, и глубокое знание художественной истории Европы искусствоведа, к тому же учившегося у известного исследователя искусства Роберто
Лонги, и социальная сатира, и фрейдистские мотивы, и тонкое чувство стиля, не только пластическое, но и музыкальное.
«Трилогия жизни: Цветок тысячи и одной ночи»
В 1974 г. на экраны выходит заключительная часть «Трилогии жизни» — «Il fiore delle mille e una notte», отмеченная номинацией на Золотую пальмовую ветвь и гран-при жюри фестиваля во французских Каннах.
Основой для сценария послужил анонимный памятник литературы мусульманского Востока, создававшийся в течение нескольких столетий (с XII до XVI в.) и отразивший в себе персидские, арабские, индийские, египетские и турецкие культурные реалии. Экзотическая, неудержимая фантазия сказок всегда будила воображение европейцев, не только композиторов, писателей и поэтов, но и деятелей кинематографа. В этих рассказах переплелись героические, авантюрные и плутовские мотивы, создающие разноцветный мир, в котором живут джинны и Синдбад-мореход, огромная птица Рух и исторический Гарун-ар-Рашид, юноша Аладдин и вор из Багдада, поэт Ади ибн Зейд и принцесса Хинд, птица Симург и демоны, персидский царь Шахрияр и его жена Шахерезада и другие фантастические, волшебные персонажи.
В тексте синопсиса Роберта Фиршинга (Robert Firsching) сказано: «Эта пышная антология эротических сказок была снята в четырех странах (Иран, Непал, Йемен и Эритрея) в течение более чем двух лет. Завершая литературный цикл, начатый Пьером Пазолини в “Декамероне” и “Кентерберийских рассказах”, эта, пожалуй, самая противоречивая из всех, вызывающая реакции от восхищения до пренебрежения. Связующая история повествует о Нур-эд-Дине (Франко Мерли), принце, разыскивающем свою любовницу-рабыню Зумурруд (Инес Пеллегрини), которая была похищена только для того, чтобы переодеться мужчиной, взять жену и стать правителем Великого города. Поиски Нур-эд-Дина переносят его на край известного ему мира, где он слушает несколько историй о плоти и предательстве. Непрерывность и текучесть фильма полностью зависят от версии, показанной на экране, потому что существует несколько различных сокращений; продюсер Альберто Гримальди настаивал на 130-минутном выпуске, в то время как Пазолини и United Artists предпочли необработанную 155-минутную версию с ее десятью нетронутыми историями» [17].
Итак, в третьей заключительной части «Трилогии жизни», так же, как и в первых двух, довольно много обнаженного тела, сексуальных актов, и здесь Пазолини снимал в основном малоизвестных и даже непрофессиональных актеров, чья игра без актерских штампов придавала искренность и достоверность происходящему на экране. Вместе с тем режиссер остался верен своим любимым актерам Нинетто Даволи и Франко Читти. Из сотен историй разного характера он включает в свой сценарий всего десять любовно-авантюрных сюжетов, и на этом переклички с двумя частями «Трилогии жизни» заканчиваются. И начинаются серьезные отличия.
Во-первых, это самый реалистичный фильм, в том смысле, что это не павильоны Чинечитты, а реальные пейзажи и архитектура Ирана, Непала, Йемена и Эфиопии. Во-вторых, все, что мы видим в фильме — одежда, верблюды, хижины, утварь, интерьеры, украшения, базары и пиры — настоящее, иногда производящее эффект документального этнографического фильма.
Пазолини, снимавшему фильм в середине 1970-х годов, когда прошло только десятилетие со времени обрушения многовековой колониальной системы, удалось запечатлеть для потомков образ Востока древнего, поэтического, чарующего, когда европеец мог в нем видеть источник художественной экзотики, неудержимой фантазии и свободы (хотя бы и в сексуальном плане). Полвека спустя этот образ, конечно, не совпадает с современным массовым восприятием коллективного Востока как территории Чужого, терроризма, мигрантов, враждебно относящихся к либеральным ценностям Запада. В-третьих, несмотря на обилие обнаженных тел в фильме, «Цветок тысячи и одной ночи» не о сексе, а о любви.
Десять историй о плоти, предательстве, неведомом мире, превратностях судьбы имеют «сюжетное обрамление» повести о молодом юноше Нур-эд-Дине, ищущем свою любовь, рабыню Зумурруд. Зачин фильма совершенно сказочный: только Нур-эд-Дин повстречал свою любимую Зумурруд, как в результате глупой оплошности им суждено расстаться. Как здесь не вспомнить опрометчивое сожжение лягушечьей кожи Иваном-царевичем в «Царевне-лягушке» или нечаянное движение принцессы, из-за которого она стала невидимой для своего жениха (шотландская сказка «Черный бык Норроуэйский»).
Подача сюжетного материала в «Цветке тысячи и одной ночи» нетипична: Пазолини будто специально непоследователен. Нарратив фильма иногда напоминает прерывистую манеру повествования в некоторых рассказах Хорхе Борхеса (например, «Сад расходящихся тропок» или «История воина и пленницы»). Обрывая повествование о главных героях, Пазолини показывает другие истории — о рабыне, ставшей царицей в огромном богатом городе, о принцах и принцессах иных стран, о джиннах и волшебницах, о мореплавателях. Только когда из солнечной пустынной дали, ниоткуда, под конец фильма вновь появляется Нур-эд-Дин и находит свою Зумурруд, становится понятно, что это история странствий и возвращения, история, которая рассказана давно, в которой героя звали Одиссей, но она все повторяется и повторяется в разные времена, в разных культурных пространствах.
Стоит только согласиться с таким пониманием главной смысловой посылки фильма, как тут же возникают вопросы: почему Нур-эд-Дин не участвует во всех сюжетах, как участвовал в своих приключениях Одиссей? Отчего нигде не чувствуется присутствия Пазолини, как это было и в «Декамероне», и в «Кентерберийских рассказах»? Почему нет Шахерезады как рассказчицы всех этих удивительных историй? Между тем эпиграф фильма взят из арабского цикла «1001 ночи»: «Истина заключена не в одном сне, она — во многих снах». Совершенно объяснимо, почему этот эпиграф предваряет сказочный мир восточных повествований — они рассказываются ночами женщиной под страхом смерти, которая ей грозит каждый новый день. В последнюю ночь Шахерезада предстала перед взором своего слушателя, царя Шахрияра, с тремя детьми («один шел, другой ползал, и третий лежал на руках»). То, что представало перед взором персидского шаха как причудливые занимательные ночные рассказы, в конце концов явилось перед ним как неоспоримое доказательство жизни — дети!
Но почему такой же эпиграф берет режиссер для заключительной части своей трилогии? Есть ли и какова авторская концепция в фильме?
Пазолини не появляется здесь как действующее лицо и понятно почему: с художественной точки зрения, если бы европеец возник в бытовой реальности Востока, то сразу же визуальность «Цветка тысячи и одной ночи» стала бы фальшивой игрой, а не документальной иллюзией.
Кроме того, нам представляется, что начальной точкой к понимаю авторской концепции в последней части трилогии является последняя фраза «Декамерона»: «Зачем создавать произведение, если так приятно о нем мечтать (видеть сны)». Нечто подобное, но в комедийном аспекте можно увидеть и в «Кентерберийских рассказах», когда окрик куклы в роли жены пробуждает от блаженной дремы автора занимательных историй.
Мир, представленный Пазолини в «Цветке тысячи и одной ночи», совсем не соответствует действительности мусульманского Востока. Как может рабыня выбирать себе хозяина? Как можно в реальной жизни перепутать хрупкую девушку с мужчиной? Как может юноша в мгновение ока перенестись в неведомые земли?
Как можно выбрать царем первого встречного у городских ворот? И как могут все участники этих повествований действовать, повинуясь не логическим рассуждениям, а первому импульсу, сразу же влюбиться, потому что у кого-то «огонь в глазах»!
В фильме достаточно часто показывается, как герои то засыпают, то просыпаются. Более того, нередко в кадре они предстают частично — либо лица, либо гениталии. В отличие от первой части трилогии, которая оканчивается сожалением о том, что греза прекраснее живописного образа (хотя и взятого из реальности), в отличие от второй части, которая заканчивается утверждением, что все представленное есть придуманный мир игры (хотя на реальность похожий), третья часть кинотрилогии заканчивается обретением абсолютного счастья, соединением с любовью, которую герой так долго искал и нашел совсем случайно, до такой степени, что этого не может быть в реальности, но только во сне.
В сущности, в «Цветке тысячи и одной ночи» Пазолини выстраивает образ сомнастической (онирической) реальности, в которой события сновидений почти не отличаются от действительности. Оттого этот образ имеет текучую, апофатическую природу, он ускользает, не поддается разгадке, прячется в переплетениях сюжета и судеб, в этих нанизываемых друг на друга историях, похожих на закольцованные в бесконечный орнамент архитектурных айванов и куфического письма.
Видеть в кинематографе некую разновидность сна или его особую фазу — грезу — мысль, очевидно связанная с ночным характером этого искусства (киносеанс проходит в темноте зала). Пазолини был приверженцем сомнастической (онирической) природы кинематографа и видел в фильме «ожившее сновидение, вследствие элементарности своих моделей <…> и вследствие принципиального доминирования протограмматичности предметов в качестве символов зрительной речи» [15, с. 50].
Сходных воззрений на природу кинематографа придерживался и великий Ингмар Бергман. В своей автобиографической книге «Латерна магика» он писал, что фильм, если это не документ, — это сон, греза [18, с. 67]. Близкие взгляды исповедовал и Андрей Тарковский, считая визуальный язык кино зеркалом, отражающим время, но отражающим по своим правилам, иногда не совпадающими с причинно-следственными законами действительности (см.: [19]).
Заканчивая свою «Трилогию жизни», поэт Пьер Паоло Пазолини мог бы с полным правом сказать словами шекспировского волшебника Просперо:
Окончен праздник.
В этом представленье Актерами, сказал я, были духи.
И в воздухе прозрачном,
Свершив свой труд, растаяли они.
<...>
И как от этих бестелесных масок,
От них не сохранится и следа.
Мы созданы из вещества того же,
Что наши сны. И сном окружена вся наша маленькая жизнь [20, с. 151].
Нам представляется, что у этой концепции есть твердые онтологические основания, так как кинематографический образ конструируется искусственно, с помощью машин и электрической энергии, и хотя выразительных средств для создания иллюзии (грезы) реальности у него больше, чем у остальных видов визуальных искусств, этот образ не является повторением действительности, а есть объект гиперреальности, для которой характерны свои внутренние особенности и времени, и пространства (художественный образ здесь фрагментарен, теряет свою целостность и вариативен). Возможно, в таких взглядах Пазолини на природу кино можно усмотреть влияние философских идей Жана Бодрийяра, начавшего свою научную деятельность в 1960-х годах, но более вероятно, что Пазолини как творец и мыслитель самостоятельно пришел к пониманию иллюзорности «правдоподобия» кинообраза. Сам Пазолини видел в обращении к кинематографу отражение своего стремления к истинному художественному языку, который не был бы связан с конкретной культурной средой и языком. Он считал, что фундаментом любого кинообраза выступает мифический и инфантильный синкретический образ (подфильм), который более близок к фрейдистским образам подсознания и архетипической реальности бессознательного.
Как бы то ни было, в «Цветке тысячи и одной ночи» он в полной мере выразил этот пленительный, так похожий на реальность сомнастический мир. В чарующем кинополотне «Цветка тысячи и одной ночи» «Трилогия жизни» завершена: концепция автора потрясающе проста — после ворчания в «Декамероне» о том, к чему создавать произведение, если в грезах (в мечтах) оно прекраснее, после приятной дремоты от уморительной игры кукол в «Кентерберийских рассказах» в «Цветке тысячи и одной ночи» автор грезит, почти спит.
Литература:
- Пазолини, Пьер Паоло. Шпана: роман. Пер. Ирина Заславская. М.: Глагол, 2006.
- Сичилиано, Энцо. Жизнь Пазолини. Пер. Ирина Соболева. СПб.; М.: Лимбус Пресс; Изд-во К. Тублина, 2012. (Впервые на русском).
- Лимонов, Эдуард. Священные монстры. СПб.: Питер, 2019. (Публицистический роман).
- “Filmografia. Lelenco completo dei film realizzati”. pierpaolopasolini.it. Дата обращения: ноябрь 20, 2021. http://www.pierpaolopasolini.it/filmografia.htm.
- Blandeau, Agnes. Pasolini, Chaucer and Boccaccio. Two Medieval Texts and Their Translation to Film. Jefferson: McFarland, 2006.
- Ferrara, Enrica Maria. “The Author Re-codified: Pasolini between Giotto and Boccaccio” Heliotropia 14 (2017): 343-59. Дата обращения: август 8, 2021. https://www.brown.edu/Departments/Italian_Studies/heliotropia/14/ferrara.pdf.
- Rumble, Patrick. Allegories of Contamination: Pier Paolo Pasolini’s Trilogy of Life. 2nd ed. Toronto: University of Toronto Press, 1996. (Toronto Italian Studies).
- Vecce, Carlo. “La scoperta della gioia: Pasolini e la Trilogia della vita, in Eros latin”. In Eros latin. Atti del Convegno Internazionale Procida 13-15 settembre 2012, a cura di Michele Costagliola d’Abele, Camille Dumoulie, Carlo Vecce, 295-301. Napoli: Universita degli Studi di Napoli “L’Orientale”, 2014.
- Foortai, Francisca. “Italy-Russia: Futurism and Revolution”. In Russia 1917. La rivoluzione di Ottobre nel contesti politici, sociale, religiosi e culturale. Studi e ricerche internazzionale, a cura di Francesco Randazzo, 333-40. Perugia: Libellula, 2018.
- Foortai, Francisca. “The Mad Hero of Cinema: Scientist as a Mirror of Existential Fears”. Global Journal of Human-Social Science: A, Arts & Humanities — Psychology 20, no. 12 (2020): 7-17.
- Foortai, Francisca. ’’Simulating the Meaning and Meaning of the Simulation: New Narrative Strategies in the Video (Analysing the Clip ‘Iridescent’ by Linkin Park)”. History Research 9, no. 1 (2021): 31-8.
- “Список Тарковского”, ivi. Дата обращения: ноябрь 20, 2021. https://www.ivi.ru/titr/goodmovies/77-filmov-spisok-tarkovskogo.
- Erickson, Hal. “The Decameron. Synopsis by Hal Erickson”. Дата обращения: август 8, 2021. https://www.allmovie.com/movie/the-decameron-v12991.
- Vecce, Carlo. “Dal Boccaccio napoletano a Pasolini”. In La letteratura degli Italiani. Rotte confini passaggi. Atti del XIV Congresso dell’Associazione degli Italianisti, Genova, 15-18 settembre 2010, a cura di Alberto Beniscelli, Quinto Marini, Luigi Surdich, s. p. Novi Ligure: Citta del silenzio edizioni, 2012.
- Пазолини, Пьер Паоло. “Поэтическое Кино”. Пер. Н. Нусинов. В изд. Строение фильма: некоторые проблемы анализа произведений экрана: сборник статей, сост. К. Разлогов, коммент. М. Ямпольский, 45-66. М.: Радуга, 1984.
- Hassen, Kristie. “The Canterbury Tales. Synopsis by Kristie Hassen”. AllMovie. Дата обращения: август 8, 2021. https://www.allmovie.com/movie/the-canterbury-tales-v8043.
- Firsching, Robert. «Arabian Nights. Synopsis by Robert Firsching». Дата обращения: август 8, 2021. https://www.allmovie.com/movie/v2745.
- Бергман, Ингмар. Laterna magica. Пер. А. Афиногенов. М.: АСТ, 2019. (Эксклюзивная классика).
- Тарковский, Андрей. “Запечатленное время”. Искусство кино, no. 12 (2001). Дата обращения: август 8, 2021. https://old.kinoart.ru/archive/2001/12/n12-article5.
- Шекспир, Уильям. Буря. Пер. М. Донской. СПб.: Азбука, 2011. (Азбука-классика).
Произведения
Критика