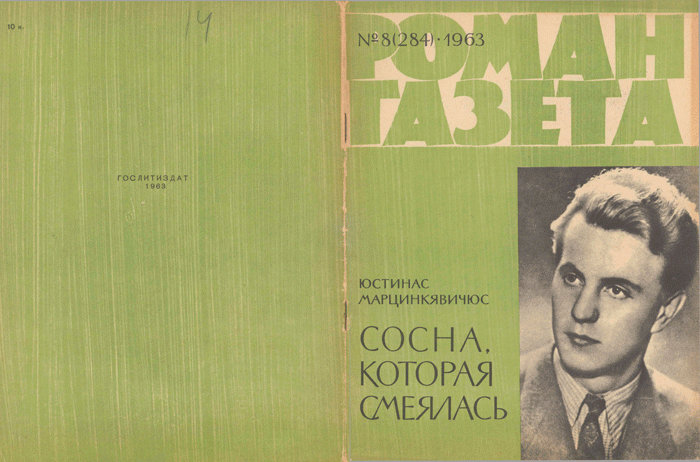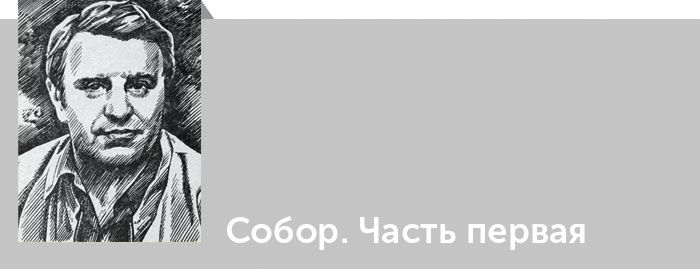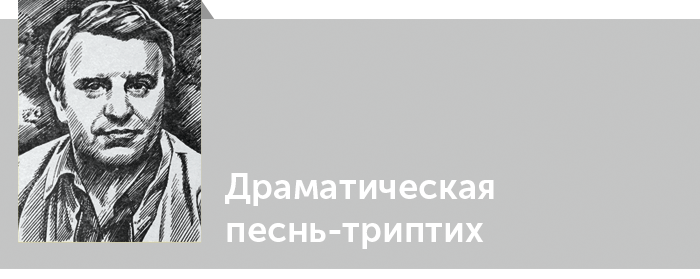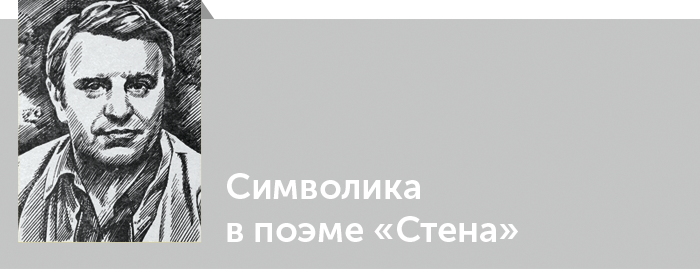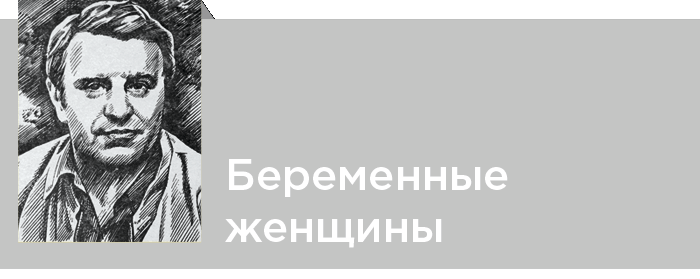Звездный век. Георгий Ефремов

Во второй половине 70-х в Москве, на Совете по литовской литературе при Союзе писателей СССР, обсуждали новую поэзию Литвы. Один из доброжелателей произнес фразу о звездном часе. Кто-то заревновал и обиделся. Думаю, что напрасно.
С тех пор прошло 25 лет. Срок немалый — без всяких скидок. И какие это были годы! Марцелиюс Мартинайтис в статье “Тексты на просвет” пишет:
“ Когда в Литве что-то случается, первым делом заново делят землю и по-новому расставляют книги на полках… Желая осознать, какова современная литовская литература, что происходило и происходит в настоящее время в ее глубинах, нельзя умолчать о феноменальном значении литературы на стыке прошлого и нынешнего веков, о ее широчайшем распространении, причем не только в письменной форме. Иногда кажется, что историю Литвы проектировали поэты. Несколько лет назад, перед нынешним обретением независимости, на первые массовые митинги Саюдиса люди шли не с экономическими программами переустройства страны, а с поэзией, со стихами, которые пелись и декламировались… Выходец из Литвы лауреат Нобелевской премии польский поэт Чеслав Милош, хорошо знакомый с местными реалиями, как-то обмолвился, что в ХХ веке литовская нация и держава возродились из письменности, из литературы и ее чтения. Введенный царской Россией во второй половине прошлого века жестокий запрет на литовскую письменность (запрет на печать) вызвал уникальное противодействие — всеобщее чтение запретной литературы. Это письменное сопротивление при почти полном отсутствии общественной жизни выполнило функцию связного, воспринималось как гарант сохранения языка и культуры ” 1 .
От себя скажу так: сейчас, при полном отсутствии запретов и наличии разнообразной общественной жизни, письменность (особенно поэтическая) выполняет ту же функцию и обеспечивает существование и постоянное воссоздание национального культурного кода, а значит — истинную преемственность. Осмелюсь допустить, что звездный час литовской поэзии оказался необычайно длительным и не закончился до сих пор. Кажется, есть основания говорить о звездном веке.
Для проверки этих догадок я обращусь к последним (или уже предпоследним) книгам десяти литовских поэтов разных поколений. Эти книги видятся мне чрезвычайно важными во всех смыслах. Мой выбор, конечно, субъективен и произволен, но что поделаешь…
Когда литовский поэт говорит о детстве, дереве, любви или разочаровании, — он все равно говорит об отчизне. У меня ощущение, что литовцам свойственна удивительная и непреходящая тоска по родине. Точнее сказать: тоска о родине. О вечном и несбыточном идеале, приметы которого известны и так же явны, как отуманенные холмы, похожие на оцепеневший прибой, как рослые церковные башни на этих холмах, как старые погосты при этих храмах, как скорбящий Христос на заросших надгробьях, как раны Христовы и как стигматы.
Цельность подобного ощущения определяет в литовском характере, в литов-ском слове многое. Почти всё. Единство литовской поэзии столь мощно, что формальные различия не становятся рознью. Существенным может предстать противостояние деревни и города. Но и оно оказалось вполне плодотворным, этот провал одолен.
Нийоле Миляускайте (книга ее избранных стихотворений вышла в 1999 году) почти никогда не рифмует, ей не нужна подчеркнутая структурная жесткость. Тут конструктивность иного рода, тут главную роль исполняет монтаж. Ее стихи — череда остановленных взглядов. Главное — наблюдательность и осторожность. Она передает сладкое ощущение детского времени: “цветы потихоньку взрослеют…” Понятна ее благодарность:
там у всего
была душа…
И естествен ее вопрос: “можно ли снова мне после стольких лет шагнуть в этот день?..” И ответ известен. И тоска по ребяческому неведению понятна. Торжественность этой изящной миниатюре придает то, что обозначен источник взгляда: отсюда, из опыта, из понимания. Там
еще не знаешь
что у этого дня
привкус вечности…
Стасис Йонаускас, сочинитель самозабвенных, удивительно благозвучных гимнов и при этом конструктор четких, сухих и прочных логических схем (о нем скажу ниже и больше), отзывается: “Рай почему-то всегда или в будущем, или в прошлом ”.
Поэт-горожанин Антанас А. Йонинас (“Водопад подо льдом”, 1997) обнаруживает у вечности совсем другой привкус:
Всё увы завершилось музеем
пустотой обернулась жизнь
пыль клубится а мы глазеем —
это женщина без одежды
и мольбы ее безутешны
и призывы: бери и ложись
статуэтка в музейном зале
племена что давно ушли
это вечность под видом вуали —
заколочена жизнь и скомкана
а за дверью страшная комната
там где ангел с подругой в пыли.
Это путешествие в более дальнее и не совсем свое прошлое. Тут уже — “вечность под видом вуали”. Скрытость, зыбкость, неверность. Туман, состоящий из чего угодно — из влаги и пыли, из опустевших слов. Возможность любых предположений и вопросов.
Предположение о Боге: “кто-то роднит наши души”. Это из А. Марченаса (“Бедный Иорик”, 1998):
Нет никакого смысла ставить за словом слово
и бесконечными текстами тебя пеленать всё туже,
милый читатель. Но вот уже снова вечер, и столько живого
вздыхает вокруг, и кто-то роднит наши души…
Осторожность обращения с высшей силой, нежелание всуе звать не только Бога, но и живое, что дышит вокруг, — особенность и умение Марченаса. Он среди вопрошающих и сомневающихся. Важно и показательно, как щедро сомнение. В нем источник воли и силы. Оно само — почва для слова. Сомнение противостоит лжи. Фиктивность, искусственность литературы постоянно ощущается стихотворцем:
до чего же красиво солган
и выверен текст. Только о чем всё это?
(“ Великая ложь поэзии ”)
Способность не отворачиваться, не запираться от жизни декларируется как высшее наслаждение, право и долг человека:
Если впустишь
летнюю новизну рассвета —
здравствуй тогда, моя милая. Вот итог:
чтобы правильно умереть — надо было чуть-чуть пожить.
Хоть разочек.
(“ Спешащие часы ”)
Два слова в этом фрагменте выделены мной — слишком явно они перекликаются со стихотворением Мартинайтиса “Родине”: “…и позволь мне правильно умереть у тебя под дверью…” Строки о правильной смерти сигнализируют: разных по возрасту, стилю, опыту литовских поэтов роднит предположение о норме. И представление о поэзии как об эхе, удел которого — повторение смертных истин (напоминание о норме) и преломление жизни в слове.
Имя Марченаса — Айдас (по-литовски эхо). Значимость этого имени обыгрывается в эссе Сигитаса Парульскиса из сдвоенной стихотворной книги (“По умершим”, 50 стихотворений Сигитаса Парульскиса, составление и вступление Айдаса Марченаса, и “Mortui sepulti sint”, 50 стихотворений Айдаса Марченаса, составление и вступление Сигитаса Парульскиса, Вильнюс, 1999). Вот что пишет Парульскис:
“ Иногда мерещится, что ХХ век, провожаемый нашими вечно тусклыми и ко всему (даже к творчеству, не говоря об иных "величайших" ценностях) присмотревшимися глазами, попросту потешается над потугами что-то такое сказать. На любом языке, будь то язык поэзии, чьи чувственные возможности исчерпаемы, или язык науки, изобличающий нездоровье сознания… Как передать красоту и слезы, которые она у нас исторгает? Красота — она так неразумно осмысленна, что многие просто теряют речь…
Нет, не надо цитат, цитаты — бессильный намек на поэзию; тем более лучшие строки Айдаса М. сложены "не из цитат", вся плоть его стихотворений — цитата свидетельства о п р и с у т с т в и и д у х а…
Открытость себе и миру, простота и наивность, — и неизменный цинизм как лекарство от умиления и экзальтации. Культ невещественных ценностей и неспособность за эти ценности воевать с рутиной. Ущербность любви возмещается и прикрывается гримасами эгоизма, который обычно приходится прятать в омут (источник) гульбы и депрессии. Всё это — чаще интуитивно — нащупывает поэзия Айдаса М. Всё — и не только это ”.
Всё — и не только это — нащупывает сам Сигитас Парульскис:
полюби, Господи, кисель из груш
и не только, не только — и мою душу
полюби, Господи, лютую стужу
и не только, не только — и мою душу
полюби, Господи, глупую клушу
и не только, не только — и мою душу
полюби, Господи, пьяную курву
Христова тела зловонную урну —
и не только, не только — и меня дурня
По сути — христианская проповедь добра, по форме — святотатство. Вообще Парульскис — один из самых резких, категоричных и универсальных поэтов (тут его главный соперник и союзник — Альгирдас Вярба, который для “Ржаной баллады” взял эпиграфом строку из хрестоматийного классика В. Кудирки — “Покуда не старый, сей хлебные зерна!” — и увел сеятеля в такую пору, привел на такое поле, где это заклинание обрело сверхболезненную и целебную силу:
…Мы, милая, тоже плоды подворотен,
Зато наши души всегда на замке,
В толпе мы всесильны, но каждый бесплоден,
И молимся лжи на блатном языке.
…Там дуб на равнине трясется без звука,
От сумерек желтую пряча звезду,
И в окна стучит эмигрантская мука,
Отчизну рождая в соленом поту.
В гареме народов, на плахе бескрайней,
И евнуху в ухо, и в рот палачу
Сей хлебные зерна!.. И скрежет трамвайный
Меня успокоит, когда закричу…).
Дар Парульскиса развивался позже и вне гарема народов. Но всё слишком близко, но не за что уцепиться даже самым отчаянным. Стихотворение называется “НИЧТО МЕНЯ НЕ УДЕРЖАЛО — В ТАКОЕ МГНОВЕНИЕ — ДАЖЕ ДЕТСТВО”, вот выдержки из него:
теперь только детство: годы сродни пустыне
дорога впервые, и окна, и поле с россыпями костей
одна только смутная память, облёванные святыни
мать, отдающая мести любимых своих детей
теперь только детство: вернуться, но без возврата
ни лилий, ни белены, ни белизны кувшинковой нет
куда, сирота, в XVI-й, что ли, где красота распята
разве дрожащее сердце втиснется в твой скелет
теперь только детство: бойня меня всосала
о, внутренние дела! по жилам крадется обморок
в покинутость, в холод, в покойницкую вокзала
там лунная в небе могила или слезящийся окорок
теперь только детство: стеклянная дымная призма
к столу примостился Тарковский, на ладонях — по видеоязве
не теперь — и не только — не детство — и не смерть нам отчизна
видение — привидение — провидение… Разве?
Вспомним ласковые мольбы Нийоле Миляускайте (“…чтоб никогда не прерывался летний день…”) и отметим мощное отчаяние Парульскиса: незачем возвращаться, потому что всё — внутри нас. Воображение равносильно памяти. Детство трагично, как всякая неизбежность. Радость ни от чего не спасает (“Нет возврата, и никакая весна не исцелит истребленных”, Йонаускас). Даже отшельники ко всему причастны, “…потому что невинных нет” (Мартинайтис). Все состоят в родстве. И о детстве литовского поэта наиболее точно и полно может сказать иное искусство (кино) и человек другой культуры (Тарковский).
Литовские поэты любят подобные обращения и переклички. Пространство жизни, памяти или текста для них — та же улица детства, отеческая деревня, знакомая просека, где можно аукаться, и есть надежда на внятный отзыв, ибо все друг другу родня. Поэтому нет особого смысла постоянно себя называть, маркировать собственные творения. Анонимность такого рода — ближе бессмертию, чем небытию.
Своевольная Неринга Абрутите в стихотворении “Взгляд на поэзию, обязательный для любого поэта” (сборник “Из—по веди”, 1997) задевает того, кто назван лишь первой буквой фамилии. Но двукратная рифма почти не оставляет сомнений, о ком тут речь:
Г. — очень хороший литовский поэт,
крохотная беда, почти никакого стыда,
что не создал своей поэзии
и ведь так приключилось со всеми?..
сочинителями Литвы, исключая меня
однако, если мне дальше писать
всё так же, большая опасность
отписаться прочь от самой себя,
одно я подозреваю спасение —
сочинять чужую поэзию, будто бы нет меня
и такого воззрения на поэзию:
очень прошу, ну кто мне поможет, кто?
Поэзия, претендующая говорить за других, не кажется мне преступницей. Наверное, страшен мир, в котором все соловьи. Пересмешник — самая безобидная птица, и его никем не заменишь.
Поэзия Неринги Абрутите — не приговор, даже не определение. Это стихия догадок и предположений. Но существует в поэзии, в нашем сознании, в жизни народов область, где просто смешны претензии на соловьиную славу. Речь идет об орлах, о величии предков, о символах высшей страсти, мудрости и геройства. Об исторической, властной, державной памяти.
Предположение об отчизне. У Йонаса Стрелкунаса (“Только раз”, Вильнюс, 1998) есть такое стихотворение — “Вопросы”:
Кто были эти люди там, впервые?
Какие им достались времена?
Воители они? Певцы слепые?
Зачем их поступь до сих пор слышна?..
Когда им стала злоба ненавистна
И страх бесславья в их сердца проник?
У них и у меня — одна отчизна?
Кто мне позволил говорить про них?
Эту устремленность к истине, эту небоязнь испачкаться, это исступление любви я назвал тоской о родине. Непреложность памяти (“Зачем их поступь до сих пор слышна?”) не лечит, а ранит: даже родное непознаваемо. Об этом же пишет молодой серьезный поэт Арнас Алишаускас (“Заводное королевство”, Вильнюс, 1996) в стихотворении “Столица ЛитССР”:
…Родина почти незрима,
ибо я незван-непрошен.
Светят шлюха и витрина.
Город выпотрошен, брошен…
Город в сумраке умолк,
и на лысом, безголовом
взгорье завывает волк,
пойманный собаколовом 1 .
История, к которой нас отсылает название текста, завершена: волк перехитрил ловца. Характерно, что в самом построении метафоры, в тональности речи, в подборе деталей нет и намека на сентиментальность, слезливость, “жалостность”. О волке только и сказано, что он завывает. Этот неумолчный вой — как сверхзвуковой сигнал, посылаемый нам историей. Можно сказать, вся литовская поэзия отвечает на этот немой вопрос: по ком воет волк ?
О рождении главного города пишет и Юстинас Марцинкявичюс (“Шаг”, Каунас, 1998) в стихотворном цикле “Над историей”:
…чтобы родился Вильнюс
надо еще пригрезить
воющего железного волка
и проснувшись его не прикончить.
(ГЕДИМИН: “Nostra Vilna”)
Нужен не сам железный волк, но сон, тревога, песня о нем. Без этого город не родится и не устоит. А стоять ему долго. И в заключительном стихотворении цикла поэт, зоркий к прошлому и чуткий к будущему, признается:
…нельзя поднять такую судьбу
и без нее нельзя
и бережем ее пуще оков
от нежелезных волков.
(“Вильнюс”)
То, что вместилось между прошлым и будущим, Марцинкявичюс почти никогда не называет. Но вот как оценивает в стихотворении “Тусклое утро”:
Кажется, как будто воздух тает.
Листья, капли, дни летят с высот.
Медленно, мучительно светает —
Господи, а вдруг не рассветет?
Последние книги Марцинкявичюса — об этом преодолении тьмы:
В черноте, лишь в черноте брести:
в звездной тьме, где ничего земного.
В сердце, только в сердце обрести:
грешное, оно прощает много.
Надежда на спасение выявляется даже не в слове и фразе. Слова могут быть о смерти, позоре, забвении. Истинный миротворец в поздних стихах Марцинкявичюса — интонация. Примеры из цикла “Прогулка”:
я вступил в разговор
с небольшим придорожным камнем
и он согласился после всего
постоять у меня в изголовье
* * *
завещание: землю
малая доля которой
мне все же достанется
дарю
первому встречному
дереву
Боль, раскаяние и надежда (ироничный Айдас Марченас сказал бы: “Надежд уже полное решето!”) переполняют поэзию Йонаса Стрелкунаса. Вспомним брутального Парульскиса (“бойня меня всосала”) и отметим, что именно это слово применяет Стрелкунас для определения истории:
Ты — над великой вечной бойней
Со знаменем тугим.
Ты — всё бессмертней и свободней
Над временем людским…
Ты — звездный свет, заливший кровлю,
И вечный страх уйти.
Ты — насыщающая кровью
Из раненой груди…
(“Ты”)
Стрелкунас не раз обращался к державному символу — Витязю на коне (Погоня, государственный герб Литовской Республики). В раннем стихотворении это Печальный Всадник:
…Что тебя гонит, всадник печальный, —
С матерью или женой разлука?
Кого ты ищешь, всадник печальный,
Недруга или желанного друга?
Чего ты жаждешь, всадник печальный, —
Мести безжалостной, смерти верной?
Скачет в безмолвии всадник печальный,
Болью преследуем, кровью и скверной.
Сейчас, после великих перемен, Всадник не только печален, но утомлен и разочарован:
Братья митингуют, заседают.
Так вопят, что слышно за версту.
А усталый Всадник улетает
По небу — по серому холсту.
Братья негодуют, ненавидят.
Сильным сомневаться не с руки.
А усталый Всадник их не видит —
Чересчур трибуны высоки.
Братья ничего не замечают,
Лишь хмелеют от больших забот.
А усталый Всадник различает
Ту зарю, что, может быть, взойдет.
Здесь поразительно это “может быть”. Вспомним Марцинкявичюса и его тревогу: “Господи, а вдруг не рассветет?” У Стрелкунаса речь о том времени, когда, казалось бы, заря уже взошла, цель достигнута, свобода завоевана. Но только Всадник и Поэт знают об истинном свете и остерегают нас, изобличая самозванцев. “Серый холст” возвращает к стихотворению, с которым Стрелкунас вошел в книжную литературу: “И кто же знал, что вырастет Чюрлёнис под небесами серыми, как дым? ”
Литовских поэтов постоянно преследует один и тот же вопрос — не с чего для них начинается родина, а откуда она вообще берется, что ее порождает и как она растет, не ведая стыда. Бесстрастная и безжалостная, как природа. Неповторимая и беззащитная, как всё живое. Как ее ни называй — она всегда узнаваема.
Стасис Йонаускас пишет в стихотворении “Вода”:
Равнодушна ко лжи и боли,
Даже в сказках не просит есть.
Раствори в ней любые соли —
Отразится лишь то, что есть.
Про то же в истории о болотных деревьях (“Гниющая ольха”):
Растут и по десять, и пo сто —
Все в струпьях и гнойниках.
Казалось бы, сгинуть просто,
А вот не выходит никак.
Так люди в краю родимом
Живут без вреда и следа —
И тянутся вслед за дымом
Никуда и всегда.
Промаялся — успокойся,
Оставь дела и слова:
Пора годовые кольца
Сматывать со ствола…
Победа и надежда в том, что и чтобы “Правду знать лучше”, — так называется одно из лучших стихотворений Йонаускаса, опубликовавшего в 1998 году книгу “Сердце правит Луну”.
Птицы владеют крыльями, улитки не нуждаются в смазке,
Самолеты умеют летать, энергия не исчезает,
Земля непрерывно вращается, весной зацветает черемуха,
Народы имеют право на самоопределение.
............................................................................................................
Черви вполне бескорыстны, зайцы не слишком трусливы,
Всех занимает истина, одни лишь камни спокойны.
Мотылька не скрестишь ни с курицей, ни с сиренью.
Сказавшему правду всегда задают дополнительные вопросы.
Нет запаха у свободы, луна не владеет литовским
И не страдает бессонницей. Трактор не может без гусениц.
Люди не всегда излечимы. Цифры — не всегда величины.
Всё это так, однако правду знать лучше.
Улитки не нуждаются в смазке, но “ось истории требует смазки, а кровь — густа…” (“После восстания. 1864”). Страстная потребность распознавать, понимать и излучать правду — в огромной концентрации присуща нынешней литовской поэзии. И я завершаю эти заметки рассказом о книге избранных стихотворений Марцелиюса Мартинайтиса (“Возвращение”, Вильнюс, 1998).
О нем говорят, что он последний крестьянский поэт. Наверное, это так. Для него боль расставания с древним укладом вчера и всегда была источником мощного и очистительного вдохновения. Постараемся не забыть, что последние шестьдесят лет вместили очень много чрезвычайных событий. Давняя Литва, помимо прочего, была неповторима сосредоточенностью, замкнутостью, отрешенностью от свершений цивилизации, медлительностью и осторожностью развития. Великое Княжество последним в Европе приняло христианское единобожие. Когда Мериме для истории про вампира понадобился медвежий угол — лучшего места, чем Литва, найти было невозможно. Литовский язык веками не знал письмен-
ности — это был язык для неграмотных. Поэтому сохранились нетронутыми смысловые и мелодические азы языка, за что теперь ему благодарны лингвисты. Потом язык научился писать. Но судьба и дальше не обходила его щедротами. О запрете на литовскую азбуку (1864—1904) я уже говорил. Затем случился ХХ век.
Литва — географический центр Европы, и ни одна буря не миновала ее. И ко всему вдобавок — испытание еще одной новизной: в 60-х началось опустение деревни. Это значило в худшем случае отрыв от всякой культуры, в лучшем — приобщение к чуждой, праздной, городской. Это литовское сиротство стало содержанием и мелодией великой поэзии. Страшно и внятно сказал Мартинайтис:
Как беременная все больше походит на будущего младенца,
так земля каждой осенью обретает сходство с умершими.
Леса холодны и пусты, и пахнет еловой хвоей,
как в дому, из которого вынесли гроб.
Иногда пробивается солнце, словно в ответ на мольбу
может продлиться уже отлетевшая жизнь.
Но это уже — солнце мертвых: оно никого не греет.
Слышите в сумерках эти порывы, их сбивчивое дыханье?
Это мертвенный ветер проносится вдоль земли:
возвращаются души к могилам —
поэтому надо затеплить свечи, чтобы каждая
отыскала свою.
(“Поминовение”)
У Мартинайтиса почти нет того, что принято называть любовной лирикой. (Еще Брехт сокрушался, что в мире, где столько зла, невозможно всерьез увлечься прелестью женщины или пейзажа.)
И Бог у него какой-то юродивый. Умиления перед ним нет потому же, почему нет признаний в счастливой любви. Зато есть понимание:
с такой любовью
ничем не сладишь
тебя баюкаю
а ты мне — плачешь.
(“Неписаная песня”)
Средоточие всего — в юродивых, дурочках и блаженных (“Дурочка в колодец глянет — и Земля уходит в небо”). Они сродни детям. Они и есть дети. Они и есть любовь. Их речь скомкана, сжата, спрессована. В обществе так говорить не принято:
Зa лето так широко,
так просторно устал…
всей Литвой —
как будто меня простили .
Но если скажешь иначе — тебя не поймут те, к кому обращаешься. А нужна хотя бы надежда на отклик. Это единство внимания и сочувствия означает для Мартинайтиса родину. Его стихия — плачи и проповеди. Ибо ему позволено многое. Как и всем нам.
У поэта есть право отказа
от каких бы то ни было прав — у него
есть правота прощения.
У поэта есть право ухода:
в изгнанье
он всегда остается на родине.
Поэта опустошают его слова,
как личинки выедают порог
под ногами входящего.
Где был поэт,
остается пролом в скале,
отворенный для жизни.
(“ Поэт с черным нимбом ”)
Отношения Мартинайтиса с миром определяет какое-то магическое единство, таинственная и скорбная религия. Новое язычество. И у этой религии есть пророк, одно из имен которого — Кукутис.
Когда этот герой впервые заговорил, многие понимающе закивали: какие возможности для иносказания! Но это была — прямая речь. Прямей не бывает. Просто “поэзия обращается к тем, кто понимает больше, чем она может сказать” (“Фрагмент”).
Языческая вечность дарована не только деревьям и валунам. У Кукутиса это не просто неведение о смерти, это скорее способность умирать и жить дальше. И не только у Кукутиса.
Уже обнаружено, что в подполе я укрываю картофель.
Каждой весной я прячу в землю горошины,
которые, прорастая, повинуются лунному свету —
их чувственные мембраны реагируют на беседы мертвых.
(“К вопросу о благонадежности” ).
Но пока в живых память, надо снаряжаться туда, где живые. Поэт говорит: “Дом родной, поехали в Вильнюс”, — и дом слушается, перебирается на новое место, поверив, что “нам от Вильнюса станет теплее, и снова мы примемся жить ”.
Поэты, точнее всех сказавшие об утрате и пустоте, отыскивают пролом в скале, отворенный для жизни, и находят слова спасения. О главных свершениях времени Мартинайтис говорит: “Моя земля дожила до амнистии”. Не до реабилитации — до амнистии. Потому что невинных нет .
Так одолевается гордыня — личное, словесное, национальное одиночество.
Недавно вышедший сборник стихотворений Мартинайтиса так и назван: “Не заперто ”.
1 См.: “Дружба народов”. 1999. N№ 4.