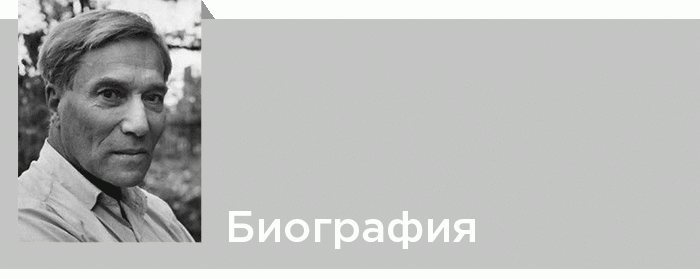Композиция текста в романе Б. Пастернака «Доктор Живаго»
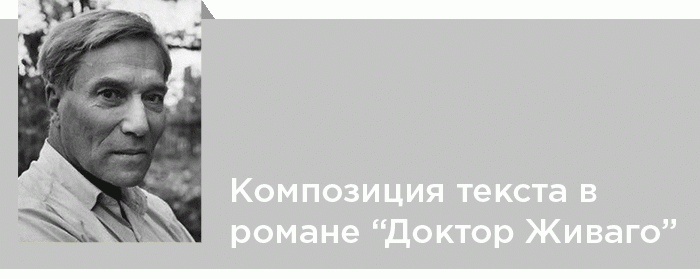
С.Г. Исаев
Роман Пастернака состоит из двух книг и 17 частей. Части романа имеют сквозную нумерацию. В обширной литературе, посвященной пастернаковскому произведению, до настоящего времени не ставился вопрос о соответствии его содержания указанной внешней композиции.
Как известно, замысел пастернаковского романа связан с евангелической концепцией воскресения и бессмертия, которая органически переходит в концепцию нового искусства. Пастернак называет последнее «силой» переживания, преобразующего окружающее и оставляющего на нем свои памятные следы. «Понятье силы я взял бы в том же широчайшем смысле, в каком берет его теоретическая физика, с той только разницей, что речь шла бы не о принципе силы, а о ее голосе, о ее присутствии. Я пояснил бы, что в рамках самосознанья сила называется чувством». Таким образом, подлинное воздействие искусства Пастернак связывает не с внешней, но внутренней его природой. В самом романе по этому поводу Юрий Живаго записывает следующее: «И мне искусство никогда не казалось предметом или стороною формы, но скорее таинственной и скрытой частью содержания».
Парадоксальность пастернаковской концепции искусства особенно ощутима в точке соприкосновения (и пересечения) внешнего и внутреннего, техники и метафизики. Существо искусства, так же как глубинные основы творчества, Пастернак связывает с естественностью и силой переживания. В вариантах к «Доктору Живаго» находим рассуждение о том, что «искусство не годится в призвание в том же смысле, как не может быть профессией прирожденная доброта или склонность к меланхолии или веселью». Отсюда вопрос о внешней форме и ее свободе у Пастернака, с одной стороны, приобретает сугубо служебный характер. «Самое высшее, о чем может мечтать искусство» - подслушать голос Любви, которой нет дела до благозвучия. «В ее душе живут истины, а не звуки». Аналогичное положение.высказывается Пастернаком в период работы над «Доктором Живаго» в письме к О. Фрейденберг от 7 января
Пастернак убежден, что нахождение художником подлинного ритма переживания само собою решает проблемы организация текста: «Ритм лежит в основании шекспировских текстов, а не завершительно обрамляет их». Более того, Пастернак не исключает, что при наличии необходимого ритма сама потребность в организации текста как таковая может отпасть: текст, рождаясь импульсивну, начинает жить каким-то внутренним ритмом, а вовне - может быть не организованным, не расчлененным, внешне не упорядоченным. В «Замечаниях к переводам Шекспира» Пастернак обращает особое внимание на исконное отсутствие в пьесах великого английского драматурга деления на части. «У самого Шекспира не было деления пьес на акты и сцены. Это разбивка позднейших издателей».
Как бы ни акцентировал Пастернак важность для текста «внутреннего ритма», он не может пройти мимо проблемы именно «разработки» или технической стороны создаваемого. Ритм, его музыкальность могут не поддаваться вещественной наглядности так, как «не поддается цитированию общая музыка «Гамлета». Однако несмотря на то, что эту «духовидческую» и «скандинавскую» по своей природе «музыку» шекспировской трагедии «нельзя привести в виде отдельного ритмического примера», она «зловеще и вещественно врастает в общую ткань драмы». Для Пастернака очевидно, что музыка проявляется не только в сгущении атмосферы трагедии, она проявляется и «в мерном чередовании торжественности и тревожности».
«Отсутствие разделов» в драмах Шекспира, по Пастернаку, еще не означает равнодушия английского драматурга к «построению»: «Хотя первоначальные тексты шекспировских драм печатались подряд, без перерывов, отсутствие разделов не мешало им отличаться строгостью построения и развития, в наши дни необычными». Последнее особенно касается тех уровней текста, которые содержат «их тематическую разработку». Пастернак не отрицает значимости и этой организационной работы. Вместе с тем ее оценка делается очевидной из самой терминологии, к которой он прибегает. Если в первом случае речь шла о музыке и выражаемых ею внутренних ритмах, которые, конечно же, отпечатываются и вовне, то, касаясь разработки Шекспиром «тематической» стороны его драм, Пастернак говорит о «пружинной коробке в заводном механизме». С постановкой вопроса о «пружинах», разворачивающих сюжет и помогающих понять организационные принципы построения текста, меняется и пастернаковское видение творческого процесса Шекспира, в котором «величайшая в мире свобода и ошеломляющее богатство фантазии» сменяются «ложной старательностью», «искусственностью в расположении поступков и событий, которые начинают следовать в сомнительной стройности разумных выводов, как силлогизмы в рассуждении». Необычная для наших дней «строгость построения» у Шекспира, по Пастернаку, - не что иное, как «пережиток пленившей его в детстве старины». Ее отличительная особенность в «старомодной добросовестности его разработок».
Поэтика текста, раскрытая Пастернаком на материале шекспировских произведений, проявляется в его собственном творчестве. В письме Пастернака к Фрейденберг от 13 окт.
В приведенных выше размышлениях обращает на себя внимание проводимое автором письма уподобление творчества и витального процесса: «Я не протяну и года, если в течение его не будет жить и расти это мое перевоплощение, в которое с почти физической определенностью переселились какие-то мои внутренности и частицы нервов». Подчеркнем, речь идет не о стирании границы между физическим и духовным, а о переходе одного в другое. В этом аспекте текст становится метафорой авторского тела.
Евангелическая концепция творчества предполагает преобразование «неживой материи» в живую картину мироустройства. В «Охранной грамоте» Пастернак выражает эту мысль следующими словами: «Наставленное на действительность, смещаемую чувством, искусство есть запись этого смещенья». Отсюда в пастернаковской теоретической поэтике и рождается принцип «оснащенного чувства», или организационный принцип взаимодействия частей и целого. Деление целого на части «навязывается» самосознанью художника размышлением о смерти. Но само переживание, которое так или иначе выводит художника к иде искусства (или бессмертия), способно «ожить» только в контексте Целого. Именно Целое вооружает искусство технически. Читатель, полагает Пастернак «весь тонет в предисловиях и введеньях, а для меня жизнь открывалась лишь там, где он склонен подводить итоги. Не говоря о том, что внутреннее члененье истории навязано моему пониманью в образе неминуемой смерти я и в жизни оживал целиком лишь в тех случаях, когда заканчивалась утомительная варка частей и, пообедав целым, вырывалось на свободу всей ширью оснащенное чувство».
Можно предположить, что у Пастернака схематизм композиционных решений проявлен в тех же областях, на которые он указывал, говоря о Шекспире: в сфере разработки характеров и тематики. Отчасти дело так и обстоит. Юрий Андреевич может быть назван персонажем, который, переходя из книги первой во вторую, меняет специальность врача (доктора) на профессию писателя. Формальная четкость данного решения особенно проявляется в финале, где обнаруживающий себя через текстовую композицию замысел несколько прямолинейно адресует читателя романа к произведению, написанному персонажем. Мы полагаем, что это всего лишь внешний слой сюжета, но именно он выводит к пониманию глубинных пластов романного замысла.
Сюжет пастернаковского романа принуждает романный текст расположиться между картинами похорон. Согласно существу пастернаковской эстетики, это означает, что пятнадцать частей романа выражают процесс непрерывногофизического расчленения единой текстовой массы. Вместе с тем именно разъятие текста оказывается необходимым условием его целенаправленного, органически связанного с судьбой главного героя, объединения в целое. Живаго по мере развития сюжетных действий от эпизода к эпизоду фактически теряет телесное здоровье. Падая в обмороки, переживая экстатические состояния, получая ранения, заболевая, выздоравливая и вновь смертельно заболевая, Юрий Андреевич шаг за шагом по крупицам расстается с собственным телом. Череда утрат - «растерзание» героя. В системе перечисленных картин и эпизодов нельзя не увидеть знаковое выражение обмена материальными субстанциями - тела героя на тело текста.
Данная идея поддерживается изнутри мотивами и образами текста. Заметим, одни из них обладают экфрастической полновесностью, другие - номинально фиксируют риторический замысел; взятые вместе тексты создают определенный выразительный ритм. Его живое биение выявляется благодаря чередованию официальных и индивидуально-значимых вставных «документов». К первой категории относятся государственные указы, декреты и деловые распоряжения местных властей, деловая переписка. Творческая энергия текстов, циркулирующих в официальной, деловой государственной и частной сферах, засвидетельствована лишь однажды - в первой книге романа в момент первого всплеска революционной стихии.
В остальном же эти образы, с одной стороны, символизируют холодность, неподвижность, безжизненность, с другой – агрессивность и враждебность по отношению к человеческой свободе и независимости. Концентрация текстов, исходящих от официальных властей, во второй книге романа обоснована единством замысла. Остановимся на эпизоде из этой части романа, связанном с уничтожением партизанского архива (часть «Лесное воинство»). Отметим, автор фиксирует, что вставной текст протоколов собраний партизанского армейского совета по своему содержанию мало отличается от случайно захваченной и также уничтожаемой штабной переписки белых. Эта деталь помогает ввести рассматриваемый эпизод в более широкий контекст социально-исторического плана. Кипы «расползающихся врозь протоколов» композиционно соотносимы с аналогичными текстами первой книги. Мы имеем в виду упоминание в самом начале романа о платежной ведомости для железнодорожных рабочих - важной детали, мотивирующей начало их забастовки. Трагическое звучание образа партизанского архива вырастает в системе других текстовых образов там, где он композиционно сопрягается с размышлениями доктора Живаго о русском фольклоре и летописных произведениях, с текстами заговоров, подчеркивающих особую силу слова, и, наконец, с картинами гражданской войны и партизанских действий, выражающих мысль о колоссальной энергии, высвобожденной революцией и не получившей ясного, созидательного направления.
Рассыпающаяся масса архивных материалов негармонична сама по себе. Обваливающиеся кипы архивных бумаг, приготовленных к уничтожению, вызывают у доктора противоречивое, но в целом тягостное переживание. Оно становится ощутимым благодаря следующему сопоставлению. Факты насилия в протоколах заседаний армейского совета, невозмутимо фиксируемых рутинными словами («Текущее. Ввиду недосказанности обвинений учительницы села Игнатодворцы армейский совет полагает...»), контрастируют с картиной осеннего леса, пестреющего «всякого рода спелыми ягодами». Брезгливое отношение к названнымтекстам проникает в лексическую ткань произведения. Характерно, что доктор носком сапога «распихает» и «разрознивает» приготовленные к уничтожению кипы бумаги. Узкий, сугубо практический интерес доктора к уничтожаемым архивам лишь подчеркивает степень его отчуждения от текстов подобного рода, включая рассматриваемый эпизод в рамки основной мысли романа об обмене между текстами и телом героя.
Рассказ об уничтожении партизанского архива композиционно связан и с изображением той реакции, которую вызывают у доктора распоряжения новых мирных учреждений. Согласно общему замыслу и те и другие являются текстами одной направленности как документы, исходящие от власти. Вместе с тем, рисуя вторые, Пастернак усиливает ценностные аспекты. Распоряжения государственных и муниципальных властей исполнены на серой, шероховатой бумаге. Атрибуты власти - печати - резко выделяются на их поверхности. Развивая данное наблюдение, Заметим: в последующих фрагментах романа тексты, связанные с деятельностью государственной власти, приобретают зловещую символику. Они упоминаются как некие тайные проскрипционные списки - символы эпохи тоталитаризма. Композиционное задание в данном случае оказывается явным и не нуждается в детальном комментарий. Тем более, что роман дает и модель восприятия сопоставляемых текстов. Кипы партизанской переписки вызывают у доктора грусть и сожаление, чтение официальных распоряжений центральных и местных властей обернулось для него обморочным припадком.
Риторический дискурс «Доктора Живаго», связанный с восприятием действительности сквозь призму внешних и внутренних параметров самих текстов, углубляется и усложняется благодаря произведениям, создаваемым персонажами романа — от отдельных строчек стихов и прозы до книг. Аналогичное художественное содержание выражают также частные записки, письма, дневниковые заметки. Высокий статус всех перечисленных текстов в рассматриваемом нами романе, особенно статус Книги, не раз засвидетельствован его исследователями. Заметим, с последним творческим взлетом Живаго, показанным во второй половине романа, прочно связываются и внешне привлекательный образ гладкого белого листа, торопливо заполняемого строчками поэтического текста, и лейтмотив об исчерпанности физического здоровья доктора.
Как мы уже говорили, внешне четкому выражению мысли об обмене здоровья героя на текст книги стихотворений парадоксальным образом не отвечает внутренняя динамика образа текста, создаваемого Юрием Андреевичем Живаго. Распыленность опыта, несведенность результатов интенсивных творческих усилий к какому-то одному большому тексту - таковы внешние итоги деятельности доктора как автора. Эта осколочная незавершенная расползающаяся на отдельные произведения форма неуклонно образуется постепенным чередованием различных деталей, сцен и картин. Мы говорим о созданной в романе особой осколочной форме образа Книги. Так, воспринимая его, читательское сознание движется от сцен работы Живаго над первыми стихотворениями, которые как бы непосредственно замещали телесную утрату, еще весьма наивно побеждая смерть, к упоминанию о первой книге стихотворений, изданной без ведома самого автора; и от этого упоминания к сообщению о работе Живаго над статистическими записями, связанными с медицинской проблематикой. Ощущение раздробленности усиливается в связи с переходом от сообщения о работе над прозаическим текстом доктора с претенциозным названием «Игры людей» к рассказу о работе над поэмой в стихах с говорящим названием «Смятение». Во второй книге романа движение единого образа Книги, являясь иным по существу, остается тем же по форме: от прозаических записей доктора в дневнике – к вдохновенной, овеянной пушкинским мотивом «бумага просится к перу, перо к бумаге», серии стихотворений. Однако и во второй половине романа отсутствует образ фундаментального текста, подготовленного самим Живаго и изданного при его жизни. Внутренняя логика рассмотренного движения подсказывает мысль о посмертности итогов. За внешним движением картин, связанных с текстами, особенно с произведениями главного героя, скрываются детали, указывающие на возможность перехода с наружного, материально обозначенного уровня формы к внутреннему.
Фрагментация словесного массива легко доступна для визуального восприятия, если в тексте фиксированы разделы – начала и концы словесных отрезков. Как мы показали, композиция пастернаковского романа опирается на чередование его частей и поэтому напрямую зависит от возможности данную упорядоченность выделить. Четкое проведение подобного деления в романе существенно повышает шансы поэтологического описания их соотнесенности с архитектоникой внутреннего мира произведения. Существо проблемы в том, что в семнадцатой части романа, т.е. после раздела «Окончание» и «Эпилога», перед читателем начинает разворачиваться уже упомянутый нами вставнойтекст. Сквозная нумерация частей романа подсказывает, что принцип фрагментации материального текста в романе не приостановим. Поскольку часть «Стихотворения Юрия Живаго» композиционно выделена в сильную позицию окончания и одновременно такой выделенности противостоит (она лишь 17 часть целого), постольку и функция ее в рамках единого текста оказывается двойной.
Появление в конце романа вставного фрагмента - Книги, если его рассматривать в рамках целого, делает очевидным не только исполненность художественного задания, но и неформальностьсамого исполнения. Дело в том, что на суд читателя представлены стихотворенияЮрия Живаго, тогда как сокровенные творческие искания героя связаны не с поэзией, а с прозой. «Юра хорошо думал и очень хорошо писал. Он еще с гимназических лет мечтал о прозе, о книге жизнеописаний, куда бы он в виде скрытых взрывчатых гнезд мог вставлять самое ошеломляющее из того, что он успел увидеть и передумать». Не касаясь в данном случае автобиографической подосновы рассматриваемого мотива, заметим, поскольку в качестве основной преграды для создания подобной прозы назван возраст Живаго (в первой половине романа сказано: «Но для создания такой книги он был еще слишком молод...»), постольку появление ее на этапе завершения жизненного пути доктора предполагается вполне возможным. Почему же Пастернак, встраивая в роман многочисленные образы и поэтических, и прозаических (!) книг, созданных Живаго, завершает свое произведение вставным поэтическим текстом? Глубокая согласованность мечты доктора о прозе с вынашиваемой им, да и автором романа, общей концепцией творчества и придает завершающему произведение вставному элементу (и композиции в целом) важнейшее значение.
Вместе с разговором о назначении завершающего вставного фрагмента мы переходим к анализу собирания Пастернаком текста романа как целого. В мировой литературе собирание текста осуществляется разными путями. В одном случае авторами подчеркивается линейно-поступательное непрерывное движение текста (сквозная нумерация глав или частей). Другой традиционный композиционный принцип собирания основан на формировании более мелких фрагментов произведения в более крупные - книги, тома, внутри которых главы имеют свою самостоятельную нумерация. Такое, условно говоря, двухуровневое строение, позволяет превратить более крупные части в некие самостоятельные конструкции, чередование которых дает возможность внести в произведение выразительные моменты диалектики. Пастернак, на наш взгляд, осознанно опирается на оба композиционных приема: мелкие фрагменты его романа (Части) имеют сквозную нумерацию, в то же время роман собран в две Книги. Заметим, что и этот достаточно необычный способ построения встречается в мировой романистике задолго до того как к нему обратился автор «Доктора Живаго». Отмечая, что сходные формы построения использовались до и после Пастернака, уточним: в произведениях, названных выше Гете и Достоевского, творчеством которых Пастернак пристально интересовался, работая над своим романом, общие контуры схем совпадают, но в них есть и различия. У Пастернака в романе две, в произведениях Гете и Достоевского - по четыречасти.
О зеркальных или контрапунктических эффектах двухчастного построения пастернаковского романа имеются серьезные работы. Б. Гаспаров открыл в организации романа Пастернака принципы относительности и контрапункта ости движения мотивов. Н. Фатеева подходит к «Доктору Живаго» с теорией текста как самогенерирующей дуальной структуры и под этим углом зрения раскрывает роль в романе таких пар, как проза-поэзия, верх-низ, центр-периферия. Действительно, первая и вторая книги «Доктора Живаго» в чем-то зеркальны. В первой события происходят в «центре», во второй изображается жизнь «провинции». Действительно, развитие мотивов, например, мотива пути, в романе контрапунктно. Действительно, соотношение прозы и поэзии в романе генерирует образование текста. Однако во всех перечисленных случаях вне поля зрения исследователей остаются вопросы, поднятые нами в связи с описанием использованных Пастернаком приемов композиционного построения.
Мы полагаем, что в конструкции «Доктора Живаго», наряду с другими, заложены организационные принципы, найденные автором в текстах христианского богослужения. Раскрывая данное предположение, обратимся к сцене урока, даваемого Ларисе Антиповой Симой Тунцовой – ученицей Веденяпина во второй книге романа.
Обрамление «урока», т.е. очевидное комментирование аллюзивного примера, лишь приоткрывает риторический дискурс романа. Его анализ – задача особого исследования. Однако даже самое поверхностное соприкосновение с ним обнаруживает в структуре и в композиционном строении романа Пастернака достаточно древние, глубинные, мифологические по природе, структуры мироощущения и мировидения, которые также предполагают органическое сочетание духа и материи, жизни и смерти, боли и наслаждения, плюсов и минусов.
Особенность интересующего нас фрагмента в его демонстративности, в обнажении нитей, связывающих художественную концепцию человека и концепцию текста (изображаемая сцена, как мы отметили, и в самом деле - просветительский урок). Суть «урока» связана с утверждением способности текстов концентрировать этапы «осуществляемой поколениями» человечества духовной работы. Поскольку такая «последняя по времени, ничем другим пока не смененная» работа человеческого духа, связана с христианством, постольку объяснимо обращение именно к христианским текстам. Выбор среди них стихир мотивирован тем, что они демонстрируют «то новое, небывалое», что принесло христианство, «во всей свежести, неожиданно, не так, как вы сами знаете и привыкли, а проще, непосредственнее». Итак, обратимся к изложению концепции:
«Большинство стихир образуют соединение рядом помещенных ветхозаветных и новозаветных представлений. С положениями старого мира, неопалимой купиной, исходом Израиля из Египта, отроками в печи огненной, Ионой во чреве китовом и так далее, сопоставляются положения нового, например, представления о зачатии Богородицы и о воскресении Христове <...> Например, в стихе «В мори Чермнем неискусобрачные
невесты образ написася иногда» говорится: «Море по прошествии Израилеве пребысть непроходно, непорочная по рождестве Еммануилеве пребысть нетленна». То есть море после перехода Израиля стало снова непроходимо, а дева, родив Господа, осталась нетронутой...»
Ниже следует комментарий, который мы также считаем частью «урока», посвященного итогам «работы духа» и опыту организации текста. То, о чем говорится в разных частях стихиры, комментарий Тунцовой одновременно и сближает («Оба события сверхъестественны, оба признаны одинаковым чудом»), и разводит (в древнем мире все происходит по велению вождя, в новом - «девушка - обыкновенность, на которую древний мир не обратил бы внимания, - тайно и втихомолку дает жизнь младенцу, производит на свет жизнь, чудо жизни, жизнь всех, «Живота всех», как потом его назовут». Отмечены и разные способы изображения событий. В первом случае: «Зрелище в духе древности, стихия, послушная голосу волшебника, большие толпящиеся численности, как римские войска в походах, народ и вождь, вещи видимые и слышимые, оглушающие». Во втором: «Отдельная человеческая жизнь стала Божьей повестью». Подчеркнуто, что во второй строчке стихиры и атмосфера чудесного совершенно иная: «Девушка рожает не в силу необходимости, а чудом, по вдохновению. Это то самое вдохновение, на котором Евангелие, противопоставляющее обыкновенности исключительность и будням праздник, хочет построить жизнь, наперекор всякому принуждению».
Нам думается, что аллюзивная дуальная конструкция введена в роман не случайно. Обширный просвещающий комментарий, сопровождающий ее, наводит на мысль о прототипичности ее и для того текста, в котором она находится. Мы видели, что в «Докторе Живаго» проговорена и принципиальная композиционная функция рассмотренной конструкции - зеркально сравнивающее соположение. Вместе с тем комментарий Симы Тунцовой оставляет без внимания момент, чрезвычайно важный для самого автора. Зеркальность, действительно, предполагает и сходство, и различие сополагаемых элементов. Но принцип зеркальности отвлекает внимание от другого важного свойства этой конструкции - не отрицающего противоречия. Действительно, из приведенного выше аллюзивного примера видно, что событий - два, и они глубоко различны. В силу различий эти события во всем явно противоречат друг другу. И тем не менее, вглядываясь в текст аллюзии, видим, что первое из них также не отрицает второго, как и это второе - первого.
В свое время Уайльд, определяя совершенно новый подход к диалектике, заметит - истина в искусстве в том, что в нем противоположное утверждаемому тоже верно. Принцип не отрицающего противоречия как раз и лежит в основе целостной конструкции пастернаковского романа. Обратим внимание на один из ключевых социально-этических эпизодов оомана - сцену напряженного спора доктора с партизанским вожаком Ливерием. Она содержит концептуальное возражение Живаго идеологу партизанского движения: «Поймите, поймите, наконец, что все это не для меня. «Юпитер», «не поддаваться панике», «кто сказал а, должен сказать 6е», «Мор сделал свое дело, Мор может уйти», - все эти пошлости, все эти выражения не для меня. Я скажу а, а бе не скажу, хоть разорвитесь и лопните...».
Принцип не отрицающего противоречия, коль скоро мы примем наличие его в композиции «Доктора Живаго», делает понятным появление в конце обмана вместо прозаической книги, о которой мечтает герой (и которую ожидает читатель), - книги стихотворений. С точки зрения композиционного задания - это тот самый алогизм, тот самый парадокс, который органически завершает авторскую строительную работу.
Завершающий роман вставной текст у Пастернака парадоксален по содержанию. Но он таков и по формальной функции: его назначение подчеркивать инаковость прямых, внешних параметров всего текста. Он осуществляет это прежде всего своим местом в тексте целого. Инаковость вставного эпизода «Стихотворения Юрия Живаго» подчеркнута композиционно. Как мы знаем, первая книга романа включает 7 частей. Согласно условно-механическим законам равновесия вторая книга романа должна была закончиться на 14 части. Однако в ней на три фрагмента больше. Сигналом, который помогает расшифровать резкое изменение самой природы текстового движения, служит название 15 части. До нее в оглавлении используется тот или иной изобразительный код. В одном случае, оглавление части отсылает к предметному миру романа, показывая место или время действия («Московское сгановище», «Варыкино», «Против дома с фигурами»). В другом - непосредственно, а то и метафорически изображает персонажей («Девочка из другого круга», «Рябина в сахаре», «Лесное воинство»), или же указывает на семантику сюжетного действия («Назревшие неизбежности», «Прощанье со старым»). В 15 части происходит смена парадигмы. Картине смерти Живаго на уровне оглавления соответствует новый, на этот раз риторический код - «Окончание», который далее уже не меняется до конца произведения в целом. 16 часть названа - «Эпилог», 17 – «Стихотворения Юрия Живаго». Смена парадигмы оглавления очевидно выявляет новое художественное задание. Название вставного текста, появляясь в самом конце романа, завершает возведение на уровень подлинного искусства сюжет, связанный с изображением самого текста.
Л-ра: Филологические науки. – 2005. – № 3. – С. 3-15.
Произведения
Критика