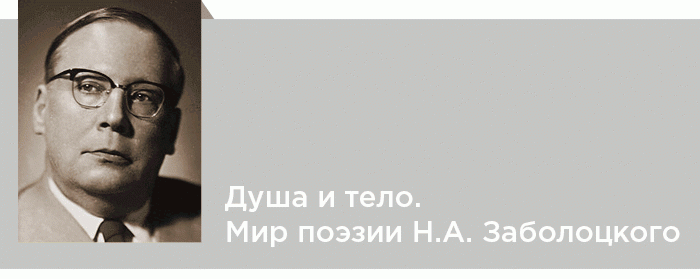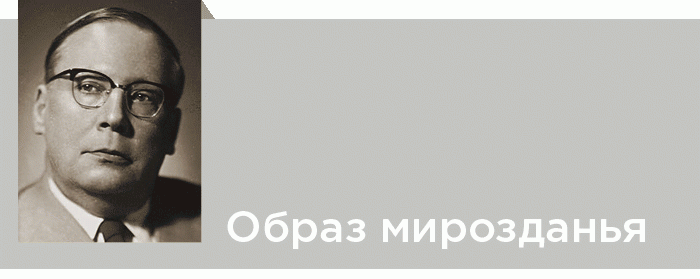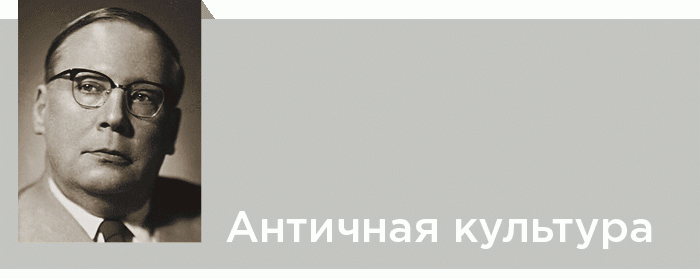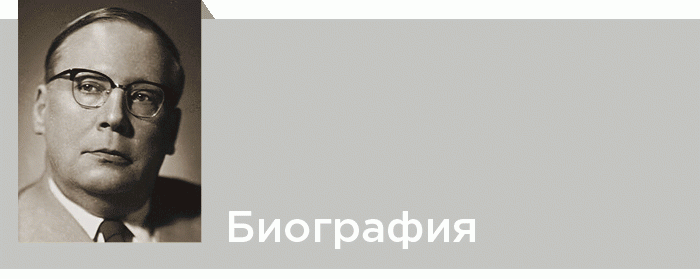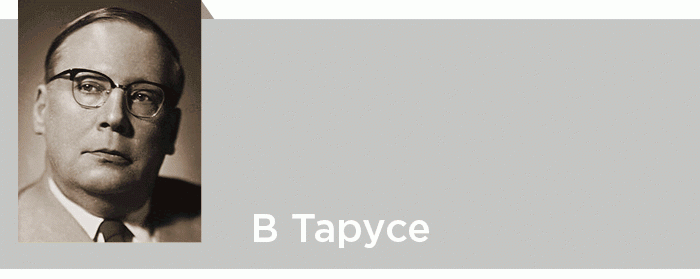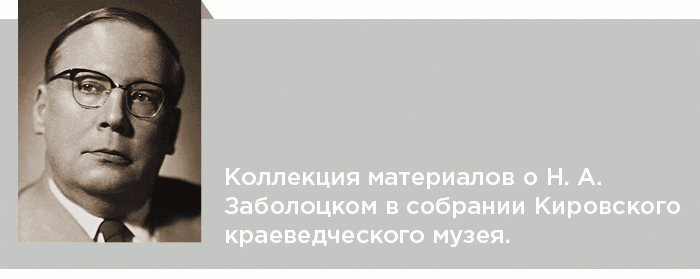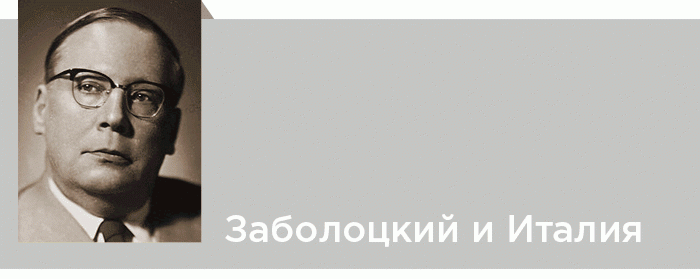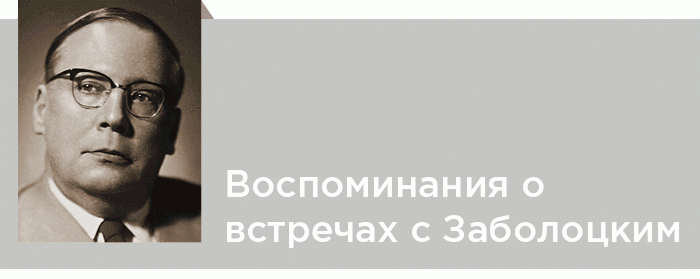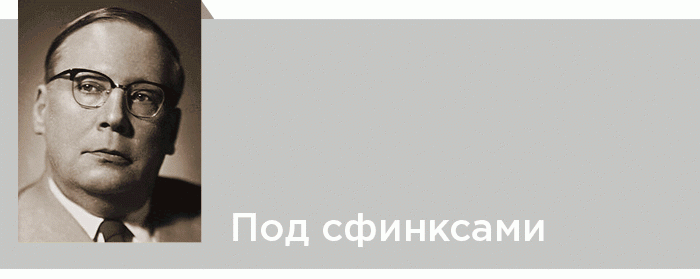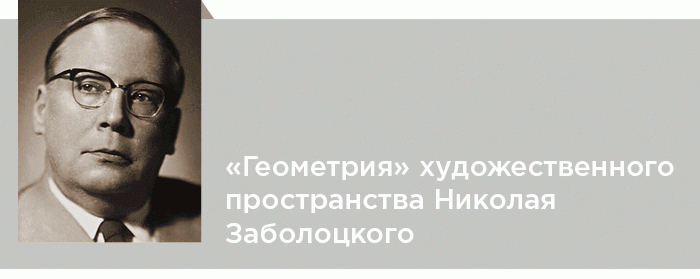Природа и культура в поэзии Николая Заболоцкого
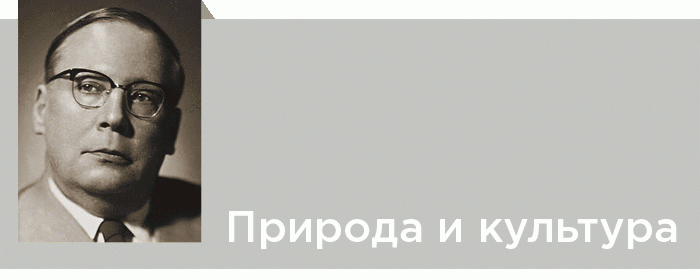
Т.Г. Мальчукова
Два мира есть у человека:
Один, который нас творил,
Другой, который мы от века
Творим по мере наших сил.
Н. Заболоцкий
Заболоцкого называют поэтом-философом. Определение верное, но довольно общее. Редкий поэт не считает себя философом если не бытия, то быта, если не всегда, то хотя бы в «размышленья час». Конечно, одно дело — стремление и другое — свершение, одно дело — быть, а другое — слыть или казаться. Мы знаем философскую поэзию, которая перелагает в стихи расхожие мысли и готовую школьную мудрость. Поэзия Николая Алексеевича Заболоцкого иного рода. Мы обнаруживаем в ней особенное видение мира и особое его постижение в живом слове и образе. Но это не все. Н. Заболоцкий — поэт и философ будущего. Ровесник XX века, века социальных революций и небывалых достижений точной науки, «выкованный грозами России» свидетель и участник грандиозной перестройки старого мира.
Как мыслитель и художник, опередивший время, Н. Заболоцкий ближе нам, чем первым своим читателям. Ведущая тема его поэзии — человек и природа, их взаимоотношения, какими они были, есть и должны быть, — осознается теперь как наинасущнейшая проблема человечества. Ее решение современная литература и публицистика видит на тех самых путях содружества и сотворчества, которые предсказывал Н. Заболоцкий в утопических поэмах 30-х годов «Торжество земледелия», «Безумный волк», «Деревья», «Школа жуков», «Птицы». Стал понятней и сложный поэтический мир этих произведений, сближение в них реальности и мечты, науки и фантазии, соединение времен — мифического прошлого с настоящим и будущим. И не только благодаря нашей привычке к популярному жанру научно-фантастического романа или чтению футурологических сочинений. На наших глазах не раз сбывались самые дерзкие и невероятные мечты человечества, хотя и не всегда в своем первоначальном поэтическом виде.
Время шло навстречу поэту, но и сам поэт приближался к читателю. В позднем творчестве Заболоцкого больше реальности, чем утопии, больше говорится о человеке, чем о природе, на передний план выдвинут образ лирического героя с его судьбой, страданиями и мыслями, болью и радостью последней любви. Взаимопонимание было достигнуто. Было замечено, оценено классическое воплощение в поэзии Заболоцкого формулы «Мысль — Образ — Музыка», которую он сам считал идеальной тройственностью для поэта. Сейчас Н. Заболоцкий — признанный классик советской литературы. Его стихи включены в школьные хрестоматии и стали достоянием культуры народа. Переведенная на многие языки, его поэзия известна мировому читателю.
Менее всего Н. Заболоцкий — классик поэзии традиционной. Напротив, он поэт ярко выраженной индивидуальной манеры. Его вступление в литературу было отмечено «яростным новаторством». Отчасти оно было продиктовано требованиями литературной ситуации. Начинающему автору нужно было обрести свой голос в кругу крупнейших художественных индивидуальностей и определить свое место среди множества школ, которые, казалось бы, ни одной возможности поэтического искусства не оставили неиспробованной. Молодой Заболоцкий вошел в «Объединение реального искусства», ведущим принципом которого было — смотреть на мир «голыми глазами», «очистить предмет от ветхой литературной позолоты».
Спор с традицией начинается с оригинального названия его первого сборника «Столбцы» (
Свежесть поэтического стиля Н. Заболоцкого создается не только смелым сочетанием слов, но и замеченной уже первыми его читателями особенной «любовной изобразительностью». Поэт видит мир, как живописец, — в пластических формах, отчетливых контурах и ярких красках. Вот как, к примеру, описывается в первом сборнике поэта рыбная лавка: «Тут тело розовой севрюги, Прекраснейшей из всех севрюг, Висело, вытянувши руки, Хвостом прицеплено на крюк. Под ней кета пылала мясом, Угри, подобные колбасам, В копченой пышности и лени Дымились, подогнув колени, И среди них, как желтый клык, Сиял на блюде царь-балык».
У автора «Столбцов» поэзия часто трактуется как «говорящая живопись», натюрморт, жанровая сцена или гротескная картина. А между тем еще со времен Лессинга, определившего «границы живописи и поэзии», европейская поэзия отошла от потерявшего свой авторитет «обезьяньего искусства». Ее эталоном стала музыка, способная выразить все, даже невыразимое. Эстетика XIX века утверждает происхождение поэтического искусства «из духа музыки» и требует «музыки прежде всего». Поворот в отношении к живописи наметился лишь в начале XX века. Любопытно, что А. Блок, воспринимавший мир (даже пластические формы) со стороны музыкального ритма, пишет статью «Слова и краски», в которой призывает поэтов учиться у живописца видеть мир и передавать его великолепие. В свою очередь, живопись конца XIX — первых десятилетий XX века, переходя границы своего искусства, сближается с повествовательной и психологической прозой, театром, поэзией, даже музыкой. Она стремится запечатлеть неуловимое мгновение, снять внешние покровы и обнажить структуру мира, изобразить мечты и сновидения, смещающие традиционные положения и пропорции.
Заболоцкий был любителем и превосходным знатоком изобразительного искусства, как современного, так и старых мастеров. Словесная живопись «Столбцов» напоминает читателю то фламандский натюрморт, то картины Филонова и Шагала. Иногда внутренние связи искусств выходят на поверхность. Поэт сравнивает краски природы с живописными полотнами: «дуб бушевал, как Рембрандт в Эрмитаже, А клен, как Мурильо, на крыльях парил». В стихотворении «Бегство в Египет» и драматическом отрывке «Пастухи» он толкует сюжеты иконописи. А описание портрета Рокотова начинается знаменательным обращением: «Любите живопись, поэты! Лишь ей, единственной, дано Души изменчивой приметы Переносить на полотно».
Заманчиво видеть в этих словах поэта его творческий манифест. Тем более, что они дополняются своеобразным запретом на музыку в стихотворении «Предостережение»: «Где древней музыки фигуры, Где с мертвым бой клавиатуры, Где битва нот с безмолвием пространства — Там не ищи, поэт, душе своей убранства». Но дело не в этих общих декларациях (они могут иметь и частное значение), не в отдельных обращениях поэта к живописи и даже не в удивительной его художественной зоркости, позволившей ему «снимать с вещей и явлений их привычные обыденные маски, показывать девственность мира, его значение, полное тайн». С изобразительным искусством Н. Заболоцкого сближает понимание предмета искусства слова.
Как бы ни стремился живописец выйти за границы своего искусства, его картина никогда не будет только самовыражением художника. В ней всегда присутствует модель и, как правило, она первенствует. Для лирической поэзии, напротив, главная цель — самовыражение поэта. Между тем Н. Заболоцкий видит назначение поэзии в изображении смысла объективного мира: «Поэзия есть мысль, устроенная в теле. Она течет, незримая, в воде — Мы воду воспоем усердными трудами. Она горит в полуночной звезде — Звезда, как полымя, бушует перед нами. Тревожный сон коров и беглый разум птиц Пусть смотрят из твоих диковинных страниц. Деревья пусть поют и страшным разговором Пугает бык людей, тот самый бык, в котором Заключено безмолвие миров, Соединенных с нами крепкой связью». При таком понимании задач словесного искусства личность поэта будет присутствовать в поэзии только ощущением своих внутренних связей с миром. Действительно, в раннем творчестве Н. Заболоцкого лирическое начало приглушено, убрано в подтекст, автор почти скрыт за картиной объективного мира, который обладает своей, независимой от оценки художника правдой.
Здесь кроется объяснение сложного, диссонирующего эмоционального тона его первых произведений. Лирическая сатира «Столбцов» и патетико-юмористическая утопия «Торжества земледелия» ставила читателей в тупик смесью восхищения и омерзения, иронии и энтузиазма. Нельзя сказать, что противоречие чувств неизвестно в лирике. Напротив, она любит изображать любовь-ненависть, сладость тоски, просветленность печали, слезы радости и смех сквозь слезы, что воспринимается как проявление диалектики души и обычно снабжается прямым указанием: «мне грустно и легко». Такого рода прямых указаний у Заболоцкого нет, разноречие чувств, неоднозначность оценки у него гораздо больше связаны с противоречиями самого предмета. Кровавое изобилие натюрмортов Онейдерса дает близкую аналогию его словесной живописи.
Отсутствие лирического героя в сатирических этюдах «Городских столбцов», обостренное внимание к миру природы во второй книге поэта «Смешанные столбцы» привели к любопытным результатам, когда Н. Заболоцкий обратился к большой поэтической форме. Вместо традиционной лиро-эпической поэмы, рассказывающей «о времени и о себе», он создает натурфилософские произведения. В современной ему литературе опыты Заболоцкого были почти уникальны (попытка Брюсова создать новую научную поэзию не удалась), но для самого поэта обращение к забытому со времен Попа и Вольтера, Тредиаковского и Ломоносова античному жанру поэмы о природе было закономерным.
Здесь имело значение и духовное наследие его отцов — земледельцев и землеустроителей. И первоначальные впечатления жизни: по словам поэта, «чудесная природа Сернура никогда не умирала в его душе» и отобразилась во многих стихотворениях. И (наряду с гуманитарным) естественно-научное образование — в реальном училище и на медицинском факультете, что дало ему возможность сознательно прочесть «Диалектику природы» Энгельса, понять открытия и прозрения Вернадского и Циолковского.
Но, как говорится, книги ищут человека. Образование легло на внутренние особенности личности писателя, в частности, на присущий ему, наряду с художественным дарованием, научный склад ума. Вот первый взгляд на него со стороны. Поступающий в Уржумское реальное училище мальчик обратил на себя внимание: «Ну, этот сдаст. Смотрите, лоб-то какой обширный!» Не побоимся быть смешными и увидим в этом трогательном случае детства писателя, во внешних чертах его лица знак ясного сознания. В юности, по собственному, явно заниженному свидетельству, в Ленинградском педагогическом институте он считался способным студентом и одно время думал посвятить себя научной работе. В известной степени это осуществилось. В его переводах художественному воссозданию подлинника предшествует научное изучение. Его исследование ритмической природы «Слова, о полку Игореве», которое вызвало в свое время одобрение такого выдающегося специалиста, как академик Д.С. Лихачев, сохраняет научную ценность по сей день.
Творчество Н. Заболоцкого менее всего было безотчетным. Поэтому, думается, решающую роль в обращении поэта к натурфилософским темам сыграло его стремление расширить границы новой поэзии, преодолеть ее сосредоточенность на изображении духовного и душевного мира личности. «Прежде у поэзии было все. Потом одно за другим отнималось наукой, религией, прозой, чем угодно... В России поэзия жила один век — от Ломоносова до Пушкина. Быть может, сейчас после большого перерыва пришел новый поэтический век», — так передают современники размышления Заболоцкого об истории поэзии и новых ее задачах. «Мне кажется, — пишет он К.Э. Циолковскому, — что искусство будущего так тесно сольется с наукой, что уже и теперь пришло для нас время узнать и полюбить лучших наших ученых — и Вас в первую очередь».
Последние слова — не просто любезность. Провидческие сочинения Циолковского «Будущее земли», «Растение будущего», «Животное космоса» были чрезвычайно близки поэту. Он не только прочел и прочувствовал их, он их предчувствовал и предугадывал. В кругу этих тем он жил, и эти же проблемы он решал в своих натурфилософских поэмах. В науке Заболоцкого привлекала собственно ее поэзия, ее прозрения, чем он сразу отделил свои поэмы от искусства прошлого — наставительного эпоса, обходившегося изложением наличных знаний, и создал поэтический эквивалент современному жанру научно-фантастического романа.
Было бы неверно видеть в утопических поэмах Н. Заболоцкого «Торжество земледелия», «Безумный волк», «Деревья», «Птицы», «Школа жуков» одну игру ума, разгул поэтической фантазии или даже только желание приподнять завесу будущего. В них поэт решал насущную нравственную проблему — взаимоотношения человека и природы.
Проблема была вечной, но вплоть до XX века она решалась односторонне — в пользу человека. Идея превосходства человека над природой была заявлена еще в античности. В трагедии Софокла «Антигона» прозвучал гимн человеку: «Много чудес на свете, но величайшее чудо — это человек». Мысль была свежей и нуждалась в доказательствах. Они были таковы: человек покорил землю и море, подчинил себе живую природу — зверей, рыб и птиц, создал культуру — мысль, речь, государство; одаренный разумом, он способен преодолеть любые препятствия, и только смерть неподвластна ему. Поддержанный христианской религией, видевшей в человеке «венец творения», и ренессансным искусством, утвердившим человека в средоточии мира, античный антропоцентризм просуществовал в своем неизменном виде вплоть до начала XX века. Конечно, европейская культура понимала разобщенность природы и человека и в иные моменты ощущала ее болезненно. Тогда раздавался призыв: «Назад — к природе», но не с целью ее благоустройства, а для умиротворения на лоне матери-природы мятущейся человеческой души. Противоположность человека и природы отмечалась с неизменным сочувствием к человеку: он кратковечен, она бессмертна; в ней царствует согласие, он в разладе с мировой гармонией и даже с самим собой. «Откуда, как разлад возник? И отчего же в общем хоре Душа не то поет, что море, И ропщет мыслящий тростник?» — так понимает отношение природы и человека Тютчев. У Пушкина они противопоставлены как смертное существо бессмертному началу. «И пусть у гробового входа Младая будет жизнь играть И равнодушная природа Красою вечною сиять».
«Вечная краса» и жизнь природы не ставились под сомнение. В мрачном пророчестве Баратынского «Последний сон» гибнет человечество, иссушившее «ум наукою бесплодной», но природа торжествует в первозданном величии. К сожалению или к счастью, Баратынский недооценил разрушительные возможности своего промышленного, своекорыстного, железного века, поставившего под угрозу не только существование человечности и культуры, но и природы. По научно-фантастическим прогнозам Уэллса вслед за деградацией человечества наступит гибель всего живого на земле. К концу века угрожающие размеры хищнической эксплуатации природы стали очевидны.
Европейская культура отозвалась на эти явления пессимистической философией «заката Европы», «крушения, кризиса гуманизма», где, в частности, подвергался критике наивный и эгоистический антропоцентризм и перерешался вопрос о взаимоотношениях человека и природы, на этот раз — в пользу природы. Новый нравственный принцип, провозглашенный А. Швейцером, требовал «благоговения перед жизнью».
Как решаются эти вопросы в поэзии Н. Заболоцкого? Он начинает с противопоставления человека и природы: «В жилищах наших Мы тут живем умно и некрасиво. Справляя жизнь, рождаясь от людей, Мы забываем о деревьях. Они поистине металла тяжелей В зеленом блеске сомкнутых кудрей». И идеей служения, подчинения человека природе: «И если б человек увидел Лицо волшебное коня, Он вырвал бы язык бессильный свой И отдал бы коню. Поистине достоин Иметь язык волшебный конь».
Все, что мы до сих пор читали у Заболоцкого (в том числе и противопоставление благородного коня человеку — с ним мы встречались еще у Свифта), были общие места европейской мысли. Опыт великой революции и грандиозной перестройки мира позволил русским художникам и мыслителям предложить иное решение этой важнейшей проблемы XX века. Пересмотр вопроса можно проследить на поэзии Хлебникова. В ранней поэме «Журавль» поэт в духе пессимистической философии «конца века» развивает традиционную тему вражды человека и вещи, живой природы и цивилизации. В поэме 1920 года он утверждает «Ладомир». Гармония вселенной рождается космической революцией: «Я вижу конские свободы И равноправие коров». Благоустройство мироздания создается творческим трудом человека: «Это шествуют творяне, Заменивши Д на Т, Ладомира соборяне С Трудомиром на шесте».
Прозрения Хлебникова многократно отозвались в поэзии Н. Заболоцкого. Ему близка идея раскрепощения природы. Ему дорога мысль о человеке — «не насильнике», но «мудром хозяине», «дирижере» и организаторе вселенной. Начиная с поэмы «Птицы», роль человека в поэтическом мире Н. Заболоцкого все время растет: ср. его стихотворения «Венчание плодами», «Север», «Седов», «Твердь дорог» и др.
Что отличает Николая Заболоцкого от его предшественника? Не только то, что «самовитое слово» и туманные пророчества Хлебникова обретают у него ясное выражение и пластическую форму. Главное, разрозненные и беспорядочные картины «Ладомира» складываются у Заболоцкого в продуманную и стройную систему мироздания, пронизанную единым движением совершенствования. Нынешнее состояние природы — не вершина, но лишь начальный этап эволюции вселенной. Развитие продолжается ускоренными темпами. Пробуждается живая душа растений. Развивается сознание животных, они строят свою цивилизацию и культуру по образцу человеческой. Одухотворенные люди населяют эфир. Это мечты поэта. Однако формирующее этот утопический мир сознание кровного родства и духовного братства человека и природы было убеждением Н. Заболоцкого, основой его философского мировоззрения. «Приближается время, — пишет поэт, — когда, по слову Энгельса, люди будут не только чувствовать, но и сознавать свое единство с природой, когда сделается невозможным бессмысленное и противоестественное представление о какой-то противоположности между духом и материей, человеком и природой, душой и телом». Итак, по Заболоцкому, мир материален и духовен, он един, поэтому в самой малой капле воды — «сквозь волшебный прибор Левенгука» — можно увидеть отражение общих законов вселенной: «Там я звездное чую дыханье, Слышу речь органических масс И стремительный шум созиданья, Столь знакомый любому из нас».
Сознание всеобщей созидательной работы, всепроникающей жизни и духа определило поэтическое миросозерцание Н. Заболоцкого. Природа у него живет почти человеческой жизнью. Поэт видит ее трагедии и фарс, ее труд и проказы, ее преступления, разбой и вместе с тем ее величие, героизм, самоотверженность. Он описывает ее животворящие грозы и ночные минуты ее вдохновения: «Природа пела. Лес, подняв лицо, Пел вместе с лугом. Речка чистым телом Звенела вся, как звонкое кольцо» («Лодейников»). Тесные рамки статьи не позволяют нам умножить число примеров, но и этот единственный показывает, что у Заболоцкого мы встречаем не единичные метафоры или олицетворения, но общую мифологизацию природы.
Заболоцкий не только певец природы, но и поэт культуры. Он ее знаток и пропагандист. Отсутствие культуры он считал губительным даже для первостепенных талантов и сам профессионально изучал ее — именно для литературной работы. Филологическое образование позволило ему создавать образцовые по точности переводы самых разнохарактерных памятников мировой литературы. Он открыл современному читателю суровую простоту сербской народной песни, рыцарственность эпоса Руставели, «нежную дикость» «Слова о полку Игореве», своеобразие грузинской и итальянской поэзии, классические баллады Шиллера и лирику Гете.
Но дело не в переводах. Мир культуры вошел в его оригинальную поэзию, причем не только фоном, дыханием, проблематикой, стилистической традицией, которая присутствует даже тогда, если от нее сознательно отталкиваются, но как одна из важнейших поэтических тем. Содержанием его последней, в какой-то мере итоговой поэмы «Рубрук» является встреча-противопоставление двух культур Запада и Востока.
В стихах Н. Заболоцкого довольно много литературных и исторических реминисценций. Иногда это малоизвестные грузинские, кельтские или ассирийские имена. Экзотика мировой культуры отчетливо выступает на фоне ее «классических пропорций», ее «золотого сечения». Христианская и античная основа европейской литературы поэту хорошо известна и присутствует в его поэзии.
Особенно глубоки контакты Н. Заболоцкого с греко-римской культурой. Многообразие в освещении мифологических персонажей можно показать на нескольких примерах. В ряде поздних стихотворений Н. Заболоцкого появляется «рожденная из пены» греческая богиня красоты Афродита. В стихотворении «Гроза» этот образ дан анонимно: «Так из темной воды появляется в мир светлоокая дева. И стекает по телу, замирая в восторге, вода, Травы падают в обморок, и направо бегут и налево Увидавшие небо стада. А она над водой, над просторами круга земного, Удивленная, смотрит в дивном блеске своей наготы». В стихотворении «Во многом знании — немалая печаль» миф о рождении Афродиты присутствует не в тексте, а в подтексте: «Вселенная шумит и просит красоты. Кричат моря, обрызганные пеной». В стихотворении «Стирка белья» Афродита обретает свое имя, но одновременно несвойственный ей отраженный смысл — воплощения красоты душевной: «Благо тем, кто смятенную душу Здесь омоет до самого дм, Чтобы вновь из корыта на сушу Афродитою вышла она».
Новым в трактовке мифологических образов в поздних стихотворениях Заболоцкого было возвращение им героического характера. Менее всего это связано с особым, создаваемым для них контекстом. Напротив, контекст может быть самый прозаический, как в процитированном выше стихотворении «Стирка белья». Но бытовая сцена получает здесь метафорический смысл нравственной купели, а очищение души благодаря мифологическому сравнению поднято на уровень космического события. Для контраста вспомним стихотворение из «Столбцов» «Народный дом», где античная богиня погружена в быт, лишена собственного имени, опошлена множественностью: «Здесь гор американские хребты! Над ними девочки, богини красоты, В повозки быстрые запрятались...» Можно было бы понять деперсонализацию мифологических героев только как дополнительное средство создания сатирического образа, если бы она была распространена в ранних стихотворениях Заболоцкого и вне иронического контекста. Так в стихотворении «Обед»: «И репа твердой выструганной грудью качается атланта тяжелей».
Античные образы у Заболоцкого часто появляются в сравнении или в метафоре и имеют как будто чисто иллюстративное и орнаментальное значение. Однако они не просто элемент стиля, они входят в систему образов стихотворения, составляя его мир. Поэтому изменения в трактовке мифологических образов связаны не только с эволюцией авторского стиля, но имеют в своей основе движение поэтической темы. Об изменении своей темы сам поэт говорил так: «Раньше я был увлечен образами природы, а теперь я постарел и, видимо, поэтому больше любуюсь людьми и больше присматриваюсь к ним». В поздних стихотворениях Заболоцкого рядом с героическим человеком обретают свой высокий смысл и очеловеченные образы греческой мифологии.
Любопытно отметить, что в становлении гуманистической темы у Заболоцкого особое, этапное значение имела написанная им в традиции дидактического эпоса Гесиода и Лукреция поэма «Птицы». По содержанию она напоминает более ранние его произведения «Безумный волк» и «Деревья». Но в соответствии с духом античной культуры здесь первенствует человек, а изображение природы подчинено принципу «подражания» реальному миру, а не фантастического его преображения. В поэме тонко воспроизведена стилистика древнего эпоса — избыточность в описаниях, анатомические подробности, обилие украшающих и уточняющих эпитетов, стихотворный размер, есть мифологические реминисценции.
Если в поэме «Птицы» стилем древнего эпоса поэт излагает собственный сюжет, то в стихотворении «Город Посейдона» языком новой гротесковой поэзии он рассказывает известную из Платона легенду о затонувшей Атлантиде. Из последних обращений Заболоцкого к мифам укажем на стихотворение «Одиссей и сирены». В гомеровской истории поэт усиливает составляющие ее элементы: сказочный колорит и «простую правду человеческого существования». В результате получилась свежо рассказанная старинная повесть с важным и вполне современным нравственным смыслом — о сопротивлении человека соблазнам жизни, о его верности родным и родине.
В русской лирике были певцы природы и поэты культуры. Были поэты широкого тематического диапазона, которые черпали образы и сюжеты из той и другой области. Своеобразие Н. Заболоцкого в том, что он заостряет внимание на контактах природы и культуры:
Читайте, деревья, стихи Гезиода,
Дивись Оссиановым гимнам, рябина.
Не меч ты поднимешь сегодня, природа,
Но школьный звонок над щитом Кухулина.
Еще заливаются ветры, как барды,
Еще не смолкают березы Морвена,
Но зайцы и птицы садятся за парты
И к зверю девятая сходит Камена.
Картина поражает смелостью поэтической фантазии. Между тем нельзя сказать, что представленные Заболоцким — в прямой и обнаженной форме — связи природы с культурой были его абсолютным нововведением. Еще Хлебников описывал «Зверинец» с помощью персонажей человеческой комедии и истории: «Толстый блестящий морж машет, как усталая красавица, скользкой черной веерообразной ногой и после падает в воду, а когда он вскатывается снова на помост, на его жирном могучем теле показывается усатая, щетинистая, с гладким лбом голова Ницше». Сравнения и метафоры Хлебникова воспринимались как парадоксы ума и воображения. Привычным для европейской поэзии был противоположный способ — описание культуры с помощью образов природы, который опирался на принятое еще с античности положение эстетики: искусство — воспроизведение природы. Когда Заболоцкий слышит в музыке Бетховена «дубраву труб» и «озеро мелодий», он в русле европейской традиции. Выходит он за ее пределы, когда показывает обратные связи — природы с культурой. А это значит, что принятая начиная с античности человеческая точка зрения «а природу («человек есть мера всех вещей») перестает быть единственной, она дополнена взглядом природы на человека.
Эта вторая точка зрения присутствует в неевропейских поэтических системах. Она заметна в древней китайской поэзии, в стихах Ли Бо, например. Связи природы и человека здесь взаимные: «Плывут облака Отдыхать после знойного дня. Стремительных птиц Улетела последняя стая. Гляжу я на горы, И горы глядят на меня. И долго глядим мы, Друг другу не надоедая».
Если в европейской поэзии олицетворенная природа смотрит, то она смотрит как человек или другое живое существо, до не на человека. «Ночь хмурая, как зверь стоокий, глядит из каждого куста», — так Тютчев перевел выражение Гете. Лермонтов в «Мцыри» усиливает, но не меняет этот образ: «И миллионом черных глаз Смотрела ночи темнота Сквозь ветви каждого куста». Точно передает метафору Гете Н. Заболоцкий в своем переводе его стихотворения «Свидание и разлука»: «Уж тьма, гнездясь по буеракам, Смотрела сотней черных глаз». В оригинальной поэзии Н. Заболоцкого этот образ предстает в ином виде: «Природа вековая Из тьмы лесов смотрела на меня». Небольшое добавление меняет все. Прежде природа была только пейзажем, фоном, объектом созерцания героя. Теперь она субъект, участник пусть молчаливого — взглядами — диалога с человеком:
И я стоял у каменной глазницы,
Ловил на ней последний отблеск дня.
Огромные внимательные птицы
Смотрели с елки прямо на меня.
Вспомним знаменитое стихотворение Пушкина «Цветок». Какую бурю чувств и мыслей о человеческой жизни вызвал у поэта «цветок засохший, безуханный, забытый в книге...»! И приведем стихотворение Н. Заболоцкого с теми же образами: поэт, цветок, книга. Однако его содержанием (будет уже не драма человеческой жизни, но диалог полупонимания между человеком и природой, природой и культурой:
Все, что было в душе, все как будто опять
потерялось,
И лежал я в траве, и печалью и скукой
томим,
И прекрасное тело цветка надо мной
поднималось,
И кузнечик, как маленький сторож, стоял
перед ним.
И тогда я открыл свою книгу в большом
переплете,
Где на первой странице растения виден
чертеж.
И черна и мертва, протянулась от книги
к природе
То ли правда цветка, то ли в нем заключенная
ложь.
И цветок с удивленьем смотрел на свое
отраженье
И как будто пытался чужую премудрость
понять.
Трепетало в листах непривычное мысли
движенье,
То усилие воли, которое не передать.
И кузнечик трубу свою поднял, и природа внезапно
проснулась,
И запела печальная тварь славословье уму,
И подобье цветка в старой книге моей
шевельнулось
Так, что сердце мое шевельнулось
навстречу ему.
Поэт, как мы видим, не хуже нашего знал, что «несоответствия» миров культуры и природы «огромны», что их диалог косноязычен, что они едва понимают друг друга. Но путь взаимопонимания казался Н. Заболоцкому (и в этом мы должны согласиться с ним) единственно конструктивным во взаимоотношениях человека и природы и оправданным нравственно.
Наконец, в глубине своей верная, хотя по виду порой фантастическая мысль о взаимопонимании, взаимоотражении и даже взаимообучении природы и культуры оказалась необыкновенно продуктивной в поэтическом отношении. В ней неиссякаемый источник «скользящих» сравнений и метафор в поэзии Н. Заболоцкого — замеченных и показанных поэтом сложных, многоступенчатых, прямых и обратных связей между человеком и природой. В стихотворении «Воздушное путешествие» в систему множественных соответствий и одновременно в драматическое состязание вовлечены природа, человек с его дерзновенной мечтой и созданная его умом цивилизация:
И далеко внизу, расправив два крыла, Скользило подо мной подобье самолета. Казалось, из долин за нами гнался кто-то, Похитив свой наряд и перья у орла.
Быть может, это был неистовый Икар, Который вырвался из пропасти вселенной, Когда напев винтов с их тяжестью мгновенной Нанес по воздуху стремительный удар.
И вот он гонится над пропастью земли, Как привидение летающего грека, И славит хор винтов победу человека, И Грузия моя встречает нас вдали.
В стихотворении «Соловей» идеей непреодолимой, надличной силы сплетены в единое целое живая, льющаяся помимо воли и потрясающая все маленькое естество певца соловьиная песнь, мир человеческих страстей и трагическая преданность поэта своему дару и долгу.
А ты, соловей, пригвожденный к искусству, В свою Клеопатру влюбленный Антоний, Как мог ты довериться, бешеный, чувству, Как мог ты увлечься любовной погоней? Зачем, покидая вечерние рощи, Ты сердце мое разрываешь на части? Я болен тобою, а было бы проще Расстаться с тобою, уйти от напасти.
Подобные соответствия менее всего представляют собой случайные ассоциации в духе импрессионистической поэзии. В их основе лежит глубоко укорененная в сознании художника и философа мысль о единстве макро- и микрокосма, о многообразных и многосложных связях духовной личности с ее окружением в пространстве и во времени, о взаимоотражении мира природы и мира человеческой культуры и истории. Эти мысли отчетливо прозвучали в итоговой статье-завещании поэта «Почему я не пессимист». И они же были пафосом его философской поэзии. Приведем в качестве примера его стихотворение «Вчера, о смерти размышляя», где этот комплекс идей получил отчетливое воплощение:
Вчера, о смерти размышляя,
Ожесточилась вдруг душа моя.
Печальный день! Природа вековая
Из тьмы лесов смотрела на меня.
И нестерпимая тоска разъединенья
Пронзила сердце мне, и в этот миг
Все, все услышал я— и трав вечерних пенье,
И речь воды, и камня мертвый крик.
И я, живой, скитался над полями,
Входил без страха в лес,
И мысли мертвецов прозрачными столбами
Вокруг меня вставали до небес.
И голос Пушкина был над листвою слышен,
И птицы Хлебникова пели у воды.
И встретил камень я. Был камень неподвижен,
И проступал в нем лик Сковороды.
И все существованья, все народы
Нетленное хранили бытие,
И сам я был не детище природы,
Но мысль ее! Но зыбкий ум ее.
Если человек не только «детище природы», не ее часть, то и природа не только его храм или мастерская. Если он — всепроникающий и всеединящий природу ум, то вселенная — не иерархия мертвой и живой природы, не лестница живых существ, не царство человека с его низменной почвой и искусно выстроенным на ней зданием культуры. Поэтическая вселенная Н. Заболоцкого — республика равных, союз душ и родство тел, согласие всех усилий и устремлений. Границы между отдельными формами жизни проницаемы, их, собственно, и нет: «на границе Живого с мертвым, умного с тупым Цветут растений маленькие лица, Растет трава, похожая на дым». Сами формы духа жизни и жизни духа текучи, изменяемы, способны к взаимным превращениям: «Как все меняется! Что раньше было птицей, Теперь лежит написанной страницей; Мысль некогда была простым цветком; Поэма шествовала медленным быком». Старинный миф о метаморфозах оживает в поэзии Н. Заболоцкого как наглядное воплощение единства и неуничтожимости бытия.
Глубокое сознание единства вселенной позволило поэту переосмыслить традиционные темы поэзии, которые всегда казались «слишком человеческими»: вдохновение («Гроза»), любовь («Можжевеловый куст»), посмертное существование («Прощание с друзьями»). Но самое поразительное — Заболоцкому удалось найти новое, до него неиспользованное доказательство поэтического бессмертия. Оно оказалось самым масштабным и самым бесспорным: вечность жизни на земле.
Я не умру, мой друг. Дыханием цветов
Себя я в этом мире обнаружу.
Многовековый дуб мою живую душу
Корнями обовьет, печален и суров.
В его больших листах я дам приют уму,
Я с помощью ветвей свои взлелею мысли,
Чтоб над тобой они из тьмы лесов повисли
И ты причастен был к сознанью моему.
Над головой твоей, далекий правнук мой,
Я в небе пролечу, как медленная птица,
Я вспыхну над тобой, как бледная зарница,
Как летний дождь прольюсь, сверкая над травой...
...О, я недаром в этом мире жил!
И сладко мне стремиться из потемок,
Чтоб, взяв меня в ладонь, ты, дальний мой потомок,
Доделал то, что я не довершил.
В поэтическом завещании Н. Заболоцкого, как и во всем его творческом наследии, много счастливых встреч. Здесь вновь соединяются личность и вселенная, природа и культура, прошлое и будущее, встречаются поэт и его сегодняшний читатель. Встречаются, чтобы уже не расставаться, но составить прекрасный и нераздельный союз.
Л-ра: Север. – 1987. – № 2. – С. 106-112.
Произведения
Критика