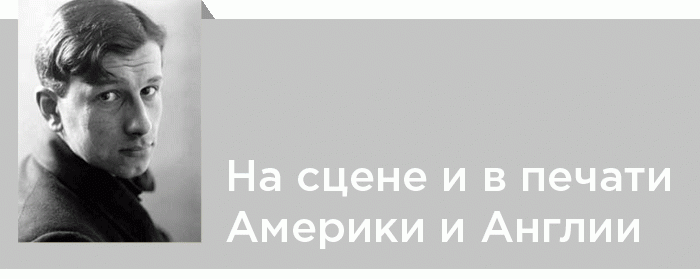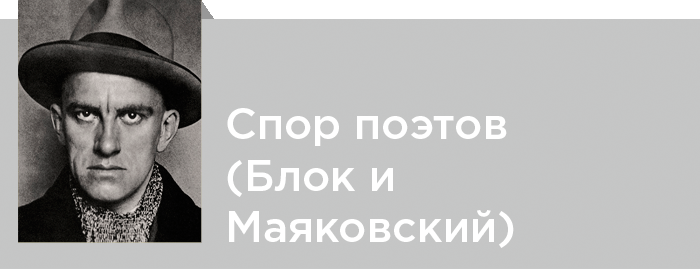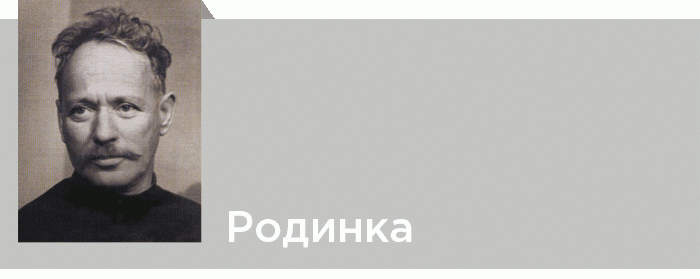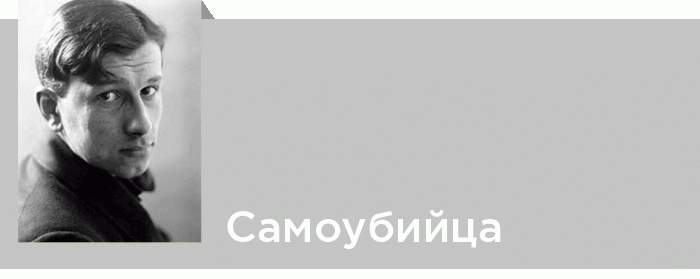Вокруг «Мандата» Н. Эрдмана
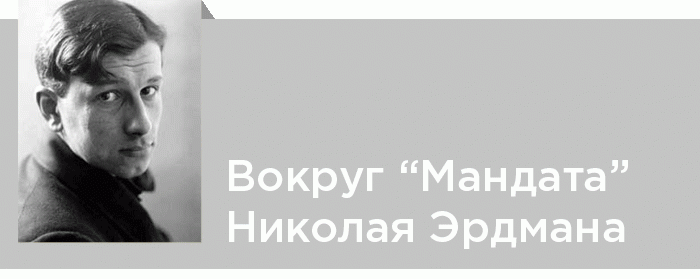
Н.Н. Киселев
Если собрать и перечитать сразу все, написанное и сказанное об Эрдмановском «Мандате», начиная со дня премьеры комедии в театре им. В. Мейерхольда и кончая нашими днями, то невольно придешь к выводу, как часто наша литературная и театральная критика в своих суждениях о тех или иных явлениях искусства бросалась из стороны в сторону, от одной крайности к другой, руководствуясь при этом не поисками объективной истины, а посторонними соображениями и привходящими обстоятельствами.
В истории русского советского театра, пожалуй, нет другого произведения (может быть, за исключением пьес Маяковского), суждения о котором были бы столь полярно противоположны и взаимоисключающи: от восторженно-патетических до уничтожающе едких и оскорбительных. И анализируя многочисленные статьи и рецензии о комедии Н. Эрдмана, трудно поверить, что речь идет об одном и том же произведении. Причем, разноголосица в оценке пьесы относится не только к тому периоду, когда само имя Мейерхольда, первого постановщика «Мандата», было предано забвению, но и к нашему времени.
После постановки пьесы Эрдмана в театре им. Вс. Мейерхольда (апрель 1925 года) о ней заговорили как о явлении принципиально новом в советской драматургии. В то время многие критики и искусствоведы оценивали «Мандат», как одно из лучших драматических произведений современности, более, того, как пьесу, прокладывающую принципиально новые пути развития советской сатирической комедии. В речи на съезде Всерабиса (1925) А.В. Луначарский, характеризуя успехи советского театра, сказал: «Вряд ли можно даже в прошлом Москвы найти такие сезоны, которые блестели бы таким множеством совершенно первоклассных постановок. Взять хотя бы такие бесспорно блестящие успехи, как «Мандат» у Мейерхольда... или несомненно крупные успехи пьесы нового революционного типа как «Эхо», «Воздушный пирог» в театре Революции»).
Для Луначарского сценический успех «Мандата» не был случайным событием: комедия Эрдмана, по его мнению, выразила закономерные тенденции развития советской драматургии середины 20-х годов. «Легонькая комедия «Учитель Бубус», — писал он, — послужила канвой... для первой высокохудожественной и бьющей в цель театральной сатиры. «Мандат» увенчал это здание).
Анатолий Васильевич явно выделяя пьесу Эрдмана из довольно бурного потока советской комедии середины 20-х годов, в котором преобладали произведения мелкие по мысли и чувству, характеризующиеся приверженностью их авторов к изображению банальных и штампованных ситуаций. Анализируя лучшие спектакли театрального сезона 1925-1926 годов, он говорил: «Я перечисляю только пьесы последнего года, но и здесь надо считаться с теми произведениями, которые вошли как прочный элемент послереволюционной драматургии. На первом плане здесь надо поставить «Мандат» Эрдмана»).
Спектакль театра им. Вс. Мейерхольда пользовался настоящим успехом у самых строгих ценителей театрального искусства. По свидетельству П. Маркова, К.С. Станиславский, посмотрев «Мандат» Н. Эрдмана, «вернулся со спектакля вполне удовлетворенным, высоко оценив решение пьесы в целом, предложенное Мейерхольдом, и в особенности акцентируя при передаче своих впечатлений блестящее режиссерское и декоративное решение последнего акта с вращающимся кругом сцены и движущимися стенами; более того, он довольно категорически заявил: «Мейерхольд добился в этом акте того, о чем я мечтаю»).
Одобрительные отзывы о пьесе и спектакле появились в «Правде», «Известиях», «Комсомольской правде», «Ленинградской правде». Заявление театроведа Н. Волкова: «Мандат» в театре им. Мейерхольда — замечательное произведение современного театрального искусства» — разделяли многие рецензенты того времени.
Менее чем через месяц после премьеры «Мандата» в театре Мейерхольда (11 мая 1925 года) на театральной секции Государственной Академии Художественных Наук (ГАХН) состоялось обсуждение пьесы и спектакля. В этой дискуссии приняли, участие П. Марков, Н. Волков, В. Сахновский, Вс. Мейерхольд. Все выступившие очень высоко оценили и пьесу Эрдмана и спектакль Мейерхольда. Например, П. Марков, подробнейшим образом проанализировав комедию, сделал вывод, что «Мандат» принципиально новое явление в советской драматургии: «Эта пьеса первая и эта постановка единственная, о которой можно говорить, как о нашей, как той, которая создана эпохой»). По мнению П. Маркова, «Мандат» «зачеркивает все те водевили, которые полезли на нашу сцену, эта пьеса запрещает слезоточивый, сентиментальный подход к теме революции, эта пьеса предписывает, чтобы анекдоты снова не наводнили наши театры»).
Сейчас, спустя четыре десятилетия после премьеры «Мандата», нетрудно заметить, что иногда в выступлениях критиков и деятелей театра того времени имела место переоценка пьесы Эрдмана. И это не удивительно, если вспомнить, на каком фоне она появилась. Свежесть мысли, оригинальность сюжета, отказ от банальных, избитых приемов, блестящее остроумие автора, великолепное режиссерское мастерство Мейерхольда, превосходное исполнение главной роли Гариным — все это вместе взятое обусловило некоторый перехлест в оценке пьесы. Так, излишне восторженный тон сквозит в заявлении П. Маркова о том, будто «Мандат» «для нашей современности такое же историческое явление, такое же начало нового театра, такая же правда жизни, каким для другого поколения было представление «Чайки».
Некоторая односторонность в оценке пьесы и спектакля объяснялась также условиями литературной и театральной борьбы середины 20-х годов. Отзвуки этой полемики отчетливо чувствуются, например, в выступлениях Мейерхольда, постановщика «Мандата», человека страстно увлекающегося, нередко впадавшего в крайности. В речи на обсуждении «Мандата» в ГАХН он, противопоставляя пьесу Эрдмана комедии Ромашова «Воздушный пирог», заявил: «Мы должны раз навсегда сказать, что с тех пор, как произошел спектакль Эрдмана, Ромашов должен сложить свои чемоданы».
Однако наиболее дальновидные и объективные критики 20-х годов, признавая неоспоримые и принципиально важные достоинства «Мандата», не закрывали глаза и на недостатки комедии. И для А. Луначарского, и для Н. Волкова, и для В. Сахновского, и для того же П. Маркова пьеса Эрдмана не была безупречной.
В предисловии к сборнику «О театре» А. Луначарский писал: «Над всеми реалистическими пьесами прошлого сезона возвышается «Мандат» Эрдмана в исполнении Мейерхольда. Скажем сразу, что «Мандат» Эрдмана по замыслу уступает «Воздушному пирогу» Ромашова. Маски взяты Эрдманом нарочито мелкие. Это человеческая пыль... Эрдман нигде не создал в пьесе крупного врага, чтобы направить в него свою разящую стрелу... Его стремление рассмешить положениями удается, но в плоскости весьма грубоватой шутки... В фарсе Эрдмана имеется немало натянутых положений, которые смешны именно своим незатейливым и, пожалуй, иной раз даже несколько шокирующим юмором...».
Серьезные недостатки «Мандата» отмечал и Н. Волков: «Сильный в тексте, в слове, в отдельных положениях и в теме, Эрдман значительно слабее в умении рассчитывать действие, в умении блюсти пропорцию и меру... Его пьеса явно рассыпается на куски и кусочки, на сцены и эпизоды... Общего не получается, связующая нить не держит всего словесного груза».
Но, видя недостатки «Мандата», передовая критика 20-х годов подчеркивала непреходящее значение этого произведения, его этапный характер. «В комедии, — писал П. Маркой, — много недостатков, она кажется беспорядочной и растянутой, она перегружена богатством остроумных определений и афоризмов. Но Эрдман указывает пути, по которым может и должна пойти современная сатирическая комедия». Эту же мысль отстаивал и С. Дрейден: «Социальное значение «Мандата»... огромно. Как бы ни был... спектакль недоработан, но стихия мещанского закоулка выявлена здесь ярче, чем где бы то ни было за время революции».
Процесс становления жанра советской сатирической комедии был чрезвычайно сложным и противоречивым. В первые годы после революции в изобилии появлялись пьесы, для которых была характерна натуралистическая констатация бытовых фактов, объективно-бесстрастный показ жизненного материала, бесцельность смеха. Большая часть таких произведений строилась на традиционных комических положениях, от современности в них были лишь внешние атрибуты советского быта. Эрдман в своей комедии решительно отказался от натуралистического воспроизведения единичных фактов действительности. Смело используя различные приемы заострения и гиперболизации действия, он добился глубокого и яркого обобщения отрицательных явлений. «Мандат» зло и в то же время остроумно разоблачал героев мещанства, торгующих под новой вывеской «всем, что есть дорогого на свете». Именно за это и ценил пьесу А. Луначарский. В «поистине победоносном» «Мандате» ему импонировало стремление драматурга проникнуть в сущность жизненных процессов, глубоко вскрыть язвы общественной жизни. «Самое лучшее... в «Мандате» — это необычайная правдивость некоторых фигур, чрезвычайная их типичность, несомненность того, что построены они на правильном и широком наблюдении жизни. Гулячкин, его мать, прислуга стали незабываемыми типами. Они выдержаны, в сущности говоря, в строго реалистических тонах».
Раскрывая новаторский характер «Мандата», его органическую связь с насущными проблемами современности, критики и искусствоведы 20-х годов видели достоинство комедии Эрдмана также в том, что в ней наследуются и творчески развиваются лучшие традиции русской классической драматургии. Весьма доказательно эту мысль обосновал Н. Волков в выступлении на обсуждении пьесы в ГАХН. Отметив, что основной прием Гоголя-драматурга есть «воображение сюжета как некоторого невероятного происшествия», что главная тема его театра — это тема «мертвых душ», что суть гоголевской комедийной традиции заключается «в осмеянии ненастоящего человека», Н. Волков продолжал: «Как и Гоголь, Эрдман пишет комедию не о человеке, а о мнимости, о том, не что настоящее, а что не настоящее. О лже-дмитриях, о лже-самозванцах, как называет Гулячкина пострадавший Иван Иванович».
Мысль о гоголевском начале «Мандата» представляется весьма интересной и плодотворной. Действительно, герои комедии — это величины мнимые, выдуманные, это люди, у которых «лицо вывернуто наизнанку», «старые мозги которых не выдерживают нового режима». Председатель домового комитета с помощью подложного мандата выдает себя за коммуниста и ради идеи «идёт в приданое», глупую кухарку принимают за наследницу российского престола и оказывают ей царские почести. И когда в финале пьесы обнаруживается истина, один из «ненастоящих жителей страны» Олимп Сметанич внезапно прозревает: «Все люди не настоящие. Она не настоящая. Он не настоящий. Может быть, и мы не настоящие?»
Связь «Мандата» с классической традицией была несомненна и для Луначарского. В интервью корреспонденту «Красной газеты» о предстоящем театральном сезоне 1925/26 года он говорил: «Мой лозунг «Назад к Островскому» в свое время был превратно истолкован, теперь он великолепно оправдывается. Это даже видно по «Мандату», который, по моему мнению, является «Бальзаминовым» наших дней».
Об этом же со свойственной ему категоричностью заявлял и Вс. Мейерхольд: «Я считаю, что основная линия русской драматургии: Н. Гоголь, Сухово-Кобылин — найдет свое блестящее продолжение в творчестве Николая Эрдмана, который стоит на прочном и верном пути в деле создания советской комедии».
П. Марков, также отмечая связь комедии Эрдмана с традициями Гоголя и Сухово-Кобылина, видел эту связь «не столько в приемах», сколько «в самом зерне творчества».
Сразу же после премьеры комедии Эрдмана появились и резко отрицательные отзывы. Неприятие «Мандата» шло по двум линиям: одни отрицали пьесу Эрдмана потому, что не увидели в ней ничего, что отличало бы ее от заурядной, пошловатой обывательской комедии, другие — потому, что вообще считали, что путь сатирической комедии — это не путь советской драматургии, и что, встав на этот путь, Эрдман объективно скатился к клевете на советскую действительность и советские порядки. Так, некто Б. Моск. утверждал: «С одной стороны, литературный анекдот, с другой — обычные приемы водевиля (переодевание, неузнавание, человек в сундуке и т. п.) снижают эту вещь до степени легкой увеселительной комедии водевильного жанра. Очевидно, что автор просто не справился со своим материалом и тот овладел им».
Еще определеннее высказался Б. Арватов: «Поистине печальным является то обстоятельство... что «Мандат» стал образцом революционного спектакля». Ленинградский критик Б. Мазинг категорически заявлял: «...Под понятие комедии эрдмановский «Мандат» подвести трудновато, это вернее обозрение, ряд словесных каламбуров, набор анекдотов».
«Ниспровергатели» пьесы не увидели в «Мандате» главного — глубины обобщения отрицательных явлений действительности, яркой типичности его героев. Вот почему для А. Слонимского «Мандат» всего лишь «механическая склепка двух недоделанных водевилей», а для С. Радлова «блестящая однодневка».
В середине 20-х годов, как раз в момент появления лучших сатирических комедий этого периода («Мандат» и «Воздушный пирог») начала оформляться теория, отрицающая советскую сатиру. Атаку на сатирическое искусство возглавил известный в те годы театральный критик В. Блюм. В статье «К вопросу о советской сатире» он писал: «Искусство..., которое раньше — в иной социальной обстановке, при ином соотношении классов — несло функцию... бомбы анархиста, теперь должно отказаться от сатирической миссии». По мнению В. Блюма, «чистая» сатира... — буржуазная сатира». «Кто из «советских сатириков» этого не понимает, впадает в контрреволюцию и клевещет на новый быт».
Взгляды Блюма на сатиру были поддержаны отдельными критиками и деятелями искусства, которые упорно доказывали, что советские сатирики, хотят они этого или не хотят, подтачивают основы диктатуры пролетариата. Понятно, что сторонники и приверженцы этой теории не могли пройти мимо столь острой и яркой сатирической комедии, как «Мандат». Тот же Блюм в другой статье, развивая свои взгляды, на сатиру, заявил, что «Гулячкиных в советской действительности нет», что «Гулячкин со своей мамашей переписан Эрдманом из Островского» (Бальзаминов и его мамаша), что главный герой «Мандата» — «персонаж для Москвы 1925 года совершенно фантастический». Здесь же он, предлагая, вместо сатирического изобличения недостатков, писать «статью в газету», идти на общее, собрание, подавать заявление в РКИ, ГКК, провозглашал: «Но остерегайтесь художественного обобщения... ибо результаты лишь порадуют сердце любого из тех, что за рубежом».
Последователи Блюма увидели в комедии Эрдмана попытку очернительства советской действительности, ее однобокое освещение. Они высказывали сожаление, что автор «Мандата» уделил слишком много внимания отбросам общества, ненужным, вредным элементам. Так, редактор журнала «Жизнь искусства» Гайк Адонц (Петербургский) писал в статье «Театр и советский быт»: «Раздаются голоса, отстаивающие прием резкой и яркой общественной сатиры, прием, так сказать, сценического бичевания... современного, не отстоявшегося еще быта. С этой точки зрения разные «Воздушные пироги» и «Мандаты» именно тот театр, который нам якобы нужен, который в наши дни наиболее приемлем. Вполне согласиться с таким мнением нельзя. Сатира «Ревизора», рисующая сплошной черной краской общественный быт своей эпохи, была вполне правильна, вполне приемлема... Но наша советская действительность — неужели она так же черна и беспросветна, как гоголевская чичиковщина и ноздревщина?»
Сколько раз затем этот сакраментальный вопрос задавался авторам сатирических произведений? Для Гайка Адонца всякое изображение косного и отрицательного не что иное, как клевета на советскую действительность. Он отрицает право писателей базироваться в своем творчестве «на отрицательных, переходных выявлениях нашего формирующегося быта».
Многих критиков 20-х годов возмущало в «Мандате» отсутствие положительных героев. На этом основании Эрдмана обвиняли в пропаганде идеологии мещанства. Например, Н. Верховский писал: «Как неглупый представитель отживающей обывательщины, и как салонный остроумец и анекдотист, он отказался от всякого намека на изображение положительных сторон современной Москвы и выбрал обличение и высмеивание». А У. Чужак заявил, что Гулячкин — это «гипертрофированный обыватель — с точки зрения... гипертрофированной обывательщины».
Некоторые критики, не сумев разобраться в существе комедии Эрдмана, предъявляли подчас к ее автору такие претензии, которые сами могли быть объектом сатирического осмеяния.
Кое-кому не понравился веселый смех Н. Эрдмана, в нем увидели приглушение сатиры, сочувственное отношение драматурга к своим героям. Такого рода обвинения в свое время раздавались по адресу многих других советских сатириков, например, Ильфа и Петрова. Авторы этих обвинений полагали, будто подлинная сатира несовместима с веселым смехом, будто юмор — это обязательно смех добродушный и всепрощающий.
Некоторые критики успех спектакля театра им. Мейерхольда объясняли лишь талантливостью постановщика, который не преодолел органические пороки комедий и вложил в нее «непредвиденный» автором смысл. Например, С. Бобров, охарактеризовав «Мандат» как «архибезобидное паясничество Эрдмана», заключал: «Из этого величественного по своей возвышенной и утомительной нелепицы киселя Мейерхольд сумел сделать потрясающую трагикомедию».
И все же нестройный хор «хулителей» «Мандата» в 20-е годы не мог заглушить авторитетные голоса тех, кто высоко оценивал комедию Эрдмана. Тем более, что в, то время как театроведы, высоко оценивавшие «Мандат», стремились доказать свою точку зрения, критики, громившие пьесу, ограничивались лишь бранью да «ругательными» заявлениями. С 1925 по 1931 год комедия победоносно прошла почти по всем сценам страны. Пожалуй, не было ни одного профессионального театра, в котором «Мандат» не нашел бы своего сценического воплощения. Пьеса ставилась в Москве, Ленинграде, Киеве, Тбилиси, Харькове, Баку, Ярославле, Барнауле, Архангельске и во многих других крупнейших городах Союза. В 1927 году «Мандат» был поставлен в Берлине, в начале 30-х годов — в Японии.
Перелом в отношении к «Мандату» произошел в 30-е годы, когда одобрительные в своем большинстве отзывы о комедии сменились резкой критикой на уничтожение. Причин этому много. Большую роль сыграло здесь и настороженное отношение к сатирическим жанрам вообще, характерное для критики этого периода, и факт запрещения следующей комедии Эрдмана «Самоубийца», воспринятой как антисоветское произведение. Закрытие театра Мейерхольда и последовавший затем арест его руководителя окончательно утвердили отрицательную оценку «Мандата». Во всяком случае, на многие годы комедия Эрдмана в работах по истории советского театра и драматургии стала рассматриваться как произведение клеветническое, выражающее обывательские идеалы. Типичным в этом плане являются рассуждения Б. Ростоцкого, писавшего в книге «Маяковский и театр»: «В постановке «Мандата» Н. Эрдмана на сцене мейерхольдовского театра (1925 год) была предпринята открыто враждебная попытка поднять мещанина на пьедестал».
Почти теми же словами, что и Б. Ростоцкий, характеризовал «Мандат» В. Фролов. «Там, где нужна была сатира, — писал он, — появлялась безобидная ирония; обыватель оказывался героем, поднятым на пьедестал. Старый мир по-настоящему не разоблачался, смех терял свою обличительную силу, и все, показанное в пьесе, производило впечатление чего-то нереального, несуществующего».
В том же духе трактовали комедию Эрдмана и авторы трехтомных «Очерков истории русского советского драматического театра». Анализируя деятельность различных театров второй половины 20-х годов, они не упустили ни одного случая, чтобы не заявить, что постановка «Мандата» была большой ошибкой, что в пьесе «со всей определенностью выступила реакционная идейка о «конце» человеческой индивидуальности в условиях советского общества». Наряду с «Зойкиной квартирой» М. Булгакова «Мандат» расценивался историками советского театра как произведение, в котором воспевалась «буржуазная мораль и буржуазный уклад под видом критики нэпманского быта и нравов».
Здесь нельзя не отметить тот факт, что критика «Мандата» иногда велась совершенно недозволенными методами. Так, авторы «Очерков истории русского советского драматического театра», заявляй, что в «Мандате» сатира на мещан была только видимостью», что «театр жалел Гулячкиных и сочувствовал им, не могущим найти места в советской республике», что объективное острие спектакля театра Мейерхольда было направлено «против новых общественных порядков» лишающих Гулячкиных мещанского благополучия, — неверно передавали сюжет пьесы. Если верить авторам «Очерков», то в «Мандате» «страдающими трагическими героями оказывались антисоветски настроенные злопыхатели — мещане, «трагически» разочаровывающиеся Гулячкины, принявшие молодую девушку Настю за дочь Николая II».
Но каждый, кто хотя бы отдаленно знаком с комедией Эрдмана, не может не знать, что Гулячкины не в состоянии были принять за великую княжну свою кухарку, тем более, что в платье императрицы они вырядили Настю сами. И никто из них по этому поводу «трагически не разочаровывался». Наоборот, это они разочаровывали господ. Именно в этой очень комичной сцене разоблачения Насти Павел Гулячкин, желая, чтобы ему зачлась его храбрость, произносит свою знаменитую реплику: «Ваше высочество... вы сукина дочка!».
Упрекать критиков и историков театра в необъективном подходе к пьесе Эрдмана, в игнорировании ее роли и места в развитии советской комедии вряд ли имело бы смысл, если бы все эти критические наветы отошли в прошлое, если бы они не повторялись (правда, в другой, несколько смягченной форме) и в наши дни. Казалось бы, после решения XX съезда КПСС и гражданской реабилитации Мейерхольда настало время решительно пересмотреть предвзятое отношение к некоторым явлениям советского искусства 20 и 30-х годов и восстановить историческую истину. Но, к сожалению, инерция прежних представлений и взглядов продолжает довлеть над сознанием некоторых критиков и историков театра до сих пор. Причем, сейчас, как это ни странно, кое-кто обвиняет комедию Эрдмана с позиций прямо противоположных тем, которые были характерны для недавнего прошлого. Такого рода удивительные повороты облегчаются во многом тем, что «Мандат» никогда не был издан, хотя какая-то макулатура ни печаталась в 20-е годы, в том числе и под флагом комедии. Достаточно вспомнить «Совбарышную Нину» А. Войновой, «Товарища Цацкина и К°» А. Поповского. «Победоносный» же «Мандат» до сих пор неизвестен даже специалистам. Думается, что если бы текст «Мандата» был доступен читателям, некоторые театроведы поостереглись бы делать скоропалительные и бездоказательные заявления.
К примеру, Б. Ростоцкий, совсем недавно утверждавший, что «Мандат» провозглашал «вечность и незыблемость» Гулячкиных, теперь обвиняет Эрдмана в том, что тема «живучести мещанства, приспособляемости мещанства, тема того мещанского быта, который, как говорил Маяковский, «страшнее Врангеля», по сути дела, не звучала и в самой пьесе».
Не сумели раскрыть подлинное место и значение «Мандата» в сложном и противоречивом процессе становления жанра советской сатирической комедии и авторы недавно появившихся «Очерков истории русской советской драматургии», в целом добросовестного и серьезного труда. Объявив, что Эрдман в своей комедии достиг «значительной силы сатирического удара», что достоинство пьесы «в глубоком разоблачении обывательского быта», авторы «Очерков» вдруг делают поворот на 180°, утверждая, что «в образной структуре пьесы обывательщина вырастает до грандиозного и всеобъемлющего символа, выступает как сословие вечное и неистребимое».
По мнению авторов «Очерков», когда «Гулячкин утверждает, что он «эту революцию насквозь видит», когда он говорит: «Значит, я при каждом режиме бессмертный человек», или кричит, размахивая «Мандатом»: «Держите меня, или я всю Россию с этой бумажкой переарестую!» — то здесь уже нет саморазоблачения, а есть известная патетика воинствующей обывательщины, переходящей в наступление».
Это высказывание внутренне противоречиво. В самом деле, разве в первые годы нэпа обывательщина не пыталась переходить в наступление и разве процитированные реплики Гулячкина не разоблачают тщетность его стремлений утвердить себя в новой жизни с помощью подложного «Мандата»? И как понимать тогда заявление тех же авторов, что «Гулячкин сам себе написал «Мандат», но он же больше всех его и боялся».
Подход к комедии Эрдмана как к произведению, в котором «был взят лишь узкий участок современной действительности», привел авторов «Очерков» к категорическому выводу о том, что «не «Мандат» Эрдмана, имевший громкую, но недолгую славу, а комедия Б.С. Ромашова «Воздушный пирог» (1924) оказалась у истоков комедии социалистического реализма... Не случайно Луначарский увидел в этой пьесе один из первых примеров действительного обновления традиций Островского».
Такое противопоставление «Мандата» — «Воздушному пирогу» неправомерно, потому что, хотя названные произведения и выражают различные стилевые течения в советской комедии 20-х годов, это — явления принципиально одного порядка. И ссылка на Луначарского в данном случае бьет мимо цели, поскольку последний и в «Мандате» видел творческое продолжение традиций Островского.
После того, как в 1956 году Э. Гарин и X. Локшина возобновили в Театре-студии киноактера мейерхольдовскую постановку «Мандата», в театральной печати появился ряд рецензий, свидетельствующих о том, что их авторы по-прежнему воспринимают пьесу как произведение идейно-порочное. Например, В. Орлов писал на страницах «Советской культуры»: «Сатирический прицел автора иногда столь небрежен, что зритель с беспокойством следит за полетом его стрелы, пригибает мысленно голову — а не вмажет ли стрелок по своим?».
Затем, увидев в пьесе Эрдмана «развязное, панибратское отношение к таким понятиям, как «партия», «идейность», «коммунизм», Вл. Орлов заключает, что в «известных отношениях спектакль поучителен. Он наглядно показывает всем желающим, что легендой и мифом является версия о «золотом веке» советского театра, существовавшем лишь в двадцатые годы, и затем, мол, безвозвратно утраченном».
Так, путем развенчания «Мандата ставятся под сомнение вообще все достижения драматургии 20-х годов. Причем остается неизвестным, чем навлек гнев и немилость критика сложный, противоречивый, но все же плодотворный период в развитии нашего театра, период напряженных творческих поисков и становления метода социалистического реализма в советском искусстве.
Было бы неверным представлять дело так, будто в современном литературоведении нет иных, кроме как отрицательных, оценок «Мандата». В ряде новейших работ по истории советской драматургии налицо серьезная попытка отмести наслоения прошлых лет и взглянуть на пьесу Эрдмана по-новому, с позиций общей картины развития жанра комедии. Интересный, глубокий и доказательный анализ «Мандата» содержится в книге чешского ученого Мирослава Микулашека «Пути развития советской комедии 1924-1935 годов» (Прага, 1962). Б. Милявский в монографии о драматургии Маяковского пишет о том, что непредвзятое прочтение комедии Эрдмана приводит к выводу, что «произведение это не потрафляло вкусам обывателя, не обслуживало запросы мещан, а напротив, зло высмеивало обывательщину, издевалось над затхлыми нравами мещанства». Высокую оценку «Мандату», как своеобразнейшему явлению советского сатирического театра 20-х годов, дал А. Богуславский. К. Рудницкий в статье «Драма, время, историки», призывая к объективному исследованию истории драматургии, относит комедию Эрдмана к числу тех произведений, без учета которых нельзя правильно раскрыть основные закономерности развития советского театрального искусства.
Однако такого рода попытки объективного изучения «Мандата» и сейчас еще встречают противодействие. Так, С. Андреева в рецензии на книгу Микулашека, критикуя чешского ученого за переоценку комедии Эрдмана, пишет: «Возможно в критике «Мандата» и была допущена нетерпимая резкость, но совсем не следует в порядке восстановления справедливости преувеличивать идейно-художественное значение этой в общем-то малозначительной комедии, не выдержавшей проверки временем».
Спрашивается, о какой «проверке временем» идет речь? Может быть, С. Андреевой неизвестно, что на протяжении четверти века комедия Эрдмана была фактически запрещена? И разве критик не знает, что, например, сатирические романы Ильфа и Петрова в свое время тоже рассматривались как не выдержавшие испытание временем? И потом, как все-таки объяснит автор рецензии тот факт, что такие, не склонные к скороспелым, непродуманным суждениям деятели литературы и искусства, как А. Луначарский, К. Станиславский, П. Марков, А. Гвоздев, В. Сахновский, оценивали «малозначительную», с ее точки зрения, комедию, как явление принципиально новое в нашем искусстве, как произведение, оказавшее серьезное влияние на дальнейшее развитие советской сатиры, в том числе и на драматургию М. Маяковского.
В этой связи нельзя не сказать о том, что «Мандат», как и «Воздушный пирог» Б. Ромашова, вызвал во второй половине 20-х годов целый поток подражаний. Что это случайный факт? Едва ли заурядное, малозначительное произведение могло вызвать такое количество подражаний. Посредственности, как известно, подражать нельзя, ее в лучшем случае можно пародировать.
Еще в 30-е годы, когда «Мандат» стал рассматриваться как произведение, выражающее обывательскую психологию, родилось противопоставление комедии Эрдмана пьесам Маяковского. Постепенно выработался стереотип, в соответствии с которым обычно рассуждали так: если автор «Клопа» сумел разоблачить и пригвоздить к позорному столбу мещанство (хотя при жизни поэта в адрес его комедии раздавались обвинения, близкие к тем, что приходилось слышать и автору «Мандата»), то Эрдман защищал обывательскую среду, сочувствовал ей, жалел ее, и что якобы Маяковский, работая над пьесой «Клоп», отталкивался от «Мандата», полемизировал с ним.
А между тем действительные факты развития советского театра со всей очевидной неоспоримостью свидетельствуют о том, что противопоставлять «Мандат» комедиям Маяковского нет никаких оснований. Более того, автор «Клопа» сам неоднократно на различных диспутах и обсуждениях отзывался о пьесе Эрдмана с большим одобрением, причисляя «Мандат» к его, Маяковского, линии в драматургии. По существу, «Мандат» — предшественник «Клопа». Маяковский в своей пьесе продолжал и развивал на новом этапе традиции эрдмановской комедии.
Об этом интересно и убедительно рассказали А. Февральский и Б. Милявский в своих работах о драматургии Маяковского».
В этом плане интересно свидетельство Мейерхольда, близко знавшего и Маяковского и Эрдмана. В 1936 году он собирался вновь поставить «Клопа». На репетиции сцены «Свадьба Присыпкина» 7 марта 1936 года Мейерхольд сказал актерам: «Когда мы вслушиваемся, что происходит в общежитии и на свадьбе, главным образом на свадьбе, мы видим, что лавры Н. Эрдмана не давали Маяковскому спать он был под страшным впечатлением «Мандата». Здесь надо вспомнить речь Гулячкина в последнем акте и дать побольше банальных оборотов речи».
Однако и эти, казалось бы, неопровержимые факты оспариваются некоторыми современными критиками и театроведами, которые всякую попытку показать творческую близость двух писателей расценивают как своего рода поклеп на Маяковского, недооценку его драматургии.
Так, стоило И. Соловьевой в рецензии на спектакль Театра киноактера высказать мысль о том, что хотя пьеса Эрдмана и уступает «по значимости социальных обобщений» комедиям Маяковского, все же «сопоставление здесь уместнее, чем противопоставление», как немедленно последовало опровержение. Б. Ростоцкий, возражая И. Соловьевой, провозгласил: «...Комедию Эрдмана приходится все же не столько сопоставлять с феерической комедией Маяковского («Клоп»), политически остро изобличающей мещанство, сколько противопоставлять ей».
Мнение Ростоцкого разделяет и Вл. Орлов. Пьеса Эрдмана, — пишет он, — не принадлежит к высотам советской драматургии, к ее бессмертным образцам, и по своим идейным достоинствам не может быть поставлена в ряд с такими произведениями, как «Клоп» и «Баня» В. Маяковского».
Возобновление мейерхольдовского спектакля в Театре киноактера, естественно, заставило критиков заговорить о том, насколько актуальным и созвучным современности оказался некогда нашумевший «Мандат». При этом отчетливо выявились две противоположные точки зрения. Одни критики причину неуспеха спектакля, поставленного Э. Гариным и X. Локшиной, увидели в том, что это было копирование, а не творческое возобновление, предполагающее осмысление произведения и его сценическое решение с позиций современности. Другие — исходили в оценке спектакля из того, что сама пьеса Эрдмана утратила свое значение, что она вообще не способна прозвучать современно. Так, К. Рудницкий, оспаривая утверждение тех, кто видит в «Мандате» идейно-порочное произведение, в то же время высказал мысль о том, что сатира Эрдмана, бывшая «злобой дня ровно тридцать лет назад, сатира «репризная», не обладающая энергией глубокого обобщения, попросту устарела». Свое мнение критик, обосновывает тем, что «мечты о реставрации царского строя» вряд ли сохранились «даже в головах самых дряхлых и глупых ветеранов эмиграции 1917 года».
К. Рудницкий, несомненно, прав, утверждая, что ряды тех, кто и сегодня еще лелеет мечту о возврате, нашей страны к капиталистическому строю, катастрофически поредели, если не исчезли совсем. Но можно ли содержание «Мандата», смысл всех сатирических персонажей комедии свести лишь к борьбе против идей реставрации царского строя? Конечно же, нет. Потому что сюжетная линия, связанная с разоблачением надежд господ Сметаничей и других бывших хозяев России на возврат к прошлому, вообще не является главной в пьесе. Идейный смысл комедии значительно шире и глубже: она, прежде всего, бьет по мещанству, по собственнической психологии и обывательским представлениям о жизни. Поэтому «Мандат» и в наши дни может прозвучать современно.
Безусловно, в комедии Эрдмана что-то безнадежно устарело, навсегда ушло в прошлое, некоторые персонажи «Мандата» сейчас воспринимаются как анахронизм, многие остроты, вызывавшие в свое время гомерический хохот зрителей, ныне поблекли, а некоторые из них звучат грубо и двусмысленно. И в этом нет ничего удивительного. Комедия — наиболее мобильный драматический жанр, она всегда остро современна, тесно связана с какими-то явлениями сегодняшней действительности, и с исчезновением этих явлений комедия неизбежно что-то теряет в своей жизненной достоверности и актуальности.
Но в главном пьеса Эрдмана не утратила своей действенной эстетической силы, так как еще не исчезли окончательно те общественные язвы и пороки, против которых она была направлена. И если спектакль Гарина и Локшиной не прозвучал в 1956 году современно, то совсем не потому, что из нашей жизни навсегда исчезли, остатки обывательской психологии, мещанское приспособленчество, демократическая спекуляция на наших идеях и лозунгах. В том, что спектакль не стал заметным явлением в театральной жизни страны, виновата не пьеса, а отказ постановщиков от современного ее прочтения. И совершенно права И. Соловьева, когда, характеризуя просчеты спектакля Театра киноактера, писала: «... Думается, дело не в пьесе — она может жить и сегодня, ее тема, ее антимещанский посыл не представляются устаревшими... а в самой постановке, в театральной форме, в ее несовременности».
Более сорока лет прошло со дня премьеры комедии Эрдмана. Однако споры вокруг нее не прекращаются до сих пор. И уже одно это свидетельствует о том, что перед нами действительно талантливое и значительное произведение. Проникновение в сущность литературной полемики вокруг «Мандата» позволяет сделать вывод, что в конечном счете правы оказались те критики и деятели искусства, которые увидели в пьесе Эрдмана своеобразнейшее явление советского комедийного, театра. Несмотря на встречающиеся и поныне предвзятые оценки «Мандата», сейчас уже ясно, что без уяснения места и роли этого произведения в литературном процессе невозможно создание объективной картины развития советской комедии 20-х годов.
Эрдман (1902-1970) действительно является классиком советской комедии, и если это удивляет современного читателя, то только потому, что, так сказать, по не зависящим от драматурга обстоятельствам он в 30-е годы сошел с «прочного и верного пути» глубокой социально-психологической (с прямыми выходами в политику) сатиры. Эрдман пережил «неслыханную», по выражению Л. Рудневой, травлю, ссылку в Енисейск. На этом фоне Государственная премия за сценарий фильма «Смелые люди» (1950) служит жалким утешением — утраты зияют.
Л-ра: Проблемы идейности и мастерства художественной литературы. Ученые записки Томского университета. – Томск, 1969. – № 77. – С. 169-181.
Произведения
Критика