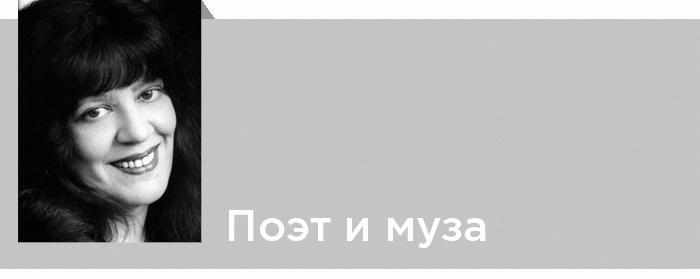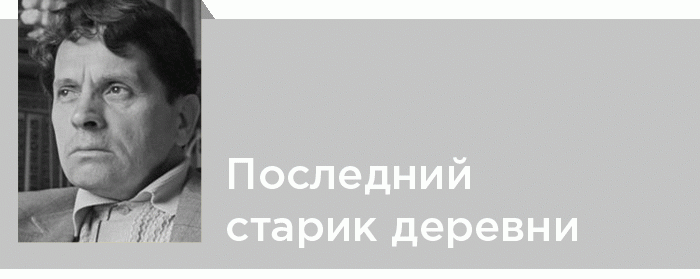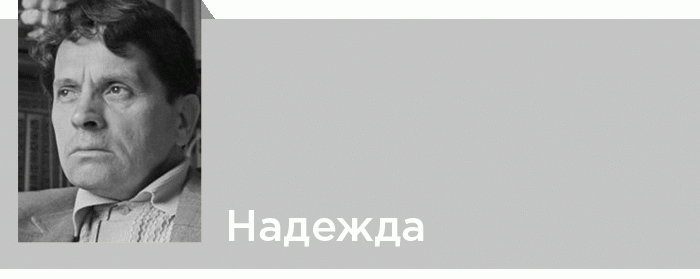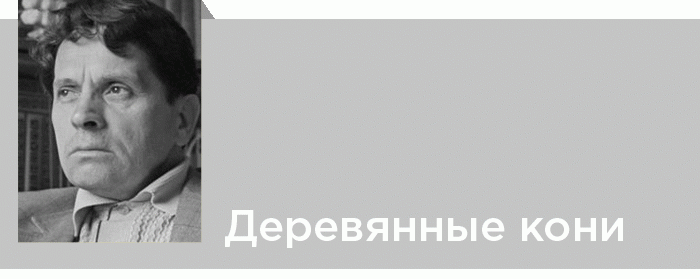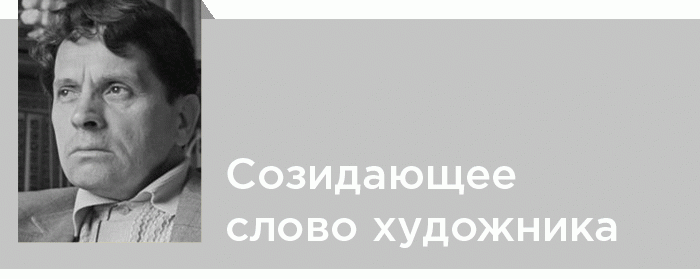Суровая доброта Федора Абрамова
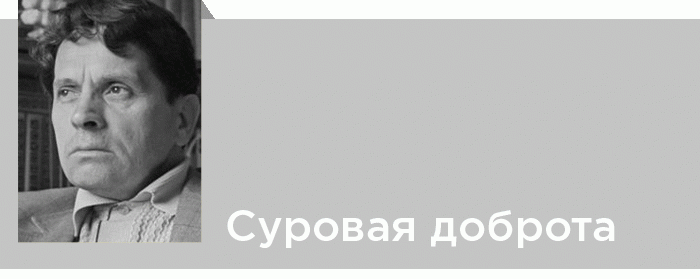
Юрий Андреев
Почему в живописи Федора Абрамова столько черной краски? Почему в его романах, повестях и рассказах столь густ темный колорит?
...Умирает мудрая Василиса Мелантьевна (рассказ «Деревянные кони»), да ведь и вся жизнь ее куда как нелегка была с того самого дня, что выдали ее замуж к диким мужикам Урваям.
...Умирает сельская пекариха Пелагея (повесть «Пелагея»), с тяжелой душой она умирает, с тягостным ощущением того, что где-то непоправимо ошиблась: и мужа недоглядела за вечной своей страстью нажиться — умер, и дочь свою, незадачливую Альку, проглядела — убежала от нее Алька...
Не клеится и у Альки (повесть «Алька») человеческая жизнь, носит ее по свету, как перекати-поле...
А «Братья и сестры»? А «Две зимы и три лета»? А «Пути-перепутья»? Стоит только выписать в виде заголовков краткое содержание их опорных глав, как потянутся скорбной чередой такие слова, как «трудности», «похоронки», «обман», «недостача семенного фонда», «голод», «болезнь», «смерть», «страшные сводки», «заваруха», «беда», «демагогия», «горькая обида» и т. д. и т. п., действительно — мрачный ряд!
И вместе с тем — почему чтение прозы Федора Абрамова не только не оставляет у читателя тягостного чувства, но, напротив, заставляет нас лучше, отчетливей видеть то светлое, что есть в жизни, побуждает нас не только к активному восприятию добра, но — к активному проведению линии добра? Что это за парадокс и в чем его секрет?
Парадокс заключается в том, что писатель тем больше видит темного, чем лучше знает светлое! Ведь человек со средненьким, посредственным представлением о счастье, о человеческой красоте, о возможностях человеческого духа, о богатстве народной жизни, увидит темного гораздо меньше, чем тот, кто истинно знает, что народ может и чего человек достоин: у него, у средненького, и шкала ценностей средненькая...
Разгадка секрета жизнестойкого звучания и оптимизма книг Федора Абрамова — в богатстве авторских воззрений на действительность, или — выражаясь термином теоретиков искусства — в высоте его эстетического идеала. А если говорить языком простым и общепринятым, то все дело в том, что Абрамов до сердечной боли любит свой народ, а любовь, как всем и вестно, открывает человеку любящему достоинства того, кого любишь, и позволяет воочию увидеть в нем все замечательное, доброе, интересное, яркое. Любовь, как тоже всем известно, позволяет любящем сердцу прозорливо чувствовать все то, что грозит, что опасно или что ненавистно тому, кого оно любит.
Федор Абрамов суров потому, что видит, в каких нечеловечески трудных условиях жили и трудились герои.
Он мрачен оттого, что он добр.
* * *
История литературы учит на многочисленных примерах, что общественное значение современной книги находится в прямой зависимости от того, будет ли она актуальной, волнующей не только для своего времени, но и для последующих времен. Звучит парадоксально, но факт остается фактом: если идейно-художестванное содержание произведения оказывает значимым и для других поколений, то такое произведение является по-настоящему значительным и для своего времени. Это происходит потому, что автору подобного произведения удалось, следовательно, увидеть и отразить столь существенные особенности интересов и отношений, которые лежат на магистрали развития человека и общества и, значит, особенно важные для человечества...
В мир властно вступила научно-техническая революция. Повсеместно — у нас тоже — стремительно тает процент сельского населения в пользу городской и само сельское хозяйство тоже все более индустриализируется. Человек заставил себе служить внутриатомные силы, он сам летает во Вселенную и космические аппараты усылает в разведку на многие годы к самым далеким планетам. Есть достоверные прогнозы социологов, что нынешнее новое поколение за период одной-единственной своей жизни увидит больше материальных изменений, чем десятки предшествующих поколений, вместе взятых.
Материальных... А как же с духовными ценностями? Что с ними? Их-то куда? И — по самому крупному счету — разве не для роста именно и прежде всего духовных ценностей и совершается научно-техническая революция, которая есть лишь могущественное средство для наступления того царства свободы, которое прорицали основоположники марксизма, но не самоцель и ни в коем случае не конечный смысл развития человечества?
Народ, родина, труд, коллективизм, правда, совесть — вот какие категории волнуют писателя в «главной» из его книг —в трилогии «Пряслины». Все это такие становые проблемы, которые с течением времени могут менять свое конкретно-историческое проявление, но из жизни нашего общества не уйдут.
И вот в книге, появившейся в эпоху бурного расцвета НТР, читаем, например, о том, как Настасья, возвращаясь с пахоты, сама измученная, видит, что Анна Пряслина пашет на лошади в темноте, чтоб план выполнить, а дома-то Анну дети ждут, мал мала меньше:
«— Заговорилась я с тобой, Настенька. А мне еще добрый час валандаться. Вишь колышек-то, — указала она на поле, — до этого колышка. Ну да ничего — хоть душу отвела. А Лизку встретишь, вороти домой.
— Ма-а-а-манька... — снова послышалось Насте.
Она приподнялась на носки. Серая муть, ничего не видно. Только возле изгороди как будто что-то шевелится на дороге.
Настя растерянно оглянулась назад. Анна уже шагала за плугом.
Постой-ко, Анна. — Она подбежала к Анне, легонько оттолкнула ее от плуга. — Иди встречай сама Лизку, а я здесь управлюсь.
Нет, нет... — замахала Анна обеими руками. — Что ты... Я сама... Ты ведь тоже не железная… устала...
А и нисколечки не устала! — с задором, сама не узнавая себя, сказала Настя. — Я, если хочешь знать, и не пахала сегодня.
Все равно, это не дело. У нас соревнованъе с вашей бригадой... Бригадир узнает, будет делов...
И ничего не будет, не выдумывай! А если бы мне домой надо, неужто б ты не помогла?
Перед этим доводом Анна не устояла.
Ну, коли так... — дрогнувшим голосом оказала она, — спасибо, Настенька. Побегу скорей, может, еще баню истоплю!
Анна уже была далеко-далеко, а Настя все глядела и глядела ей вслед, и радостная, счастливая улыбка не сходила с ее губ...»
О чем здесь речь: о чувстве долга? О своей ответственности? О человеческой солидарности? О счастье дарить радость? Да, об этом — о том самом, ради чего в конечном счете и совершается научно-техническая революция. Это — к вопросу об актуальности и перспективах долгой жизни книг Федора Абрамова о деревне прежних лет...
Читаем, как Лиза Пряслина выслушала сообщение районного уполномоченного Ганичева о засухе в стране и об удвоении в связи с этим плана хлебосдачи в их деревне. И вот опять голые трудодни, опять ничего, как в прошлые годы. Знает ли об этом Михаил? Так ведь раньше у них была Звездоня, а как теперь они сведут концы с концами?
Слезы закипали у нее на глазах. Она шла передней улицей и ничего не видела вокруг себя.
И когда прохиндей и ловчила Егорша, который, посватав ее, обещал привести вместо павшей Звездони в семью новую корову, стал бросать на стол деньги, вырученные за проданный мотоцикл, а бабы за окном запели свадебную песню, «песня подтолкнула Лизку... Она сказала, опустив голову, Я согласна».
И когда привели на двор корову и ребятишки дружно застучали ложками по алюминиевой миске, хлебая молоко, Михаил, старший брат Лизы, «не мог заставить себя притронуться к молоку. Не лезло ему молоко в горло, потому что из головы не выходила мысль, которая засела туда еще давеча, в ту минуту, когда они встречали новую корову: не за молоко ли он продает свою сестру?..
Лизка первой выбежала из заулка, обхватила корову руками за шею и навзрыд заплакала...
Отчего она заплакала? От счастья, от радости? От того, что она семью спасла-выручила? А может, наоборот? Может, как раз в ту самую минуту, когда она увидела комолую красно-пеструю коровенку, которую вели на вязке Степан Андриянович и мать, может, именно в ту самую минуту она поняла, какую беду с собой сотворила?..»
О чем здесь говорится: о самоотверженности? Преданности? О душе, верной до конца?.. Да, о том самом, без чего жизнь отдельного человека пуста, а всего человечества — жестока и бессмысленна. Это — так же к вопросу о значимости проблематики прозы Федора Абрамова...
А вот читаем о том, как Михаил Пряслин собирает подписи односельчан под письмом о несправедливом аресте председателя колхоза Ивана Лукашина: ведь председатель выдал по десять килограммов хлеба плотникам для того, чтобы они достроили крайне необходимый колхозу долгожданный хлев, он поступил как рачительный хозяин. Не дают они подписи: боятся! «Открывали, извивались ужом. И — не подписывались.
Лизка подписала, хотя и угрожал ей Егорша уходом и — ушел...
Ну зачем ты, сестра, подписалась? — говорит ей Михаил. — Зачем? Да ты понимаешь, что ты наделала? Жизнь свою загубила...
Лиза долго не отвечала, потом, вздохнув, сказала:
Пущай. Лучше уж совсем на свете не жить, чем без совести...»
Можно полагать, что мотив совести, совестливости, жизни по правде, один из главных в творчестве Федора Абрамова, будет звучать все громче и уверенней, ибо человечность предполагает прежде всего соучастие человека с другими людьми.
И надо сказать, что на оселке именно этой ценности сразу решается для Михаила вопрос его крайне запутанных отношений с влюбленной в него Раисой — Раечкой Клевакиной, когда, не задумываясь, подписала она его бумагу в защиту Лукашина. «Долго, годами канителился он с Райкой. Долго не прошибала дна его сердце. Даже тогда, когда сватался к ней, ни секунды не горевал, что ничего не вышло. А вот сейчас за какие-то пять минут все решилось.
Надолго. Навсегда».
Симптоматично, что трудная книга заканчивается тем, как Михаил приходит за подписью к битому-перебитому жизнью Илье Нетесову, оставшемуся с кучей детишек — без жены, без любимой старшей дочки.
«Михаил встал:
Ладно, обживайся помаленьку, а мне пора... — И вдруг, пораженный внезапно наступившей в избе тишиной, обернулся к Илье.
Илья подписывал письмо.
Четко, со старательностью школьника, выводил свою фамилию. Буква к букве и без всяких закорючек, так что самый малограмотный человек прочитает.
Потом подумал-подумал и добавил:
Член ВКП(б) с 1941 года».
Трилогия завершается авторскими словами самого высокого значения: выйдя от Нетесова, Михаил из-под ладони глядит вдаль. «...И перед глазами его вставала родная страна. Громадная, вся в зеленой опуши молодых озимей.
И это он все эти тяжкие годы вместе с пекашинскими бабами поднимал ее из развалин, отстраивая, поил и кормил города. И новое горделивое чувство хозяина росло и крепло в нем».
Можно уверенно утверждать, что те качества, которые писатель видит опорными в системе человеческих ценностей, с ходом истории, с развитием научно-технической революции будут приобретать все большую социальную цену, ибо вне их и помимо них не может эволюционировать подлинный прогресс в направлении царства свободного, действительно человечного человека.
Таким образом, прогноз на долгую жизнь лучших вещей Федора Абрамова, опирающийся на внутреннюю значимость шкалы ценностей, принятой писателем, опирается и на те особенности движения человечества, о которых мечтали светлые умы.
Этот прогноз на будущее опирается также и на прошлое, на историю подвига нашего народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, на анализ истоков нашей победы.
«Пряслины» — повествование о подвиге всего нашего народа, хотя речь идет о жителях небольшой северной деревушки Пекашино. Читая книги, подобные этой, воочию видишь, ощущаешь, что это был действительно небывалый подвиг, совершенный не только фронтом, но и тылом! Приходилось в печати встречать суждения о том, что слишком уж большие трудности рисует Абрамов, зачем-де это нужно! Нет, писатель правдиво изображает то нечеловеческое напряжение, те бесконечные лишения, те невосполнимые потери, которые пришлось испытать людям, чтобы победить в минувшей войне. Это был действительно героический подвиг, и в «Пряслиных» он изображен именно как подвиг народа: подвиг сознательности, самоотверженности и выносливости. В этом — одно из важных достоинств книги.
Великое трудолюбие пекашинцев, принявших на свои плечи все тяготы в годы войны и в трудные годы, последовавшие после нее, в значительной степени было порождено чувством их ответственности не только за свои семьи, не только за свой колхоз, но — в конечном счете — за общее дело. Та высокая нравственность, которая побуждает человека болеть за общее, коллективное, народное, как за свое, не может быть определена иным словом, чем совесть... Опять совесть! Да, опять и опять. Когда обнаружилось, что Лихачев, изгнанный колхозниками с поста председателя за развал хозяйства, растранжирил и семенное зерно, то люди, хотя и сами впроголодь жили, наносили зерна для сева — кто малый мешочек, кто полведра, а кто и несколько горстей, и — отсеялись. И лес от пожара спасали, и на займы подписывались, и на лесозаготовках в лютый мороз работали, и на сплаве, и сено косили, и все другие тяжелые работы исполняли — и это почти без мужиков, и это — под мрачный шелест похоронок на ближних своих, на мужей и отцов, и это — впроголодь, и так из года в год!.. Пожалуй, хрестоматийно-завершенной является сцена, где «пряслинская бригада» — братья и сестры Михаила косят под его началом. Поэтическая сила этого описания проистекает не только из живописного таланта, она уходит в поэтическую содержательность самой жизни, увидеть и показать которую — нужен был особый дар, дар острой и глубокой мысли. «...Анна и не заметила, как вышла к Синельге... И вот он, ее праздник, ее день, вот она, выстраданная радость: пряслинская бригада на пожне! Михаил, Лизавета, Петр, Григорий...
К Михаилу она привыкла — с четырнадцати лет за мужика косит, и равных ему косарей теперь во всем Пекашине нет. И Лизка тоже ведет прокос — позавидуешь. Не в нее, не в мать, а в бабку Матрену, говорят, ухваткой. Но малые-то, малые! Оба с косками, оба бьют косками по траве, у обоих трава ложится под косками... Господи, да разве думала она когда-нибудь, что увидит эдакое чудо!..
Весело, со свистом летает серебряная коса у Михаила, а у Лизки, по пояс зарывшейся в густую траву, на виду другая коса — девичья, тугим льняным ручьем стекающая по запотелой, в мокрых пятнах спине, и фик-фик синичками звенят косы двойняток.
И, видно, не одной ей, Анне, было удивительно то, что делалось в этот час на пожне под высокими березами с искрящимися на солнце макушками.
Сверху, над пожней, большими плавными кругами ходил пепельно-серый канюк и не кричал, как всегда, слить-пить», а молчал.
Молчал и смотрел.
Смотрел и дивился».
Эстетический идеал писателя, увидевшего прекрасное в людях, которые и живут и работают по совести, находит проявление, разумеется, самое многогранное, в том числе и при изображении людей бессовестных, то есть таких, которые живут, думая лишь о своей корысти, о собственной выгоде, стремясь в любой ситуации найти возможность для личного преуспеяния, видя свои цели отдельно от общих целей. Такие встречаются в книгах Федора Абрамова, как встречаются они в жизни. Не останавливаясь подробно на всей этой темной части спектра абрамовских персонажей, я хочу сейчас обратить внимание читателя лишь на один образ: Егора Суханова-Ставрова. По-моему, это значительное художественное открытие, не менее заметное, чем образы Михаила и Лизы Пряслиных. За Егором, одногодкой и односельчанином Михаила, автор следит, пожалуй, не менее пристально, чем за Михаилом, и судит он его с той же вершины своих представлений о человечности, что и безусловно близких его сердцу персонажей. Впрочем, почему «судит»? Вот и кличут его только ласкательно — Егорша, и нрав у него веселый, жизнерадостный, и никогда-то Егорша не унывает, и всегда-то найдет выход из любого положения... Однако почему все более гадливое чувство сопровождает наше знакомство с этим непотопляемым-непромокаемым персонажем? Да потому, что этот деревенский уроженец в любой момент думает лишь о себе и в любой момент готов предать — и предает — и свою деревню, и своих родичей, и своих друзей, и вообще готов предать и продать все на свете ради своего корыстного интереса.
Что ему родина? Хлесткое словцо, на каких можно спекулировать. Молод Егорша, а уже нащупал свою тропку: гнуть личную выгоду под прикрытием высоких слов и понятий. Ему это легко, потому что слова для него — пустой звук, отдельно от его глубинных интересов существующий.
Так и движется Егорша: и в армии удобно пристраивается, и после нее умеет все козыри выложить — к начальственным постам приглядывается, и жену-то себе берет нахрапом, да уговором, да знанием психологии — с полным пониманием тех ее человеческих качеств, за которыми будешь как за каменной стеной, а сам-то на себя и не подумал никаких обязательств брать ни в отношении ее, ни в отношении сына и деда.
И вот — в критический час за подписью в защиту Лукашина явился к нему в дом Михаил. И до чего ж характерно Егорша ему отказывает!
«— Вопросов больше ко мне не имеется? — спросил, чеканя каждое слово, Егорша. — Ну и у меня нет. А писем в этом доме не подписывают. Потому как в этом доме с Советской властью живут. Ясно?» Вот он как: если надо сподличать, скрыться от ответственности, так он и за слова о Советской власти спрячется!.. А когда Лиза подписала письмо вопреки его запрету, ушел от нее, грохнув дверью: мало, оказывается, чтоб о тебе заботились, надо, чтоб и твоей морали держались — шкурной морали!
Приходилось слышать мнение, будто Егорша оттого-де ловчит, что трудные условия его к тому побуждают. Нет, это слабый, ложный аргумент: во-первых, Михаила ведь не побуждают те же и еще похуже условия; во-вторых, обобщение, сделанное писателем, много шире, оно касается отнюдь не только нелегких условий сороковых годов, но вообще тех обстоятельств, которые делают возможными происхождение и развитие подобного типа. Писатель предупреждает общество о деятельности подобных, весьма активных и энергичных егорш там, где возникает расхождение между словом и делом, где в цене показуха, где возможно очковтирательство, и гнев его по-настоящему гражданствен. Речь идет в данном случае о тех, для кого совесть, честь, правдивость, коллективизм — шелуха, прикрытие, а не норма жизни, для кого наша мораль, наш строй, наши цели существуют лишь постольку, поскольку они не мешают или даже, напротив, помогают достигать своих корыстных целей — за ширмой фальшивых фраз и фальшивых поступков. Но как только оказывается, что все эти понятия — помеха, они отметаются и слетают, как пустая оболочка с вызревшей личинки, и во весь рост возникает вполне реальное паразит-насекомое, подчас весьма страшное не только обликом, но и желаниями, и аппетитом!
Я говорил выше, что долгожительство художественных книг зависит от того, будут ли их значительные проблемы значительны не только для своего, но и для других времен. Этическая и эстетическая оценка людских типов, данная Федором Абрамовым, прошла жестокие испытания на истинность в годы войны, она глубоко современна сейчас, она будет остро и актуально звучать в будущем.
* * *
Своеобразие художественной индивидуальности Федора Абрамова, которое проявляется в его этическом обертоне, в обостренном внимании к самым высоким категориям человеческой нравственности, проявляет себя — как закономерное следствие все той же шкалы ценностей — в бескомпромиссной правдивости изображения. Оценивая своих героев по их отношению к честности, совести, справедливости, правде, писатель с тою же меркой подходит и к своему собственному труду. Его стремление добраться до сути происходящего и изобразить действительность в ее полноте и противоречивости я вижу следствием именно нравственной позиции писателя.
Вот почему его произведения построены на тех противоречиях, которые, коренясь в самой действительности, определяют судьбы людей. Вспомним, например, сельскую пекариху Пелагею — центральную героиню одноименной повести. С одной стороны, вся ее жизнь — это погоня за достатком, за сытостью, за отрезами, которые ею один за другим складываются в сундук про запас, про черный день, и ради этого накопительства Пелагея и себя не щадит, и мужа буквально в гроб вгоняет. И когда оказывается, что вся наша жизнь стала решительно лучше и богаче, что те же «тряпки» свободно продаются в любом магазине, наступает потрясение у Пелагеи: так для чего же, спрашивается, она и совестью своей поступалась, и последние жилы ради наживы из себя и близких тянула, ради чего жизнь ее прошла?..
Крах бездуховности? Да, конечно, но только к этому повесть не сводится, ибо Пелагея — собственница, но она же и великая мастерица и великая труженица, и работает она от всей души, и хлеб, выпеченный ею с талантом и старанием, приносит людям настоящую радость...
«Пелагея», так же как «Алька», поднимает большие л сложные вопросы народной жизни, она, как и большинство других вещей Абрамова, далека от однолинейности и учит читателей видеть жизнь в ее многогранности, в непростом развитии; и в этом серьезном подходе к писательскому делу, в этом стремлении пахать глубоко, идя нелегким путем художника-исследозателя отчетливо видится следование Абрамова лучшим традициям большой русской литературы.
А насколько остры противоречия, которые вскрывает писатель в «Пряслиных»: с одной стороны, победы можно было достичь лишь крайним напряжением всех сил, в том числе и духовных, а том числе и массовой народной инициативой, с другой — требовалась предельная концентрация усилий, максимальная централизация руководства! Как тут быть? Все — на лесозаготовки, и, значит, надо отправлять в лес кузнеца Нетесова, но без него не подготовить инвентарь к севу, а это значит, что и колхозники останутся голодными, и план хлебосдачи не будет выполнен... И председатель колхоза Лукашин своей властью оставляет Нетесова в селе и уезжает на лесозаготовки сам...
Ведя речь о правдивости Абрамова, о характере его реализма, следует выделить в качестве незаурядного художественного открытия писателя, наиболее ярко определяющего метод его творчества, образ секретаря райкома Евдокима Подрезова. Этот партийный руководитель — кость от кости, плоть от плоти трудового народа. Его непреклонная идейная убежденность, неукротимая организаторская энергия, суровая неприхотливость, граничащая с аскетизмом, рисуют его яркой личностью героической эпохи. Подрезов умеет зажечь людей словом, умеет и круто заставить их сделать даже больше того, что они могут, если напряженные обстоятельства потребуют этого. Вот как он входит в повествование:
«У Новожилова рука была мягкая, из-за нездоровья по району ездил мало, а этот — где заминка, там и он. И его не проведешь. Тутошний. На деревянной каше вырос. Пинегу выбродил с багром в руках чуть ли не от вершины до устья и людей знал наперечет. За это Подрезова любили и уважали, но и боялись тоже. Ух как боялись! Уж если Подрезов возьмет кого в работу — щепа летит».
И вот Подрезов явился в Пекашино и потребовал к себе Анфису — председателя. «Лицо его, крупное, скуластое, будто вытесанное из красного плитняка, оставалось неподвижным.
А как у тебя с глазами, Минина?.. Как, говорю, насчет зрения? За версту еще видишь?
Вот тут Анфиса сразу поняла, куда гнет секретарь. Худой берег в версте от Пекашина, и там на днях обсох лес.
Она начала оправдываться: не колхоза это, дескать, вина — сплавщики виноваты. Они бон ставили...»
Подрезов не стал кричать. Он начал называть фамилии тех, кого надо послать на сплав.
И постановив: к вечеру всех выгнать к реке! — разговор с нею закончил. Но начальнику райсплавконторы велел выдать людям пять литров спирта — для согрева от холодной воды — и по шестьсот граммов хлеба на человека.
«Людей ждать не пришлось. Пайка хлеба подняла на ноги всю деревню... И Анфиса подумала: «Эх, если бы такая приманка была и на севе». Но, конечно, ома понимала: не в одной пайке дело. Подрезов, Подрезов с народом!..
Сам, сам будет! — восторженно зашептали вокруг».
Перебрав не виду у всех несколько багров, кои сломав (хрупки), а кои похвалив (для богатырей), он принялся за работу.
«В общем, трудно сказать, как все это вышло, а только за каких-нибудь двадцать-тридцать минут Подрезов так накалил молодняк, что тот готов был ради него и в огонь и в воду. Да если правду говорить, то не только молодняк захватил подрезовский азарт. Он захватил и Анфису. А главное, ей тоже хотелось, чтобы Подрезов похвалил и ее».
Так работает Подрезов!.. И реку очистили от леса на сутки раньше, чем даже он наметил.
«И это была такая радость, что бабы, несмотря на усталость (больше суток не спали), домой побежали ходко и говорливо».
На плечах Подрезова и таких, как он, «районщнков» лежала огромная ответственность перед страной, и они эту ответственность оправдали!
Но время неудержимо идет вперед. Для умелого и эффективного руководства новых условиях потребовались и новые знания, и новый стиль руководства. «Волевой» стиль исчерпал свое содержание и превратился в препятствие на пути развития народного хозяйства и общественных отношений. «Я всего один мотор знаю, да и тот на четырех копытах и с хвоста заводится», — с горечью говорит о себе Подрезов. Время обогнало его, на смену ему идут новые руководители, с новым уровнем культуры (они лишь эскизно, к сожалению, намечены у Абрамова), но духовная сила Подрезова, но его идейность, но его кровная связь с трудовым народом — это такие качества, которые непреходящи, которые составляют наше неразменное богатство.
Монументальна фигура Подрезова, особенности его характера особенно рельефно очерчены Абрамовым в «Путях-перепутьях», где Подрезов становится одним из центральных персонажей, не только действующих, но и организующих движение сюжета. Его нелегкая личная судьба; его бессилие перед трагическими обстоятельствами; его благородство — он берет на себя вину Лукашина (выдавшего зерно плотникам) и вину Худякова (председателя, содержавшего тайные от учета поля для подкорма своих колхозников); его горькое раздумье о судьбе жены, молчаливой, безропотной батрачкой прошедшей рядом с ним свою жизнь; его плотницкая работа, когда поехал он в отпуск к семье неумелой своей дочери; его кутеж на пароходе и беседы с ним Анфисы Мининой и Ивена Лукашина на самые острые темы — все это придает драматическую стремительность сюжету и вместе с тем рисует во всей силе, своеобычности и характерности типичную для эпохи первых десятилетий Советской власти личность.
Эта диалектика сочетания социального и национального, непреходящего и временного, житейского и духовного, общего и индивидуального в образе одного человека характерна для поэтики лучших вещей Федора Абрамова в целом, у него нет однолинейных, одноплановых фигур: что богатырша Марфа Репишная, принявшая старую веру после смерти мужа, что тихий Илья Нетесов — воплощение трудолюбия и партийной совести, что любвеобильная Варвара, что одноногий Петр Житов — коновод всех мужиков не селе, что уполномоченный Ганичев, неукоснительно выбивающий налоги и займы, но сам еле живой от голодухи — и многие-многие, десятки других — все это люди с кровью и плотью, страстями и слабостями, целый сонм людей, каждый из которых неповторим и которые все вместе создают неповторимый облик трудового русского народа, совершившего истинно исторический подвиг, составляют круг эпического повествования.
Можно ли «Пряслиных» считать эпическим полотном? Я думаю, можно. Когда пройдет некоторое время, поулягутся суетные споры и осядут ветхой пылью на полках сердитые отзывы (вроде яростной статьи В. Староверова, утверждавшего, что Федор Абрамов — не реалист, ибо послевоенная деревня, по данным В. Староверова, жила много лучше, чем это изображено в романе «Две зимы, три лета»), тогда станет ясно, что перед нами вырисовывается подлинно эпическое произведение. Отчетливо станет видно, как реалистически выглядят фигуры людей, которые отдали своей стране буквально все, чтобы победить, в самом страшном из мировых сражений, как драматически обобщены те обстоятельства, в которых они живут и трудятся — не год, не два-три и не четыре-пять, а все десять лет!
В этом суровом эпосе о самоотверженном, героическом народе во всей ясности проступит для читателей то главное, духовное, что и придавало могущественные силы измученным, изголодавшимся, потерявшим близких людям - это слитность каждого отдельного человека с общим делом. «Великая, неведомого доселе размаху сила двигала людьми. Она, эта сила, поднимала с лежанок дряхлых стариков и старух, заставляла женщин от зари до зари надрываться на лугу. Она, эта сила, делала подростков мужчинами, заглушала голодный крик ребенка, и она же, эта сила, привела Анфису в партию», — так думает Лукашин, глядя на пекашинцев, и автор разделяет его мнение...
Эстетический идеал писателя опирается на человечность, совесть, правдивость.
Эти же нравственные ценности определяют особенности творческой манеры и самого Абрамова.
Закономерно поэтому, что с предельной правдивостью повествуя о самых драматических годах народной жизни, автор пишет о самых героических годах народной жизни, ибо правда — именно в этом.
И закономерно, что, стремясь к изображению сути, Федор Абрамов выходит к эпосу...
Да, буквально все важнейшие особенности художественной манеры Абрамова проистекают — прямо или опосредствованно — из суровой и неизменной, нежной и требовательной, глубокой и взыскательной любви к своему народу.
Несложно было бы доказать, что именно пристальный интерес к пекашинцам побуждает автора изображать своих персонажей в непрестанном развитии их человеческих качеств, в многообразии различных сторон характера. Вспомним, что в «Пряслиных» все сколько-нибудь значительные фигуры даны в росте, в изменениях психологии, каждый раз в новом качестве личности, обусловленном движением времени и обстоятельств. Возьмем ли мы наиболее поэтичный и непосредственный образ — Лизы, ее жизненный путь — от девчушки-хлопотуньи до матери незадачливого — по вине Егорши — семейства, обратимся ли мы к ее супругу, духовному ее антиподу, с его эволюцией от застенчивого мальчишечки до матерого и циничного рвача, — везде, в любой части спектра человеческих свойств и качеств, мы увидим изменения и перемены, подчас медленные, почти неощутимые, подчас резкие, падающие в одночасье, как это и бывает в самой жизни...
Именно этот горячий, неизбывный интерес и пристальное внимание к людям лежат и в многообразии проблематики «Пряслиных», и в обилии рассматриваемых граней, обстоятельств, ситуаций человеческого бытия: от рождения до смерти, от самых низменных поступков шкурного порядка до самых возвышенных побуждений души.
И первоэлемент литературы — язык в данном случае с особой отчетливостью и чистотой идет от богатого и глубокого источника — народного языка: это условие заложено в поэтике абрамовской прозы.
Разумеется, у каждого из персонажей своя особая речь, а у автора — своя, но это — отдельные ручейки, которые, сливаясь, образуют поток, чудесный своей свежестью и неожиданной игрой слов и образов. Вот говорит Подрезов: «Ты знаешь, сколько во мне тогда этой силы лесной, окаянной было? Жуть! Я как вырвался на просторы из своей берлоги — мир, думаю, переверну. В восемнадцать председатель сельсовета — ну-ко поставь нынешнего сосунка на такое дело! В двадцать председатель коммуны. Летом дальше — больше. Первая пятилетка, коллективизация — вся жизнь на дыбы. Меня как бревно в пороге швыряло. Сегодня в лесу, завтра на сплаве, послезавтра а колхозе... По трем суткам мог не смыкать глаза. Лошади подо мной спотыкались да падали...» А вот совсем другой Стиль: «Ревность — родимое пятно и всякая тьма капитализма...» — изрек Егорша». Это, конечно, совсем иной стиль, и совсем другое к нему у нас отношение. Но вот еще одна: «Она не сердилась на брата. Радость и счастье ходили по ихнему полю. И красота.
Никогда, никогда она не видала еще такой красоты.
…А потом все это вдруг вспыхнуло, засверкало радужными огнями. И запели птицы Вокруг, и затрубили журавли на озимях, за Акамовой навиной, там, где она боронила вечор, и далекая кукушка позабыла про свой вдовий плач. Весело, по-утреннему заиграла.
За рекой всходило солнце. И Лизка сперва смотрела на солнце из мокрых, сверкающих кустов, а потом выбежала на поле, привстала на носки и радостно, по-детски протянула к нему руки.
Давай, давай, красное, разгорайся! Приводи скорее новый день».
И как-то не хочется после этого отрывка вспоминать научный термин «несобственная прямая речь» и взвешивать на тонких аналитических весах, что здесь — от персонажа, а что — от автора. Потому не хочется, что поэтика и мироощущение автора и его любимой героини здесь предельно близки, слились, что радость Лизы, ожидающей счастья, и автора, от всего сердца желающего ей этого, столь заслуженного ею счастья, и разграничить-то нельзя.
...Федор Абрамов, большой русский писатель, своим трудом, своим талантом еще и еще раз доказал, что путь правды и путь любви — это единый путь, путь трудный, путь истинного искусства.
Л-ра: Аврора. – 1976. – № 1. – С. 62-67.
Произведения
Критика