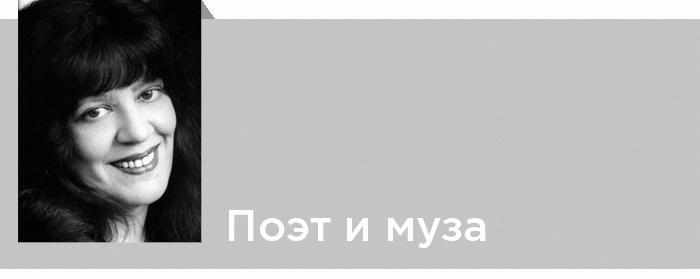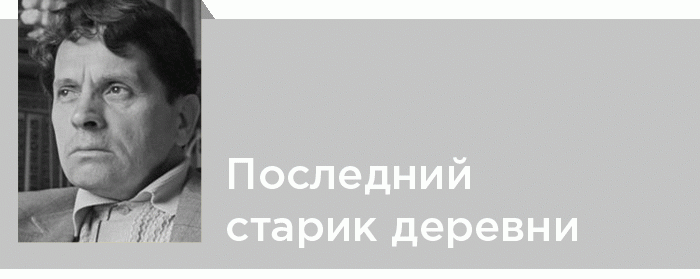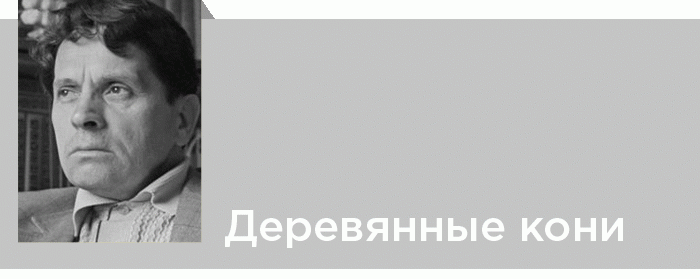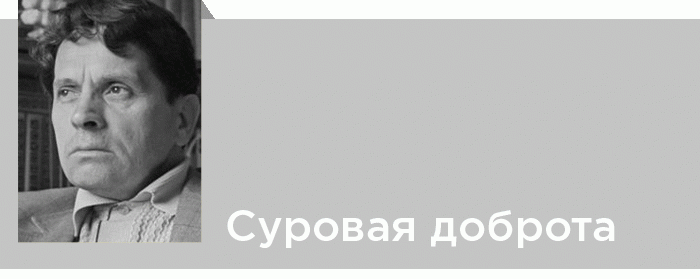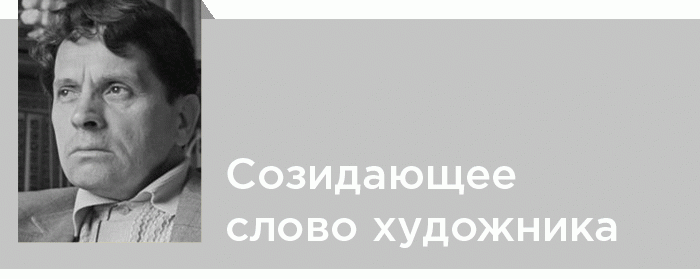Фёдор Абрамов. Надежда
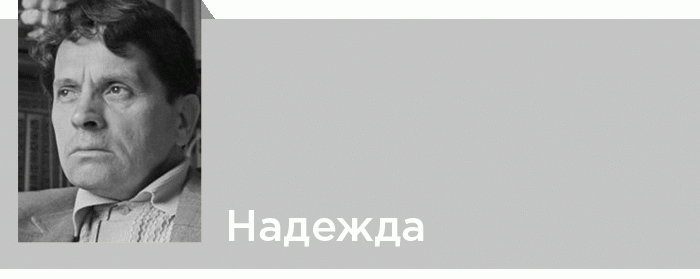
Вышел на улицу, глянул в верхний конец – кто там пылит, клюкой на солнце размахивает?
Федосеевна. И разряжена в пух и прах: в старинном ярком сарафане, который, может, сохранился еще от приданого, в голубой шелковой кофте с белыми нашивками по подолу – тоже прежнего завода.
– Куда это с утра вынарядилась?
– За пачпортом. Из сельсовету вечор прибежали, чтобы за пачпортом в район ехала. Я говорю: что вы с ума-то сходите? Какой мне пачпорт помирать надоть. Алe на том свете ноне порядки новые – без пачпорту и ходу нету? Всем, до последнего человека, говорят, пачпорта получать. Вот и собралась. Надо приказ сполнять.
– А не рано собралась-то? Автобус-то когда приходит?
– Ничего. У почты посижу. Тепло ноне. Не могу дома-то жить. Всюю ноченьку глаз не сомкнула. Все вспомнила, по всей жизни прошлась. И как у отца с матерью в бедности вырас-тала, и как в колхозе робила, и как войну пережили. Три похоронки на одном году пришло – каково, думаешь, мне было? На Петю, на Владимира, на Павла – и все в сорок пятом году. Вот как война-то нас шарахнула напоследок.
А что, надоть как-то жить. Да надоть наследника але наследницу смекать. Мужик весь приохался: "Вот помру, и весь род-корень чемакинский искурится".
В сказке вон старик взял полешко да вырезал Ольшанка – вот тебе и сын, а нам как быть? Один весь изранен да искалечен и друга немолода молодка.
Ну господь услыхал – дал Надежду. А что Надежда? Семё худое – говорю, живого места на мужике нету. И земля одно званье – когда есть цвет, а когда нету – вот как я рожала Надежду. Вот девка-то за все и расплачивайся. И за войну, и за матерь (у меня два зуба во рту было, когда рожала), и за голод – отец, можно сказать, нарушил себя, всё, какой кусок, какая кроха в доме заведется, мне пихал: тебе девку кормить. А девка – слепая, затянуло гноем глаза. Сколько, бывало, языком вылижу – до тех пор и свет белый ей светит, а так – при глазах слепая.
Ученье тоже не пало: с картошки-то не больно разбежишься. До четырех классов с грехом пополам доучилась – дальше-то что делать? В колхозе не работница – ей зажало. Как хлеб на сухой глине. А жить-то надоть. Живым в землю не зарывают.
Ну умолила – в лес взяли. На лесопункт синетаркой. За больныма ухаживать. И вот кого лес губит, а моей девке глаза раскрыл. Что ты, она ведь справилась в лесу-то. Весной приехала домой – стук-постук. Я ночью сплю: кто там стучится? "Я, мама, открой". Ну, открыла. В потемках-то я и не заметила, какая она. А наутрось, на свету-то, увидела и признать не могу. Писаная красавица! Да ты ли, говорю, это, Надешка? "Я, говорит, мама, я". Чистенькая, гладенькая, как картиночка, глаза во все лицо. Бывало, как котенок малый, все с закрытыми глазами, а тут не знаю, что и подумать.
Я опять за спрос: да, может, подменили тебя в лесу-то? А как не подменили. Дома все в голоде, картошка, и та не досыта. А в лесу-то она исть стала. Да хлеб хороший, настоящий. Да приоделась. Вот она и расцвела, как цветок в поле.
Ладно, подошла пора моей Надежде пачпорт получать. Пришла домой. "Так и так, Иван Павлович, – это председателю колхоза, – дай бумажку, в район лажу идти". А Иван Павлович, может, по самым большим праздникам только и человек. "Я, говорит, одну бумагу тебе дам – на телятник. У нас телята не поены, не кормлены со вчерашнего".
Надежда моя: "Не имеете права. Я, говорит, уж три года на лесном фронте". – "А теперь, говорит, будешь на колхозном. Я, говорит, тоже к вам приехал не своей волей. А раз я не своей, и ты будешь робить". Надежда у меня пришла в слезах: "Что делать, мама?" А что мама присоветует? Где мама бывала? Кого за свою жизнь видела? С малых лет в лесу да со скотом.
Что – надо возвращаться на лесопункт несолоно хлебавши, куда больше, а через день Надежда у меня прилетела на крыльях: "Мама, говорит, начальник лесопункта мне бумажку дал. За пачпортом иду. Моли бога, чтобы дали". И дали пачпорт. Да вот с этого-то пачпорта и начались все несчастья у девки.
Пришла на лесопункт, к начальнику: "Спасибо, Михей Лазаревич". – "А чего в спасибе-то?" – "А вот, – говорит Надежда, – праздник будет, бутылку поставлю". – "А мне, говорит, бутылка-то надо та, которая на двух ногах". Да шасть к двери, дверь на крюк. Спозарился на Надежду. Девка красавица писаная, кровь с молоком. "Не могу, говорит, ни жить, ни робить, а у меня планы…" – "Что ты, – говорит Надежда, – ведь у тебя у самого жена есть, дети… Да как, говорит, ты подумал-то о таком?" Знаешь, по-хорошему все хотела. Думает, опомнится, придет в себя мужик. А мужик ей на деван валить, силой, приступом брать. Надежда выскочила через окошко, в одной рубахе, не знаю, как и ноги не сломала.
И вот с той самой поры у меня для Надежды житья не стало. Лезом лезут и парни, и мужи-ки. И свои, и вербованные. Один вербованный – до чего дошло – ножом стал стращать. "Моя, говорит, будешь але сколю".
Девка у меня с ума сходит. Хоть вешайся, хоть топись. Как-то прибежала домой: "Что мне делать, мама? Мужики проходу не дают. И от начальства никакой заступы". Такая уж, знаешь, у ей красота. Вот тянет на ей мужиков, да и только. Теперь уж сколько – тридцать пять, а хоть с завязанным лицом ходи – липнут да и всё.
Я говорю: раз в чужих местах житья нету – возвращайся домой. У нас, говорю, в колхозе мужиков наперечет и поспокойнее свои будут. "Нет, говорит, мама, домой не вернусь. Не для того, говорит, я столько беды приняла с этим пачпортом, чтобы добровольно, своей охотой его лишаться. Надо, говорит, мне други ходы-выходы искать. На лесопункте реку вброд перебро-дить".
И вот перебрела. Шестнадцати годков замуж выскочила. Я учула заплакалась. Кто же в эти годы свою жизнь губит? А как зятя-то увидела, у меня и ноги подкосились. Под потолок будет. Мне надоть голову задирать кверху, чтобы зятя своего высмотреть. И некрасивый – черный. А она-то, как цветок лазоревый перед ним. "Что, мама, не понравился мой Вася? – Васильем жениха зовут. – Ничего, говорит. Я, говорит, видеть эту красоту не могу. Со своей намаялась. Я, говорит, оборону себе искала. Самый крепкий да самый сильный человек на лесопункте, хоть во спокое поживу. Теперь, говорит, ко мне близко никто не подойдет". А что – неверный, все равно житья не стало.
Я не раз уже слышал эту историю, но не стал прерывать старуху. Старый человек любит выговориться, а у Федосеевны какой сегодня день?
– С первого дня веры не дал. "Ты, говорит, нечестна". Надежда доказала свою честь. Рубахой. Чуло, видно, сердце-то, откуда сиверок дохнет. Опять: "Как за меня, за такого лешего, пошла?" – "За силу твою, – говорит Надежда, – пошла. Мне, говорит, сила да заступа твоя надобна, хорошей да чистой жизни хочу". Опять – не любишь! Замучил, с первого дня замучил девку. Але кого Надеха встретит, не смей говорить-здороваться. А как не здороваться, как не говорить с людями? У меня девка смалу в учтивости да в обхождении воспитана.
И вот Надежда у меня мучилась-мучилась, парничка прижила – ну, нету жизни. Всем бы хороший человек – и не пьет шибко, деньги хорошие зарабатывает, хозяйственный. Все справили: небель, стервант, одежды всякой назаводили, посуды звонкой. Ну неверной. В клуб не сходи, к людям не выйди, и на улице – вышла – везде евонные глаза.
Ну что, три года пожили, ушла Надежда. Все ему оставила: небель, деньги, тысяча рублей на книжке было, – только, бога ради, оставь меня во спокое, дай мне жить-дышать. Да вот с тех пор так и путается – ни девка, ни жонка. Я начну говорить. "Не учи, не твое дело. Нынче половина так живет"…
Старуха ждала моего одобрения, и мне бы надо хоть кивнуть головой, что ли, – на большее я был не способен, потому что я раз двадцать высказывался по поводу образа жизни ее дочери, столь необычного для нашей все еще во многом патриархальной местности, но сегодня во мне вдруг что-то забастовало, и обиженная Федосеевна в конце концов встала с бревна, на котором мы сидели, да так и пошагала, не попрощавшись.
Произведения
Критика