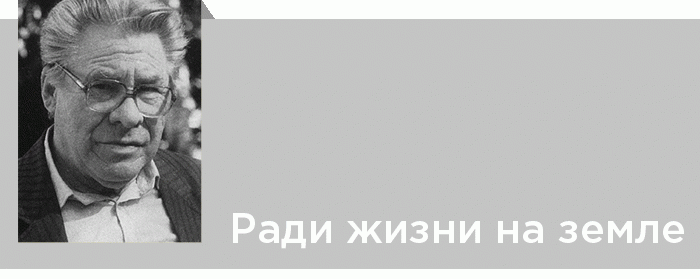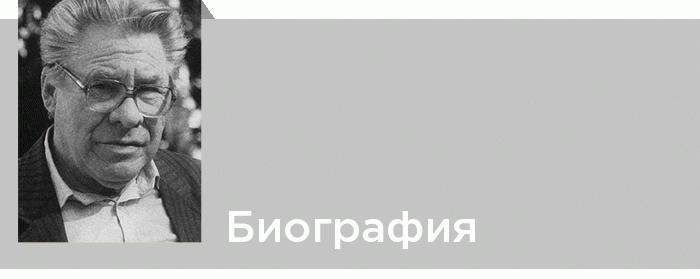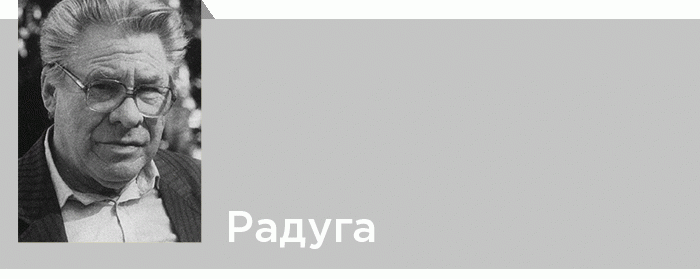И пахарь и солдат
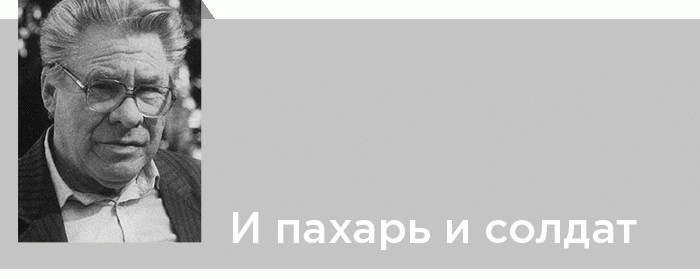
А. Кондратович
...«Двинулись краем обрыва, прямо по целине, стараясь не выпускать из виду ситнянскую колонну... Однако вскоре, как только обогнули курган и открылся поворот Ключевского лога, выяснилось, что далеко впереди движется еще какой-то отряд, и, судя по обозу, немаленький...»
...« — Э-э, малый! — задребезжал несогласным смешком дедушка Селиван. — Снег, братка, тоже по капле тает, а половодье сбирается. Нас тут капля, да глянь туды, за реку, вишь, народишко по столбам идет? — Вот и другая капля. Да эвон впереди, дивись-ка, мосток переходят — третья. Да уже Никольские прошли, разметненские... Это, считай, по здешним дорогам. А и по другим путям, которые нам с тобой не видны, поди, тоже идут, а? По всей матушке-земле нашей! Вот тебе и полая вода. Вот и главная армия!»
Только малую часть процитировал я из последних, заключительных глав повести Евгения Носова «Усвятские шлемоносцы». Глав о том, как поднялся народ и двинулся в июньские, знойные и трагические дни на врага — и пошел. Холмиста, увалиста среднерусская степь. Стоит выйти из ложбины или буерака на курган, видно: идут-идут и другие отряды — усвятские, ситнянские, или из Разметнова, или из какого другого села, деревеньки, название которой усвятцам даже и неизвестно. Идут, текут, собираются капли в ручейки, и стать им половодьем, грозным и гневным, неотвратимым, в котором придет пора — захлебнется враг.
Небольшой любитель сравнений литературы с другими искусствами, — литература сама по себе богата любыми сравнениями, в том числе и чисто эстетическими, — я не могу отстраниться от впечатления, что эти последние главы повести, а может, и вся повесть, чем-то похожи на фреску. С ее художественной внятностью отдельных деталей и явной условностью и еще более очевидной символикой. Начиная со странного, не сразу понятного названия «Усвятские шлемоносцы», — уже в нем есть нечто возвышенное, словно уводящее нас в даль времен. И конечно же, неслучаен в таком случае эпиграф из «Слова о полку Игореве»: «И по Русской земле тогда редко пахари перекликалися, но часто граяли враны».
Нам, отлично помнящим войну и воевавшим, кажется порой, что она, хоть прошло уже более тридцати лет — еще недавняя реальность. А она — история. Живая, ранящая воспоминаниями, но история. Для молодежи тем более. И повесть Евгения Носова, по всей видимости, первая в нашей литературе, как бы подтверждающая это всем своим несколько фресковым строем и героико-приподнятой тональностью. Во время самой войны часто вспоминались имена Александра Невского, Дмитрия Донского, Суворова и Кутузова. Тогда это было воодушевляющим напоминанием о наших славных ратных традициях. Теперь и на самой Великой Отечественной войне, чем дальше, тем больше не только лежит святой свет наших национальных традиций, она уже сама — и не сегодня — примкнула к ним и стала такой же нетленной традицией.
Наверно, чувствуя, что пишется не просто еще одна книга о войне, а в какой-то мере предание о ней, ибо былинная величавость и сказовость проступают в повести буквально с начальной строки — «В лето, как быть тому, Касьян косил...», Носов идет на довольно рискованный шаг: вся повесть, в сущности, о том, что было множество раз описано в литературе. Не берусь сосчитать, в каком количестве романов, повестей, поэм и очерков было рассказано о первом дне войны. Знаю: несть им числа, — и описание это давно стало неким общим местом — какой был прекрасный летний день 22 июня 1941 года, как внезапно грянула грозная весть и как все враз переменилось. Словно отринув от себя все эти бесчисленные страницы о первом рубежном военном дне, Евгений Носов с завидной писательской смелостью берется за новое описание. Как будто других до него вовсе не было.
И ведь вот что главное: так, как он описывает, — не было.
Это повесть о шлемоносцах, еще не надевших шлема, о солдатах, еще и не взявших в руки винтовки, о войне, на которой для усвятцев еще не прогремело ни одного выстрела, которая кажется еще такой далекой со всеми своими смертями, бедами и потерями. Далекой? О нет, к великой печали, нет. Она уже пришла в тихую и покойную, занятую своими домашними заботами и покосными трудами, затерянную среди бескрайних просторов деревню Усвяты. Пришла — и «вытравленным, посеревшим зрением глядел он (Касьян. — А. К.) на пригорок, и все там представлялось ему серым и незнакомым: сиротливо-серые избы, серые ветлы, серые огороды, сбегавшие вниз по бугру, серые ставни на каких-то потухших, незрячих окнах родной избы... И вся деревня казалась жалко обнаженной под куда-то отдалившимся, ставшим вдруг равнодушно бездонным небом, будто и не было вовсе, будто его сорвало и унесло, как срывает и уносит крышу над обжитым и казавшимся надежным прибежищем». Какие повторяющиеся, одни и те же эпитеты: серые... серые... серые... и какой образ — будто сорвало и унесло небо. И это в разгар яркого лета, когда только что белый свет виделся герою повести Касьяну совсем иным. Все посерело, на все надвинулась и легла тяжелая туча беды, так что и само извечное небо исчезло.
Евгений Носов — писатель, тонко чувствующий слово, его легкость и тяжесть, его цвет и разнообразие оттенков, его звучание, его уместность и единственную необходимость. И если в только что приведенных фразах он пользуется словами то сильными и резкими, то одними и теми же, словно и перо его оцепенело, мы понимаем: был для этого резон. Как он сам рассказывал (в интервью корреспонденту «Литературной газеты» 6 апреля сего года), вначале он собирался писать так, как писали до него, — «с баталиями, с подвигами» и мыслил «побыстрее пройти сцены прощания, проводов, а потом уже широко, объемно представить картины фронтовой жизни». Но в процессе работы первоначальный замысел истаял. «Материал, по которому писались первые сцены, увлек меня», — говорит он, и теперь уже «никаких особых событий в ней (в повести.— А. К.) не происходит — просто уходят из села новобранцы. Очень объективная хроника, очень медленное развитие событий».
Взяты и описаны только десять первых дней — без выстрелов, ран, смертей. Но, думается, писатель был прав, когда в том же интервью говорил об этих днях как о материале повествования: «Будучи сам по себе не военным материалом — здесь только сборы на фронт, он, мне кажется, тем не менее очень емко выражал героическую суть нашего народа».
И, добавим мы, в повести выразился. При обилии всякого рода описаний начала войны, пожалуй, никто до Евгения Носова не исследовал с такой пристальностью и художнической заинтересованностью очень важный и решающий момент в истории народа — момент перехода от мира к войне, от привычной жизни к необходимости защищать эту жизнь. Увы, и в наш век народу приходится это делать, и пока еще есть прямая нужда об этом задумываться, хотя, казалось бы, столько было исторических уроков...
Нелегок и непрост такой переход. Есть в нем что-то неестественное для человеческой натуры, как вообще противопоказаны и человеку и всему человечеству убийство, война. Но раз надо, то надо. А надо потому, что война вторглась в пределы Родины, война далеко от Усвят, но уже грозит и им, она идет по земле, может дойти и до Усвят, и тогда всему полная и неминучая гибель. И пахарь, крестьянин, застигнутый войной в часы самой сладкой, в деревнях обычно праздничной, сенокосной поры, становится солдатом, воином.
Имя тому пахарю и косцу Касьян, что, по объяснению старого, как сами Усвяты, дедушки Селивана, означает «носящий шлем». Сам Касьян об этом и не знал до Селиванова разъяснения. Редкое, скорее старинное имя у Касьяна, да и в названии «Усвяты» тоже слышится что-то исконное, вековечное. Сознательно выбраны такие имена и названия? Какое же тут сомнение! Может быть, даже чуточку «пережимая», писатель хочет, настойчиво хочет вызвать у читателя ощущение прочности и незыблемости того уклада жизни, который дорог его герою и не менее дорог самому писателю. Поэзия общей артельной работы, полной забот и своих радостей семейной жизни, домашнего очага, сызмальства окружающей Касьяна природы, родных мест, без которых Касьян и жизнь свою не смог бы вообразить, — все это, внушает нам автор, существует издавна, и суть немалая, нравственная ценность, которая должна существовать и длиться дальше. Ибо это и есть самая настоящая жизнь, достойная труженика, семьянина, продолжателя рода своего.
И в этом смысле есть в главном герое повести Касьяне некая, что ли, идеальность. Не идеализация, а именно идеальность. Иной читатель если не скажет, так подумает: часто ль теперь увидишь такую неотторжимую укорененность и привязанность к родной деревне, какую может порушить, и то насильно, лишь война, а так разве ушел бы из своих Усвят Касьян и его однодеревенцы? Но писатель настаивает на подобного рода ценностях и народных добродетелях, во-первых, потому, что твердо знает: они-таки есть, и, что бы ни произошло, они могут снова окрепнуть, даже среди молодежи, особо скорой и жадной, в силу хотя бы своей молодости, на перемены. Во-вторых, он пишет как бы повесть-сказание, повесть-песнь, а в отдельных главах и повесть-плач, и лирическая тяга невольно поднимает его ввысь, к тому идеалу человека, труженика, каким он, писатель, его представляет себе.
И тут можно сказать: представляет, видит, а не воображает, не придумывает. При всей своей идеальности Касьян — предельно конкретный образ в абсолютно живых, выписанных дотошно точно обстоятельствах своей судьбы. Ничего не скажешь: что-что, а жизнь Евгений Носов знает великолепно. И столь же великолепно и талантливо умеет передать ее нам во всей ее плоти, со всеми своими деталями, красками, гибкой своеобычностью и естественностью народной речи. Как хороша, например, в этой повести сцена прощания Касьяна с лошадьми, за которыми он ухаживал в колхозе: каждая лошадь — характер! С каждой герой расстается, испытывая бурю разноречиво смятенных и одинаково щемящих чувств. Эта сцена, как и сцена косьбы (кстати, очень традиционные для русской литературы, кто из классиков не описывал тех же лошадей, но Носов никого не повторил) — опорные, ключевые в повести. Они как бы представляют два мира, две жизни, напополам разломанные войной, — одну уже бывшую, мирную, и другую, начинающуюся с прощания с близкими, с деревней, с конями. А за ними в повести третья, думается, самая сильная, сцена первого Касьянова похода, еще в своей, неказенной одежде и сапогах, но уже запоясавшегося в дальнюю военную дорогу. На все и ко всему готового.
«А тем временем над Верхами в недосягаемом одиночестве все кружил и кружил забытый всеми курганный орел, похожий на распростертую черную рубаху...» — так кончается повесть. Что-то будет с Касьяном и его товарищами по походу, покинувшими дорогие до слез Усвяты ради еще более дорогой Родины...
Мы знаем, что будет: многие не вернутся, но все они — и павшие и живые — спасут Родину и тем самым народ спасет себя. И подвиг их встанет в один ряд с самыми великими подвигами и деяниями нашего народа. Станет подвигом, уже обретшим все черты бессмертного исторического эпоса. Новая повесть Евгения Носова — одна из страниц такого эпоса.
Л-ра: Октябрь. – 1977. – № 11. – С. 217-219.
Произведения
Критика