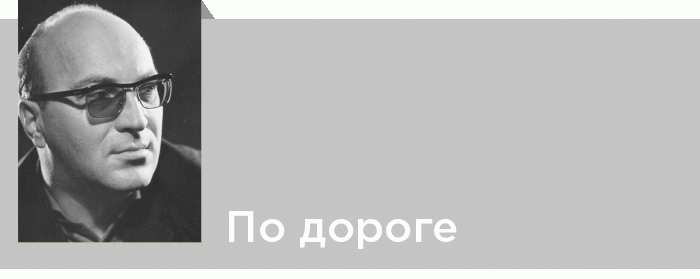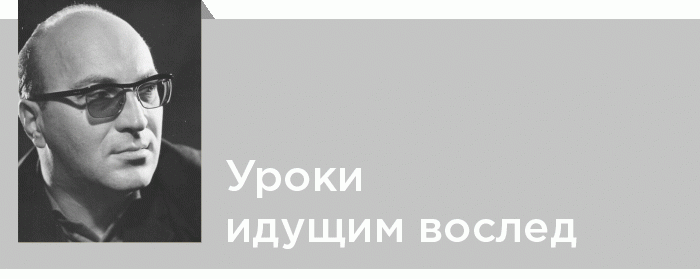Испытание красотой (Заметки о творчестве Юрия Казакова)

В. Камянов
В ряду имен современных советских новеллистов имя Юрия Казакова — одно из наиболее популярных. Причем этой популярностью писатель обязан не только собственному таланту, но и художественной культуре своей аудитории. Дело в том, что рассказы Ю. Казакова требуют от читателя упорной встречной работы, не сулят ему ни авантюрной увлекательности, ни удобных в обиходе рецептов житейской мудрости. Кроме того, если к творчеству писателя вы подошли после знакомства с произведениями его собратьев по жанру, таких, как Ю. Нагибин, С. Никитин, Вера Панова, И. Меттер, В. Конецкий, — от жизненного материала, который осваивает Ю. Казаков, на вас может повеять нравственным и эстетическим неуютом. В самом деле, немалую часть «населения» казаковских рассказов составляют диковатые увальни, прозябающие на задворках у времени, тунеядствующие богомольцы, мелкие хищники, раз и навсегда отмахнувшиеся от всяких там моральных запретов... Внимание Ю. Казакова к столь «мрачным» характерам кое-кому из критиков пришлось не по душе. Мы помним, как в ряде статей его именовали эпигоном Бунина и убежденным созерцателем душевных потемков. За последнее время критика заметно «подобрела» к Ю. Казакову, но инерция прежних опенок ьсе еще дает себя знать. Не сумел сладить с ней, например, В. Перцовский, автор статьи «Осмысление жизни» («Вопросы литературы», 1964, № 2), хотя творчество писателя он рассматривает вполне доброжелательно и о его таланте отзывается самым лестным образом. Но вот исходное суждение критика о Ю. Казакове, пугающее своим безапелляционным, «справочным» тоном: «...его (Ю. Казакова. — В. К.) своеобразие заключается в том, что он сосредоточил внимание на непроизвольных, безотчетных душевных движениях человека». Но, может быть, Ю. Казаков что-то несет людям, а не просто созерцает «безотчетные душевные движения»?
Действительно, неужели, например, бакенщик Егор («Трали-вали») интересен писателю лишь капризами своей сумеречной натуры? Дескать, пойди разберись: дикий, звероподобный парень, пропойца и лентяй, и вдруг — на тебе! — приступы виноватой нежности к Аленке, вспышки яркой образной памяти, смутная тоска по правильной жизни, а главное — поразительный «нутряной» талант певца, обостренная музыкальная восприимчивость. Что сей конгломерат значит? Многое. Особенно если мы прислушивались к авторской интонации. Впрочем, первые главки рассказа сдержанно эпичны. Герой как бы экспонируется, а сам писатель идет навстречу упрекам в повышенном интересе к «безотчетным движениям». Но вот наступает тревожная звенящая пауза: Егор с Аленкой сейчас заведут песню. И уходит из рассказа сдержанная эпика, уходит слегка отстраненный психологизм. И нас уже захватывает тугой, нарастающий ритм сокровенной «мелодии» рассказа. «Аленка зажмуривается, мучительно сотрясается, выжидая время, и вступает низко, звучно и точно — дух в дух: «Плывет лебедь со лебе-едушко...» Но себя, но своего матового, страстного голоса она и не слышит уже — где уж там! Чувствует она только, как мягко, благодарно давит, сжимает ее плечо рука Егора, слышит только его голос. Ах, что за сладость — песня, что за мука! А Егор, то обмякая, то напрягаясь, то подпуская си плоты, то, наоборот, металлически-звучно, все выговаривает дивные слова».
Авторский голос как бы сливается с голосами поющих. Но нет, не совсем: в нем отчетливо слышится и удивление перед богатством подспудных сил незадачливого героя, и сострадание беспризорному таланту, которого его обладатель явно недостоин. Да, писатель не просто «приникает» сердцем к песне. Он судит песней. Судит одичалость и примитивизм своего героя, безнадежно запустившего себя. Перед нами вырисовывается заманчивая человеческая проекция Егора, проекция, которая дает возможность определить, как велик не пройденный героем путь к людям, путь к самому себе, увы, несостоявшемуся. И напряженная страстность песни здесь оборачивается отрицанием духовной заскорузлости, отрицанием с опорой на то живое, что еще не угасло в глухом к своему призванию человеке.
В отличие от Егора Дусю из рассказа «Запах хлеба» не томят подспудные таланты. Всем существом она ушла в старательное мещанское потребительство и давно уже не знает никаких «высших» волнений. Остались одни лишь рефлексы, чисто атавистические рефлексы духовного восприятия мира. В родном доме, куда ей пришлось приехать по делам наследства, Дуся слышит запах хлеба. Он рождает смутное беспокойство, тревожит уснувшую память о далеком детстве, о странной, даже пугающей полноте внутренней жизни. И вот на могиле у матери, когда подспудное прорвалось наружу, черствая, меркантильная Дуся бьется в тяжелом припадке, выкрикивая «неизвестно откуда пришедшие к ней слова» о своем сиротстве. Нищету духа лихорадит память об утраченных человеческих деивосгах. И снова Ю. Казаков, как и в «Трали-вали», судит эту нищету. устанавливая масштабы и характер добровольно понесенных ею потерь.
Да, Ю. Казаков судит нравственную одичалость, но судит по-своему, «по-казаковски», без металла в голосе, без нажима.
Так начинал «негодующий», жесткий к бездуховному герою Ю. Казаков. Так начинал, чтобы продолжить по-иному. Ю. Казаков последних лет стал гораздо менее прозрачен. Он скупо пользуется «курсивом», осторожно акцентирует, глубже прячет оценки. Писателя влекут сложные связи явлений, скрытые переходы между ними. Потому-то внутренняя логика рассказов Ю. Казакова порой не сразу дается в руки. Посмотрим для примера, как выглядит все тот же бакенщик Егор в одном из эпизодов рассказа. «На лугу уже туман и пахнет сыростью. Туман так плотен и бел, что издали кажется разливом. Как во сне, идет, плывет Егор по плечи в тумане, и только верхушки стогов видны, только черная полоска леса вдали под беззвучным небом, под гаснущим уже закатом. Егор поднимается на цыпочки, вытягивает шею и замечает наконец вдали розовую косынку над туманом.
Э-ей! — звучным тенором окликает он.
А-а...— слабо доносится издали.
Егор ускоряет шаг, потом пригибается и бежит, будто перепел, тропой... Проходит минута, две, но никого нет, звука шагов не слышно, и Егор не выдерживает, поднимается, глядит поверх тумана. По-прежнему видит он только закат, полоску леса, черные шапки стогов — смутно и сизо вокруг него. «Спряталась!» — с нетерпеливым восторгом думает он, опять ныряет в туман и опять крадется».
Интересно, почему душевно неповоротливый Егор не спугивает тонкую гармонию предзакатных красок, тумана и плывущих поверх него стогов? Мало того, присутствие Егора — здесь условие гармонии. Да, Егор глуп, неуклюж, ленив. Но ведь живет в его душе вроде бы заплутавшаяся там подспудная сила в тянет Егора-певца прочь от Егора — пьяницы и лентяя. Особенно, когда туман кажется разливом, и нёбо беззвучно, и Аленка — партнерша по запойному, экстатическому вокалу уже на пути к сторожке..,
«—Э-ей! — звучным тенором окликает он.
— А-а...— слабо доносится издали».
Конечно, дуэт Егора и Аленки мы услышим не скоро. Только под конец Егоров тенор и Аленкин «втор» зазвучат в полную силу. А пока лишь предощущение, намек на музыкальную тему. И вместе намек на лучшего, несбывшегося Егора, чьи человеческие взлеты не более ощутимы и не более постоянны, чем сложная игра линий и красок над белым покровом тумана.
В рассказах Ю. Казакова можно нередко наблюдать примерно одно и то же: власть над героем — длительную или кратковременную — своего рода психологических автономий (по терминологии В. Перцовского — «безотчетных душевных движений»). Была своя «автономия», например у Дуси из «Запаха хлеба». Обрушилась на Дусю черная тоска у материнской могилы и через несколько часов отпустила. Да так, что следа не осталось: «На другой день, совсем собравшись уезжать в Москву, она пила напоследок с сестрой чай, была весела и рассказывала, какая прекрасная у них квартира в Москве и какие удобства». Но где гарантия, что запах хлеба, острый аромат кустов и другие «тонкие материи», от которых героиня, казалось бы, давно отмахнулась, вновь не преподнесут ей неожиданный сюрприз?
...С деревенским завклубом Жуковым (рассказ «Кабиасы») происходит, на первый взгляд, анекдотическая история. Борец против суеверий, он сам оказывается у них в плену. С резвостью вспугнутого зайца улепетывает Жуков от мифических кабиасов, которые привиделись ему в ночном лесу. Смешно? Не очень. «Кабиасы» — не юмореска, не хлесткая сатира, а спокойная аналитическая проза. Что такое зав- клубом Жуков? Если верить первому впечатлению — воплощенное невежество и самодовольное плоское доктринерство.
Да, героем правит, деспотически распоряжается плоское доктринство. Но при ближайшем знакомстве с героем мы обнаруживаем, что его внутреннее «я» далеко не полностью подотчетно этой правящей силе. Прошла позорная для Жукова ночь... «Он засыпал почти, когда все в нем вдруг повернулось и он будто сверху, с горы, увидел ночные поля, пустыннее озеро, темные ряды опорных мачт с воздетыми руками, одинокий костер и услышал жизнь, наполнявшую эти огромные пространства в глухой ночной час. Он стал переживать заново весь свой путь, всю дорогу, но теперь со счастьем, с горячим чувством к ночи, к звездам, к запахам, к шорохам и крикам птиц».
Апломб полуобразованности и сопровождающий его длительный моральный шок (к счастью, всего лишь шок) — с таким «диагнозом» выходит Жуков из ночного происшествия... Состояние механика Крымова из рассказа «Вон бежит собака» тоже можно определить как «шоковое». Только шок здесь кратковременный н, так сказать, локальный. Герой рассказа, погруженный в предвкушение долгожданной рыбалки, упорно отгораживается от всего, что способно его отвлечь, сбить с томительно-размягченного душевного настроя. Крымов остался глух к невысказанному горю своей соседки по автобусу. Точнее, пожелал остаться глухим. «Вон бежит собака! Вов бежит собака!» — бубнил он про себя, настраиваясь на бездумную созерцательность, чтобы легче было отстраниться от чужого переживания, продлить психологическое гурманство. А ведь Крымов не чета вя Страннику, ни Дусе, ни Егору. Он душевно тонок, наделен острым поэтическим зрением, чуткой восприимчивостью к сокровенной жизни природы, т. е. качествами, которые Ю. Казаков особенно цеинт в своих героях. Да, ценит, но, не возводя в абсолют, не делая «тонкому» герою никаких моральных поблажек. Так что же отсюда следует для Крымова? Быть может, суровый приговор? Отнюдь нет. Минули три отпускных дня, схлынул угар самозабвенного приобщения к природе, мысли Крымова стали входить в привычную колею, и тут он вспомнил свою недавнюю попутчицу. «Что это было с ней? — пробормотал он и вдруг затаил дыхание. Лицо и грудь его покрылись колючим жаром. Ему стало душно и мерзко, острая тоска схватила его за сердце. Ай-яй-яй! — пробормотал он, тягуче сплевывая. — Ай-яй-яй ...Как же это, а? Ну и сволочь же я... Что-то большое, красивое, печальное стояло над ним, над полями и рекой, что-то прекрасное, но уже отрешенное, и оно сострадало ему и жалело его. — Ах, да и подонок же я! — бормотал Крымов, часто дыща, и вытирался рукавом. —Ай-яй-яй... — И больно бил себя кулаком по коленке». Нет, всегдашнего Крымова, оказывается, не упрекнешь в эгоизме и безразличии к ближнему.. Кого же тогда упрекать? Или что упрекать? Кратковременный транс, сделавший героя невосприимчивым к чужому горю? А стоит ли гневаться на состояние? Но ведь, мы видим состояние не рядовое, а выпирающее, которое — пусть временно — распоряжается одним хорошим человеком и причиняет боль другому!
Читая и перечитывая рассказы Ю. Казакова, где встречается картина как бы психологического отчуждения героя от самого себя, не чувствуешь ни малейшего насилия над логикой образа, ни намека на инерцию литературного приема. Чувствуешь иное — упорство авторской мысли, для которой сами по себе «безотчетные душевные движения» немного стоят. «Неподотчетные» силы, берущие власть над героем (Дусина «память» о нематериальных ценностях, худосочный рационализм Жукова, эгоистическая слепота Крымова), — это и его, личное, и не его, постороннее.
И оттого, что они отчаети «Посторонние», казусы психологических едвигов и несовместимостей, сохраняя свою единичность, предстают перед нами в неожиданном укрупнении. Мы уже не склонны ограничиться «первоначальными делами» Дуси, Егора или Жукова и обращаемся мыслью к «надличностным» перипетиям, значительно раздвигающим сюжетные границы рассказов. В частности, мы видим, что Егорова стихийная музыкальность и яркая образная память не просто «черты данной личности». Вместе с предзакатным туманом, тихой игрой реки, очарованием старинной песни они образуют сомкнутый поэтический ряд, где, как в стихотворной строфе, действует скрытая сила притяжения. Все эти «тонкие материи» здесь далеко не пассивны. Они упорно теснят примитивизм и душевную сонливость, ломают их застойный уклад. Идущая в Егоре борьба разноречивых начал становится как бы экстерриториальной. И хотя на узком участке Егоровой судьбы успех вряд ли возможен, нам дано ощутить главное — размах, всепроникающую наступательность поэтических сил жизни.
Может возникнуть вопрос: не слишком ли суров Ю. Казаков к своим героям, не слишком ли завышен его критерий тонкой нравственной развитости, особенно если учесть, что герой Ю. Казакова — это чаще всего человек, далекий от благ цивилизации, к духовным разносолам не привыкший и «нежностям» не обученный? Но сразу же отметим вот что: герои интеллигентные не пользуются у писателя решительно никакими льготами. Можно вспомнить хотя бы московского студента Сашу (рассказ «Ни стуку, ни грюку»), мальчика из «хорошей семьи», оказавшегося в дурном обществе циника и тупицы Сереги, специалиста «по женской части». Когда рассказ о Серегином амурном «промысле» подходит к концу, нам трудно определить, чья роль была омерзительнее: скотоподобного Сереги или нежно воспитанного Саши с его благородным слюнтяйством и потаенной завистью к напарнику. По мысли Ю. Казакова, Сашина анемичная интеллигентность не дает ему заметных преимуществ перед Серегой.
Писателю вообще чужд культ «избранных натур». Об этом свидетельствует и его отношение к художнику Агееву («Адам и Ева»), человеку талантливому, но страдающему хронической вялостью сознания, к тому же вялостью, которая жаждет быть узаконенной, возведенной в естественную норму. Агеев привык покорно доверяться течению своей внутренней жизни, капризам своего стихийного дарования. В области мысли у него нет ничего выношенного. Его филиппики в адрес конъюнктурщиков и недоброжелательных критиков — это, по существу, богемный фольклор, нйчьи, бесхозные фразы. Столь же бесхозны и громкие декларации Агеева о любви к простому человеку. Агеев — в достаточной мере артистичная натура. «Тонкие» переживания ему вовсе не заказаны. Но под настроением герой позволяет себе быть всяким. Его развинченные, бесконтрольные чувства вольно бродяжничают между интеллигентностью и дикарством. Он даже способен пережить острую сердечную боль (от Адама уходит Ева!), но не сделает над собой ни малейшего усилия, чтобы отвести беду. Агеев, подобно Саше («Ни стуку, ни грюку»), восприимчив к красоте мира, его поэтическим голосам. Однако писатель не склонен выдавать за добродетель ни пассивную восприимчивость, ни блуждающий без компаса талант. Нет, Ю. Казакова трудно упрекнуть в поблажках «интеллигентному герою». Добавим: равно как и в чрезмерной суровости к герою неинтеллигентному. В самом деле, кто из героев писателя может быть аттестован как ходячая нищета духа? Парень с плоским лицом из рассказа «На полустанке», странник, Дуся, бакенщик Егор, сельский плотник Василий Каманин — герой рассказа «В город». Серега из «Ни стуку, ни грюку» - люди, что называется, «от земли». Тут, однако, требуется уточнение, да, «от земли», но посторонние на ней. И вообще везде посторонние. Недаром рассказ «Трали-вали» первоначально назывался «Отщепенец». Это название точно указывало на Егорово место в жизни.
Итак, отщепенцы. По отношению к кому? А может, и к чему? Откройте очерковую повесть Ю. Казакова «Северный дневник», где позиция автора предельно обнажена, и вы из обширного круга героев без труда выделите тех, кто особенно симпатичен писателю — механика Попова, лоцмаца Малыгина» рыбаков-поморов Котцова и Гитова, рыбачку Пульхерию Еремеевну, «тихих героев, всю жизнь свою противостоящих жестокостям природы».
И в рассказах автор не скрывает своей симпатии к таким героям, как древняя старуха Марфа («Поморка»), которая в свои девяносто; лет и по хозяйству хлопочет, и в колхозе трудодни зарабатывает; деревенская письмоносица Манька из одноименного рассказа; красавец помор, отец маленького Никишки («Никншкины тайны») ...
Назвав этих Героев, мы, по существу, ответили на вопрос, касающийся Сереги, Дуси, Странника и т. п. — «Отщепенцы. По отношению к кому?» А вот как раз по отношению к старой поморке, рыбаку, промышляющему семгу, Маньке, т. е. людям, которые, не пытаясь отсидеться в холодке, несут свою долю общего труда, а заодно долю «шабашников» типа Дуси, Сереги и Странника.
Между «шабашниками» и темн, для кого труд — содержание жизни, — резкая нравственная грань. Причем Ю. Казаков менее всего склонен еще раз проиллюстрировать простейшую формулу — «где труд — там добродетель, где праздность — там порок». В его рассказах вопрос ставится сложней и тоньше: степень душевной причастности человека к своему делу — это одновременно степень его причастности к гармонии окружающего мира и мерило нравственного достоинства. Критерий дела оказывается отправным. Прочие производны. Что же до нерадивцев и «посторонних», то их человеческая недостаточность ставится автором в прямую связь с их отстраненностью от общего хода жизни, отстраненностью, которая носит характер обоюдный: они — от жизни, жизнь — от них. Красота мира для «посторонних» — либо за семью печатями, либо — вспомним Дусю и Егора — источник болезненных .внутренних встрясок...
Есть у Ю. Казакова немало новелл, выдержанных — в отличие от «Трали-вали» и «Запаха хлеба» — в светлых и только светлых тонах. Можно сказать, что они занимают как бы промежуточное положение между собственно прозой и лирической поэзией. Я имею в виду такие рассказы, как «На охоте», «Оленьи рога», «Осень в дубовых лесах». Одна из их примечательных особенностей — почти полное отсутствие сюжета, в его привычном событийном понимании, и уж совсем полное отсутствие конфликта.
Например, «Оленьи рога», по существу, лишены событийного ряда. Место действия рассказа — дом отдыха в Прибалтике, время действия — ранняя весна, т. е. типичный «не сезон». И одна-единственная героиня — шестнадцатилетняя девочка, выздоравливающая, вернее, еще не успевшая до конца оправиться после долгой болезни. Причем никакой курортной романтики, никаких даже беглых знакомств, никто и ничто не нарушает одиночества героини. Внешнего одиночества, так как внутренне ода» целиком ушла в узнавание глухого бора, каменистых гротов в холмах, освободившегося ото льда моря, молчаливых домов с прозрачными верандами.
Узнавание это прихотливо хотя бы оттого, что оно двойное: девочка узнает новое, особенное и наново открывает привычное, вернее, бывшее привычным до болезни — просто деревья, просто весеннее небо, просто ломкий мартовский наст... Взгляду девочки на мир пока вроде бы не хватает оптической резкости, предметы не попадают в фокус, грани их зыблются, контуры плывут... И совсем непроизвольно возникает игра возбужденного сознания; причудливо преломляющего реальность. Девочке кажется, что один из заколоченных на зиму домов населен сказочными троллями. Фантазия выстраивает свой автономный сюжет и уходит, погружается в его лабиринты.
Если на этом поставить точку, «Оленьи рога» будут выглядеть замкнутым в себе живописно-психологическим этюдом, для которого нетрудно подыскать соответствующий литературный ряд — мало ли в современной прозе (о кинематографе и говорить нечего) чисто лабораторных опытов «поэтического оволшебствления» реальности? Но точку ставить рано. Да, девочку затягивает мир ее фантазии. Но вот в этом мире происходит маленькая странность: старый тролль манит девочку к окну таинственного дома — «Взгляни!» Она подходит и вместо! новых сказочных чудес «видит солнечный день, холмы, поросшие соснами, и знакомого лыжника, беззвучно скользящего с холма на холм». Если бы девочка стала переводить эту странность на обычный язык, получилось бы примерно следующее: «Ты слишком зажилась среди нас, троллей. Возвращайся к своим. Пора!» Это одно «Пора!», тай сказать, внутреннее. Есть и другое. От главки к главке в рассказе Крепнет, я бы сказал, музыкальная тема — тема молодого лыжника «в вязаном свитере, с тонкими сухими ногами». Он часто прибегает сюда, «взлетает на холмы, оглядывается...» Но что он девочке? Просто фигура, оживляющая ландшафт. Лыжник исчезает... А «ночью девочка летает во сне над холмами, слышит тихую музыку...»
Помните, как герои «Трали-вали» Егор и Аленка перекликаются в тумане и как с их перекличкой начинает — пока чуть слышно — звучать тема согласного дуэта? Нечто подобное есть и в начале «Оленьих рогов» — легкое сближение далеких линий. Лыжник «взлетает на холмы»; девочка во сне как бы повторяет рисунок его бега. А вот и финал. Девочка стряхнула с сёбя поэтическое оцепенение... «Она улыбается, поднимает порозовевшее, похорошевшее лицо, вытягивает горло, прикрывает влажные ресницы, кричит: «Эге-ге-аой!..» И сразу, услышав этот ликующий зов. Тормозит палками и останавливается лыжник, поворачивает назад разгоряченное бегом лицо, ждет и, не дождавшись ничего, резко, разбрасывая снег, перекидывает лыжи и мчится назад по своей лыжне».
Да, перед нами вновь прошла краткая история психологической «автономии», на сей раз возвышенно-чистой, исполненной внутренней гармонии. Но и этой «автономии» не дано поэтически торжествовать в рассказе. Путь девочки, как и всех героев, близких писателю, ведет к распахнутому миру, которого никак не в силах заменить мирок замкнутой гармонии.
Нет, Ю. Казакову чужды нездоровый интерес к «низменным натурам» и смакование «безотчетных движений». При внешней сдержанности, безнажимности его повествовательной манеры он внутренне сосредоточен и целеустремлен. Сосредоточен прежде всего на сложных коллизиях, возникающих при соприкосновении человека с незыблемыми ценностями красоты и гармонии, которые даны человеку во владение и с которыми он — как личность! — должен быть вровень. Чтобы отвечать своему назначению на земле. Именно об этом — о назначении человека на земле — и пишет Ю. Казаков в своих рассказах.
Л-ра: Литература в школе. – 1966. – № 4. – С. 15-21.
Произведения
Критика