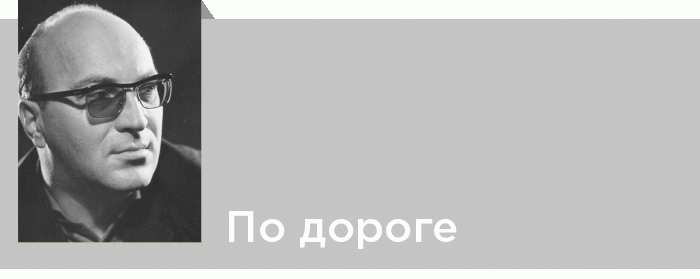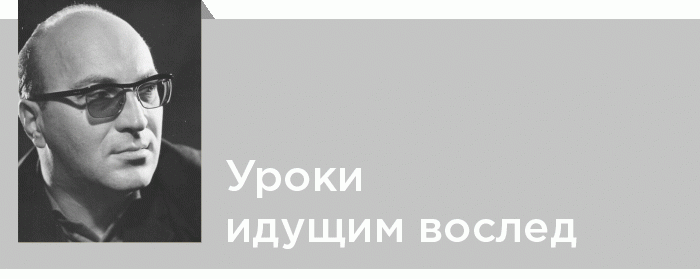Общение с умным героем: Грубая плоть и горе от ума

Михайлова Л.
Личность неосуществима вне общественных связей. С нарушения этих связей начинается распад нравственный и интеллектуальный. На эту мысль наводит рассказ Юрия Казакова «Адам и Ева».
Герой рассказа молодой художник Агеев мрачен и одинок. Он талантлив, но не понят критиками («кричат о современности, а современность понимают гнусно»), публикой (на выставке никто ничего не понимает... ребята с бородками, в джинсах, посоловели, кругами ходят), девушкой, которая его любит. Вика не просто привлекательное юное создание, она «Ева» — философское обобщение, символ женщины, всепонимающей и покорной. Но, вопреки первоначальному представлению о ней Агеева, Вика не во всем одобряет его, и эта самостоятельность раздражает Агеева.
Нет признания, нет одобрения творчеству, нет сочувствия образу мыслей, поступкам. Человек озлоблен до предела. И не просто «по злобе» ругает критиков и конъюнктурщиков, а пытается как-то сформулировать собственную программу. «Об одном человеке они (критики. — Л. М.) не думают, им подавай миллионы». Говоря о своем понимании общества и личности, Агеев утверждает: «Если каждый хорош, то общество хорошо». Кто же хорош, по мнению Агеева? В том восхищенном описании биологического человека, которое заключаю в эпизоде встречи с пьяненьким рыбаком, как ни странно, есть многое от просвещенно снисходительного любования грубоватым гедонизмом, «естественной» животностью или животной естественностью «простого» человека — художник прошлого сказал бы «из низов», а нынешний Агеев говорит: «от массы».
«Грубая плоть», что бы там ни говорили критики, — вот что сближает и роднит людей, хочет сказать Агеев. И — все! И во веки веков аминь! Любому «сто очков вперед дам», рассуждает он относительно «этой самой массы», которая вот сейчас на палубе парохода, среди мешков и корзин, толкует «о новых постановлениях». Однако он отмечает эту картину как характерную деталь пароходного быта, не вникая и не вслушиваясь в смысл того, что говорится. Физически Агеев с этими людьми, а внутренне отгорожен от них и, несмотря на современную фразеологию, находится в зависимости от стародавнего сюжета «художник и толпа», в общем, в той же трактовке: снедаемый «цивилизацией» служитель муз жаждет приникнуть к живительному роднику незамысловатой, не замутненной интеллектом жизни. И Вика — «студенточка, зачеты, диамат, практика» — только помеха Агееву в его планах «опрощения».
Искусство Агеева не имеет адреса и потому не имеет ценителей. Буду делать, что делал, потом зачтется, решает Агеев, не рассчитывая на современников. Где-то на озере повстречался ему «солёный парень», рыбак, и первое, что слышит от него Агеев: «У нас бабы — во, понял?» — и пьян, конечно (что поделаешь, плоть!). Агеев не обманывается насчет интереса к себе: бутылка и «бабы» в обществе заезжего художника — как-никак экзотика для местных рыбаков. Но он и сам большего не ищет. К кому же тогда обращается Агеев своим творчеством «интеллектуала»? Его интерес к местным людям такой же потребительский, они объект его творчества в той мере, в какой они являют собой «натуру во плоти». Порою он терзается, ощущая шаткость своей позиции: «может быть, правы критики, нет у меня идеи»... Но и те критики, которых нарисовал Казаков, сами лишены идеи. Они все «из-за денег» пишут и ни во что не верят. Таким образом, обе стороны пребывают в нравственном маразме и от горькой душевной неустроенности открещиваются с похмелья по утрам — одви «кофеем», другие коньяком.
Молодой художник свел свои счеты с интеллигентным миром, распоясался, запил, прогнал свою Еву и пусть не ею, а женщиной попроще насытит свою плоть, но что дальше? Не маловато ли для современного Адама с его диапазоном жизнедеятельности, несколько более обширным, чем следование естественному ходу вещей в масштабах райских кущ? Ведь Казаков не судит, не осуждает своего героя, он жалеет его, но жалость — это хорошо известно — еще никого и ничего до конца не исправила. Вот уж поистине горе от ума, самоистребление интеллекта!
Пластически изобретателен и щедр Казаков в «Адаме и Еве» — все преломляется в художнически одержимом видении окружающего, все гипнотически воспринимается глазами Агеева: ракурсы, живописные планы, цветовые сочетания. Но Агеев, переполненный радостным ощущением силы своего таланта, убог в нравственном и в интеллектуальном отношении. И его художническое кредо — примат «плоти» — вытекает из этой его ограниченности. Он только специалист, только профессионально-техническая единица, пускай это профессия и техника особого рода.
Оказывается, не так хорош сам Агеев, чтобы из него и ему подобных составилось хорошее общество:..
Что же возобладало в «Адаме и Еве»? Вульгарная драма одиночества от самовлюбленности, от принципиального эгоизма (все оправдывается талантом!), от неспособности хоть сколько-нибудь управлять своими инстинктами, и это тоже, конечно, в программе той биологической особи, чей идеал стремится утвердить Агеев как эталон особенного, немассовидного человека.
Нельзя не заметить, что рассказ написан с полемической целью, и удивительно, что критик Е. Воронов, рассуждая о рассказах Казакова, собранных в новой книге «По дороге», сказал об «Адаме и Еве» лишь то, что здесь обнаружилось «желание автора глубже понять многообразные связи человека с действительностью». Это можно сказать о любом авторе и любом произведении, когда надо что-то сказать не в обиду, но и не в похвалу.
Л-ра: Знамя. – 1963. – № 11. – С. 213-215.
Произведения
Критика