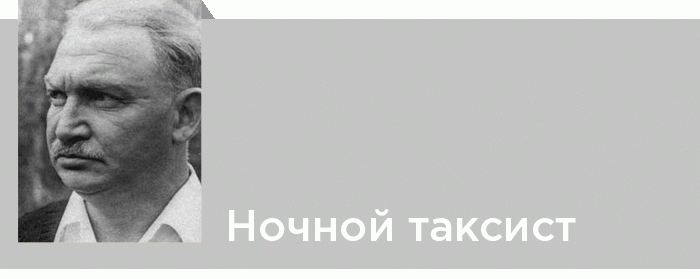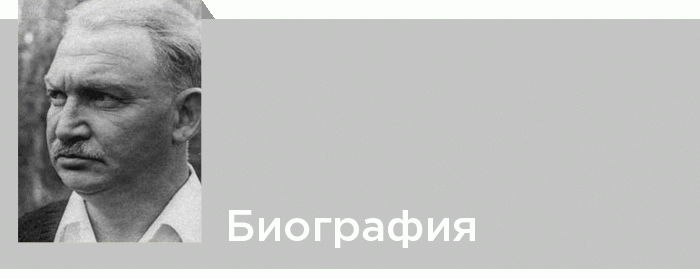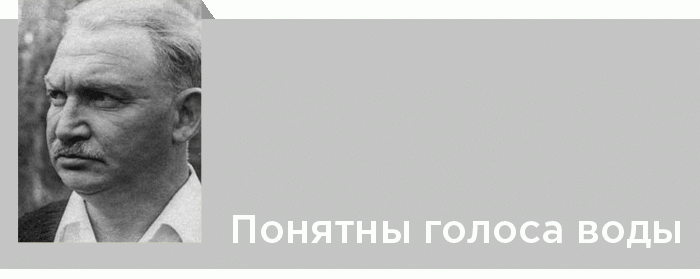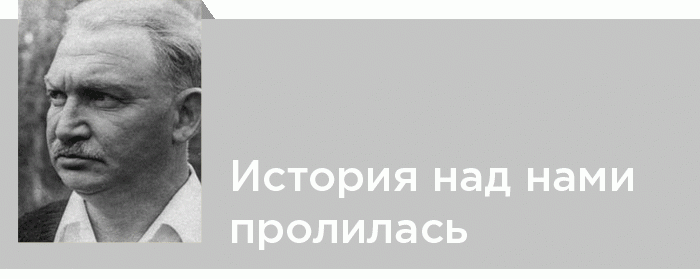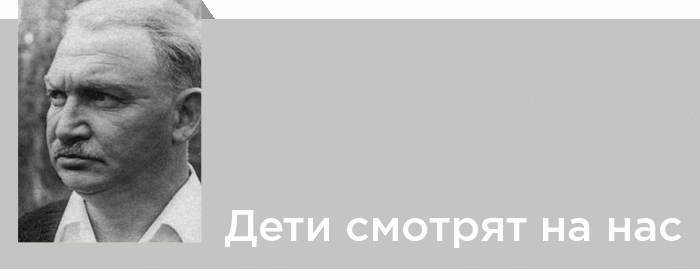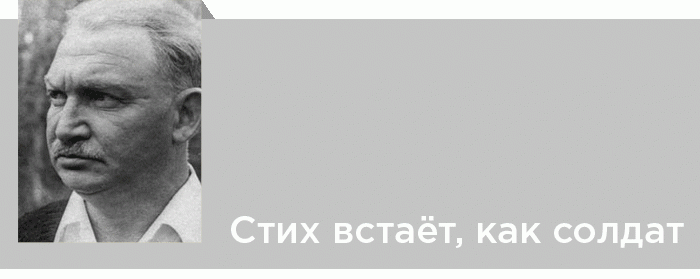Наедине с собой

И. Винокурова
Опыт, добытый на фронте («Если бы война не выручила, не узнал бы ни шиша...»), дал особую шкалу оценок, внушил особый взгляд на вещи, сразу же выделивший Слуцкого среди поэтических собратьев. Его стихи о войне поразили читателя своей прямотою и жесткостью, ощущением войны как тяжелой, повседневной, изнурительной работы, одухотворенной не стихийным героическим порывом, а тяжелым сознанием долга, не физиологическим бесстрашием, а сознательным, взращенным в себе мужеством. Его стихи о жизни мирной удивили читателя своим равнодушием к таким лирически «прибыльным» темам, как любовь и природа, а вернее, особым своим пониманием как любви, так и природы. И если страсть юных возлюбленных действительно малоинтересна Слуцкому, то преданность друг другу в старости, замешанная на иного рода чувствах, и прежде всего на чувстве долга, трогает необыкновенно. Не встретишь у Слуцкого и пространных описаний «ржаных, желтых далей», зато есть гневные строки о пшенице, рассыпанной по шоссе. Природа волнует Слуцкого скорее в своем практическом, «народнохозяйственном» значении. Этот поэт вообще избегает описывать, зато торопится вмешаться, наставить, научить, ибо именно в научении («Я учитель школы для взрослых...») видит свой долг поэта, определивший и темы, и форму (лаконичную, четкую, прямую), и пафос его поэзии — острогражданственной, принципиальной, насквозь полемичной.
Новая книга Слуцкого, в свою очередь, полемична. Хотя не так явно, а приглушенно, ибо на этот раз разговор ведется не столько с миром, сколько с самим собою. Конечно, сталкивать в лоб разные точки зрения абсолютно не в характере этого поэта — сборник, сложившийся из стихотворений разных лет, в этом смысле на удивление целен, мир в нем увиден как бы с единого ракурса. Однако иного, чем мы привыкли.
Автор «Сроков» спорит со Слуцким — известным поэтом, автором многочисленных книг, сочинителем знаменитых стихов. Таких, как «Физики и лирики», к примеру. Помните: «Что-то физики в почете, что-то лирики в загоне. Дело не в сухом расчете, дело в мировом законе...»? Слуцкий так категорично отрезал тогда («Это самоочевидно. Спорить просто бесполезно»), что заподозрить его в желании «собственноручно» опровергнуть эти выводы было бы странно. Но сборник «Сроки» свидетельствует на этот счет:
Физики, не думайте, что лирики просто так сдаются, без борьбы.
Мы еще как следует не ринулись до луны — и дальше — до судьбы.
Эта точка вне любой галактики, дальше самых отдаленных звезд.
Досягнете без поэтов, практики? Спутник вас дотуда не довез...
Теряя свою обычную объективность, Слуцкий здесь энергично вступается за лириков. Стихотворение явно писалось тогда, по горячим следам, но вышло к читателю только теперь, спустя многие годы. И хотя название его — «Лирики и физики» — возвращает нас к истокам той бурной дискуссии, тайный диалог с самим собою вышел за рамки конкретной, в свое время однозначно решенной проблемы, исподволь перешел в разговор о несколько иных вещах. Ибо Слуцкий здесь (и в стихотворении и в книге) по преимуществу лирик, поэт подчеркнуто лирического склада.
Конечно, в «Сроках» встречаются вещи, эпически окрашенные, характерные скорее для «хрестоматийного» Слуцкого. Стихотворение о трагическом времени в жизни нашей деревни, голоде начала 30-х, гнавшем людей в города, — такого рода пример:
...Из каждого товарняка
ссыпались слабость, хворость, робость.
И в нашей школе городской
крестьянские сидели дети,
с сосредоточенной тоской
смотревшие на все на свете.
Сидели в тихом забытьи,
не бегали по переменкам
и в городском своем житье
все думали о деревенском.
Ну кто еще из поэтов сумел бы так пронзительно сказать о чужом несчастье, чужой беде, кто горячей, гневливей вступился бы за другого? Тем более что собственное харьковское детство было тоже не очень-то сытое. Свое детство Слуцкий вспоминает часто, подробно, но отнюдь не жалостно, а жестко и, пожалуй, даже благодарно — за выпавшие трудности: «Я на медные деньги учился стихам,
на тяжелую, гулкую медь,
и набат этой меди с тех пор не стихал,
до сих пор продолжает греметь...».
«Им хлеб не выдан, им патрон недодано. Который день поспать им не дают...» — писал Слуцкий о своих однополчанах, писал «им», хотя естественней и правильней было бы поставить «нам». Впрочем, даже когда Слуцкий и ставит «мы», то чаще всего это до предела обобщенное «мы», как это явствует, скажем, из стихотворения «Кельнская яма», начинающемся: «Нас было семьдесят тысяч пленных в большом овраге с крутыми краями...»
И даже когда Слуцкий ставит «я», то часто это тоже до предела обобщенное «я», как, например, гигантское «я» стихотворения «Памятник»: «Дивизия лезла на гребень горы по мерзлому, мертвому, мокрому камню, но вышло, что та высота высока мне. И пал я тогда. И затих до поры... Расту из хребта, как вершина хребта, и выше вершин над землёй вырастаю. И ниже меня остается крутая, не взятая мною в бою высота...»
И более того, когда Слуцкий непосредственно обращается к фактам собственной биографии, когда на первый план выступает собственное «я», он старается оставить за кадром все то, что отличает его собственную жизнь от жизней миллионов, все то, чем разнится он от друзей и соседей. Зато как радостно пишет он портреты современников, как пристально внимателен к детали, как точно и тонко схватывает характер. И хотя в каждом портрете очевидно присутствие самого поэта, его герои важны ему сами по себе, вне связи с собственной персоной. Слуцкий очень верно определил свое местоположение в такого рода стихах: «Словно авторы средневековых картин, где-то сбоку я тоже стоял...» И если лирика, как он выразился, «отсебятина» (ибо «хочется основательно все рассказать о себе и о своей судьбе»), то собственная его поэзия едва ли подходит под такое определение, ибо центростремительный принцип в ней заменен центробежным.
И все же в своей новой книге Слуцкий сосредоточен прежде всего на себе. Не случайно здесь впервые появляется слово «автопортрет». И хотя появляется оно в полушутливом контексте, знаменует собою существенный поворот: Слуцкий думает о конкретном, живом человеческом «я»:
Неужели сто или двести строк, те, которым не скоро выйдет срок, — это я, те два или три стиха - в хрестоматии — это я, а моя жена и моя семья — шелуха, чепуха, труха?
Этот, казалось бы, странный вопрос Слуцкий адресует не кому-нибудь, а себе. Себе самому, твердо сказавшему некогда: «Мы только — постаменты статуй. Стихи должны быть лучше нас...» - решительно вынесшему за рамки своей поэзии все, что казалось сугубо частным. Этот вопрос о праве поэта не только на проповедь, но и на исповедь, праве, окончательно обретенном в книге «Сроки».
Отсюда и возможность рассказать о себе забавную историю, просто забавную, не содержащую особой морали. Таково, например, стихотворение «Знакомство с незнакомыми женщинами». Отсюда и возможность обнаружить некоторую свою растерянность перед лицом житейских обстоятельств и признаться в том как-то просто, по-домашнему:
...То ли тянуть, то ли решать, то ли проблемы разрешать, то ли сперва часок соснуть?
В этом сборнике вообще превалирует, вопросительная интонация, не свойственная категоричному, склонному к известной назидательности Слуцкому. Обычно этот поэт не спрашивает, а утверждает, настаивает, доказывает, с полнейшей убежденностью в собственной правоте. «Мои опаски и дрожанье моторам не передаются. Мои сомненья, и тревога не перекинутся к другому...» — писал Слуцкий, не позволявший своим чувствам бесконтрольно выплескиваться в стихи. Именно поэтому он никогда не делился с читателем своей свежей, кровоточащей еще печалью — он рассказывал, лишь справившись с нею, добыв из нее определенный урок. В новой книге этот принцип нарушается:
Темно. Темнее темноты, и переходишь с тем на «ты», с кем ни за что бы на свету, ни в жизнь и ни в какую.
Ночь посылает темноту смирять вражду людскую...
Начиная таким образом стихотворение, Слуцкий вводит нас в самое пекло своей маеты и сомнений, делая это, правда, на собственный лад, очень сдержанно, прячась за иносказание, которое, впрочем, тут же и расшифровывается:
...И возникает дружба от пустынности, отчаяния и оттого, что он живет здесь, рядом и молчание терпеть не в силах, как и я.
Во тьме его нащупав руку, жму как стариннейшему другу.
И в самом деле — мы друзья.
Оно очень непросто по интонации, это стихотворение. Ритм его труден, неровен, причем последняя пауза особенно выразительна. Слуцкий как бы разводит в недоумении руками, вынужденный констатировать непредсказуемость, прихотливость человеческой психики, странную природу человеческих привязанностей, возникающих подчас как бы поневоле.
Вот это «поневоле» представляется особенно трудным для Слуцкого, привыкшего пестовать в себе ясные, утренние настроения, не любящего ночных разгулов подсознания.
Кажется даже, что собственная работа сильно смущала его этой своей стороной, иррациональной своей подосновой. Стремясь доказать себе и читателю, что труд его «любому труду родствен», он без устали, подыскивал аналогии типа: «Все писатели — преподаватели. В педагогах служит поэт...» — пиитический восторг старался объяснить через менее элитарные эмоции: «Настроение как у дружинника в сухую погоду...»
Тайна и мука своего ремесла открываются Слуцкому в сборнике «Сроки»:
Если жизнь есть сон, то стихи — бессонница. Если жизнь — ходьба, то поэзия пляс. Потому-то поэты так часто ссорятся с теми, кто не точит рифмованных ляс.
Эта странность в мышлении в выражении, эта жизнь, заключенная крепко в себе, это — ежедневное поражение в ежедневно начатой вновь борьбе...
И хотя демократичный Слуцкий и заявляет здесь же: «Не люблю надменности поэтической, может быть, эстетической, вряд ли этической. Не люблю вознесения этой беды выше, чем десяти поколений труды...» — он все же позволяет себе погордиться немного своей «особой участью». «Расхождение с ровесниками начиналось еще с футбола, с той почти всеобщей болезни, что ко мне не привилась... — начинает, он стихотворение «Равнодушие к футболу». И продолжает дальше: — И пока бегучесть, прыгучесть восхищала друзей и радовала, мне моя особая участь тоже иногда награды давала, и, приплясывая, пританцовывая и гордясь золотым пустяком, слово в слово тихонько всовывая, собирал я стих за стихом».
Но стоп! Ведь нечто подобное мы уже читали у Слуцкого? Листая его прежние сборники, мы действительно находим стихотворение о равнодушии к футболу и о любви к стихам. Очень похожее стихотворение, но названное, однако... «Польза спорта»! И названное не случайно: те же самые факты интерпретируются здесь совершенно иначе. Кратко сообщив нам о своей нелюбви к футболу, Слуцкий тут же вспоминает собственную неспортивность, неуклюжесть на фронте и, обращаясь к читателю, строго заключает: «Советую меру во всем соблюдать — книги читать, козла забивать. Но пользу, которую может дать футбол, — не забывать». Это говорит Слуцкий-эпик, свой личный опыт приспосабливающий прежде всего для других, «не поэтов», их судьбами прежде всего озабоченный, их благом. Общая польза — главный критерий отбора, заслон, поставленный самим поэтом, не пропускавший в его сборники ничего специфически личного. Именно поэтому стихотворение «Польза спорта» в свое время увидело свет, а «Равнодушие к футболу» оставалось до поры в столе рядом с другими такими же стихотворениями, чтобы выйти к нам этой книгой.
Книгой, одним фактом своего существования выявляющей волевое начало поэзии Слуцкого, на свой лад высвечивающей его могучий поэтический характер.
И то, что именно этот сборник Слуцкого проиллюстрирован рисунками Родченко, художника, чье имя неразрывно связано в нашем сознании с именем Маяковского, внутренне оправданно. Приверженность определенной традиции, не единожды заявленная Слуцким, нашла здесь еще одно, казалось бы, неожиданное подтверждение.
Л-ра: Новый мир. – 1986. – № 1. – С. 251-253.
Произведения
Критика