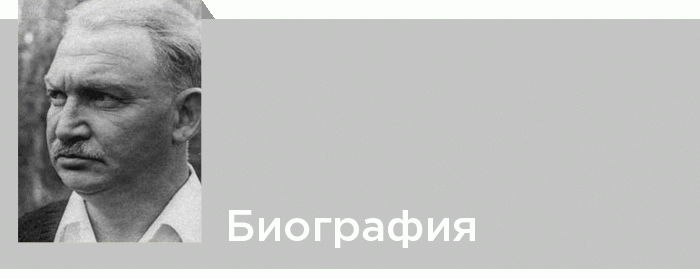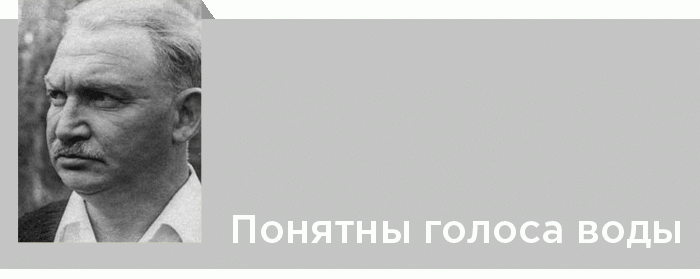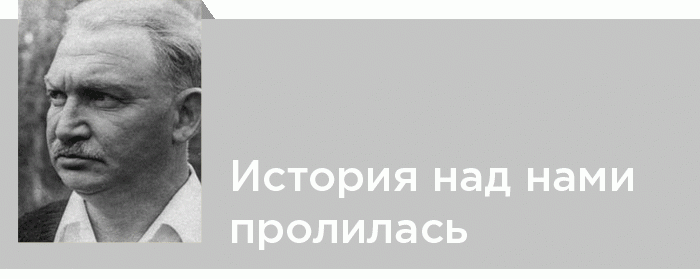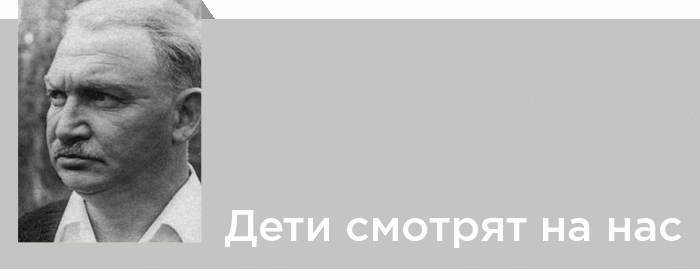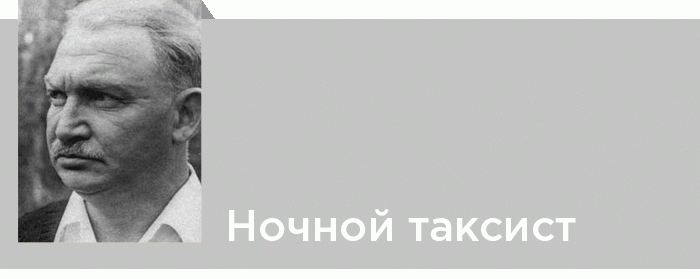«Стих встаёт, как солдат»

Адольф Урбан
1
Война сформировала военное поколение поэтов. Война стала их памятью, определила многие судьбы на целые десятилетия. Сколько бы «мирных» стихов ни написал Сергей Орлов, он навсегда остался поэтом фронтового братства. Он умер, а к нам еще шла книга его стихов «Костры», которая со всей очевидностью возвращала к началу к поэзии боевого мужества. Как бы далеко ни ушел к новым темам Александр Межиров, он по-прежнему числится среди поэтов «той войны». М. Луконин, С. Наровчатов, Д. Самойлов, К. Ваншенкин, Е. Винокуров, сколь бы ни различны были их пути, — всегда есть объединяющая их формула — поэты Великой Отечественной.
Но есть в этой общности и нечто более конкретное. Тяжелейшие испытания военных лет повлияли на самое их отношение к жизни. На стиль поведения. «Фронтовой быт влиял на поэтические жанры», — обмолвился однажды Борис Слуцкий. И надо сказать, следы этого влияния иногда прослеживаются на всем творчестве поэтов.
Один из узловых моментов — отношение их к прозе жизни в самом широком понимании слова. На фронте — к фронтовому быту, испытаниям огнем, холодом, железом. Пытке бессонницей, усталостью, окопной грязью. В мирное время — к быту ежедневному, к работе и семейным заботам, к дому, вещам, сослуживцам, соседям, ко всему тому, чем заполнен день обыкновенного человека от пробуждения до сна, от понедельника до субботы.
И опять, кого ни назови из поэтов «той войны», они решают для себя эти вопросы, акцентируют свою точку зрения, более того, создают свою форму, а порою и формулу этих отношений.
В этой статье речь пойдет лишь об одной творческой личности, но личности резко проявленной, точке зрения четко отпечатанной, стиле ярко выраженном, предельном в своей последовательности.
«Хочется писать так, чтобы стихи, оставаясь стихами, приобрели некоторые качества прозы — точность, нерасплывчатость, немногословность, даже иногда информативность в нынешнем смысле, — то есть прозы определенной, прозы пушкинской, прозы „Героя нашего времени"», — сказал своему корреспонденту Слуцкий.
Стих Слуцкого действительно напитан прозой. Он — поэт «от мира сего». Но, утверждая это, мы находимся на уровне типологического суждения. «Прозаизмы», «прозаизация» — понятия очень общие. И то, как на практике Слуцкий вводит в своя стихи «качества прозы», решительно отличает его от других поэтов, тяготеющих к прозе, скажем, от Твардовского или от Ваншенкина.
Вообще колебания в прозаизации стиха очень велики и неоднозначны. Можно даже утверждать, что тот же Твардовский, согласившись учитывать в поэзии опыт пушкинской или лермонтовской прозы, использовал бы его иначе, чем Слуцкий. А «информативность» стиха Твардовского, в котором почти непременно что-то «должно происходить», совсем не то же самое, что сгущенная фактологическая информативность у Слуцкого.
Короче говоря, «общее место», типологический принцип при конкретной реализации выглядит нередко чем-то очень особенным, резко индивидуальным. И если Твардовский в своей лирике глубокий аналитик, то Слуцкий — тоже аналитик, но совсем в другом смысле. У всякого анализа есть установка, и от этой установки зависит как ход самого анализа, так и его результат. Анализ вообще — без цели и смысла — так же не конструктивен, как и разрушение вещи, чтобы посмотреть, что внутри.
Слуцкий часто высказывал свои эстетические взгляды. Одно из его стихотворений так и называется «Метод». «Мир абстракций... — пишет Слуцкий, — никогда не посещался мной». Главное — факты, которые «накоплялись и сцеплялись». Но и факты он отказывается выстраивать в системы и концепций:
Что там ни толкуй ученый олух, я анатом, а не физиолог.
Не геолог я — промысловик.
Обобщать я вовсе не привык.
...Фактовик, натуралист, эмпирик, а не беспардонный лирик!
Малое знаточество свое не сменяю на вранье.
В этой декларации есть полемическое преувеличение, эпатаж, колючая усмешка. Но она исполнена серьезности. «Просто думаю, отнюдь не мыслю, и подсчитываю, а не числю». Излагать с неукоснительной верностью факты: «Ежели увижу — опишу то, что вижу, так, как вижу. То, что не увижу, — опущу. Домалевыванья ненавижу».
Подобного рода заявлений у Слуцкого десятки. Они варьируются, но бьют в одну точку: «Воспоминания — позолота, а память — свиная кожа. Воспоминания оботрутся, а память остается. Остается память тела...» Она — чуть ли не материальна. «Люблю донашивать старье», — пишет Слуцкий и сравнивает с этим старьем память: «память, по ее законам, мы на плечах носить должны». Она — обязательна, от нее нельзя уклониться, отвернуться, сбросить: «Не обходи необходимости, ведь все равно не обойти».
Само собою напрашивается сравнение «памяти тела» у Слуцкого и «воспоминанья ощущений» у Ваншенкина. Для Ваншенкина они — гарантия психологической достоверности. Для Слуцкого — «позолота». «Воспоминанья лучше вещей». Это — своего рода отрава: «Вот они, сладкие страшною сластью...»
Постепенно ослаблены пять основных, пять известных,
классических, пять знаменитых,
надоевших, уставших, привычных, избитых.
Постепенно усилено много иных.
Ощущения слишком локальны, слишком ограничены. Они не определяют человека и его деятельности. Есть более мощный двигатель, есть то, что «на развилке дорог почему-то толкало не влево, а вправо, или влево, не вправо, спирая... дух».
Что же это такое? Слуцкий прямо не отвечает: «То, что прежде случайно, подобно лучу, залетало в мою темноту, забредало, что-то вроде провиденья или радара...» — какой-то гибрид духовного, природного и механического! А рядом другие формулировки: «Мышцы умные и кости мудрые действуют толково, не спеша» — здесь соединение интеллектуального и физиологического.
Что же это на самом деле? Неужели заурядный натурализм, схематика, статистика! Внешне очень похоже, на самом деле — далеко не так. Выстроим в один ряд определения этого нового ощущения — «провидение», «радар», «понимает», «умные», «мудрые». Каждое из этих слов включает аналитический интеллектуальный момент.
Привожу целиком стихотворение «Ритм», для Слуцкого принципиальное:
С утра обнаруживаются ритмы в сердцебиении, а потом в ходьбе.
Сначала — в мерных движениях бритвы, потом, — в частотикающей судьбе.
Оказывается, есть порядок в расположении войск и грядок и в том, как падает в городе снег.
Порядок есть, беспорядка нет.
Выходит, что звезды точно выходят по положенным им местам, а солнце всходит и заходит там, где следует, именно там.
Поэтому мера свойственна обществу, и даже морю ритмично ропщется, и все, что на небе, в душе, на земле, можно выразить в точном числе.
Миром правит ритм, идет ли речь о природе, человеческом теле, обществе. Везде своя последовательность, мера, возможность точного числового измерения. Если говорить окончательный итог — есть непререкаемые законы. То же и в поэзии. Ей присущ ритм в его четком материальном выражении. Ритм поэзии строго согласуется с ритмом жизни. Законы жизни можно выразить языком поэта. Отсюда стремление к точности, аналитичности, формуле, к слову, максимально приближенному к реальной жизненной ситуации, — слову голому, «естественному», метко соотнесенному с вещью, событием или фактом.
Точно уловленный словом кусок жизни уже поэтичен, потому что не может не подчиняться определенному ритму, жизненному закону. Он таким образом входит в «сцепление» с потоком исторического бытия, где уже перестает быть частностью.
Стихи вынашиваются по диагонали комнаты — идет «постижение и преображение в мерные, ритмические фразы», которые упорядочивают все, «что упорядоченью подлежало». Выбившееся из ритма слово — фальшиво. Оно — рвет линию связи, нарушает ток жизни.
Упорядоченные, строго определенные словом, ритмически организованные факты — это лицо самой правды.
2
О военных стихах Слуцкого писали больше всего. Писали об их бесстрашной правдивости, бытовой достоверности, жесткости.
Один из последних и самых авторитетных отзывов принадлежит Константину Симонову: «И о войне, и о послевоенном времени Слуцкий написал много таких стихов, читая которые сплошь и рядом кажется: вот это ты хотел написать сам, но не написал, а вот об этом думал так же, как он, но у тебя твоя мысль не перешла в стихи, а у него перешла.
Я часто ловлю себя на том, что некоторые стихи Слуцкого о войне мне хочется кому-то прочесть вслух вместо своих собственных, ибо в них есть нечто или не увиденное мною, или не додуманное, или и увиденное, и додуманное — и все же невысказанное».
Смысл большинства отзывов — Слуцкий написал новую страницу о войне. Но есть тут одна неувязка. Появилась первая книга Слуцкого («Память») в 1957 году. К тому времени вышли десятки книг поэтов предвоенного и военного поколения — С. Гудзенко и А. Недогонова, М. Луконина и С. Наровчатова, М. Дудина и С. Орлова, А. Межирова, Е. Винокурова, К. Ваншенкина... И были в этих книгах правдивость, достоверность, быт — у Винокурова и Ваншенкина, может быть, более густой, чем у Слуцкого. Были, наконец, эпика и психологизм Твардовского. Была лирика Симонова.
Дело в том, что совсем не бытом, не натурализмом, не физиологией войны, о которых немало говорилось тогда в критике, примечательны стихи Слуцкого. Ближе всех к истине Симонов, заметивший, что он додумал не додуманное, досказал не досказанное, или написал то, что знали многие, но не довели до поэзии.
Слуцкий писал о том же, что и все, опирался на тот же материал. Но писал иначе, заботясь не столько о достоверности деталей и лирической проникновенности, сколько о стройности целых жизненных рядов и несомненности социальных выводов.
Фигура комбата, например, традиционна в военной поэзии. Это — образец строгости, за которой с некоторым удивлением открывались обыкновенные человеческие качества, странности и даже слабости. Стихотворение Слуцкого «Мой комбат Назаров» как будто вписывается в эту схему.
— Труса расстреляю лично я! — Говорил он пополненью.
Сдерживая горькое волненье, Слышали такое сыновья
Разных наций и племен различных, Понимая: расстреляет лично...
Дело правое была война, Для него же прежде всего — дело.
Лучшего не ведал он удела Для себя в такие времена.
А солдат берег. Солдат любил И не гарцевал. Не красовался,
Да и сам без дела не совался Под обстрел. Толковый был.
Описание до предела фактографично, как страница служебной характеристики. В ней ни одной частности, ни одной необязательной подробности, ни одного утепляющего словечка. Бывший агроном Назаров искусный вояка: «Поле, паханная им земля, мыслилась теперь как поле боя»; и он умело «разбирался в долах и горах, очень точно применялся к местности». Столь же аккуратно управляет он военным механизмом, храбрость стимулируя беспощадностью, а любовь проявляя в бережливости, хозяйственности, толковости. Война была для него делом необыкновенной важности и серьезности. И он весь в этом деле со всей его ненавистью и любовью, со всеми личными качествами.
У ранних Винокурова или Ваншенкина тоже много портретов, много описаний разных военных профессий. Но в центре именно быт — подробный, детальный, перечислительно-достоверный. Он подан как своего рода пейзаж или интерьер, освещенный ровным созерцательным чувством. У Слуцкого есть жесткие и энергичные определения, но быта по существу нет. Есть точка зрения на дело войны. Обнажен ее механизм. Обнажены отношения. Выявлен один из главных ее законов. «Мой комбат Назаров» — это не психологический портрет и не страничка воспоминаний. Это — тип поведения, образец военного искусства.
Что именно об этом речь, подтверждает стихотворение «Маршал Толбухин»:
Водительство полков
не ремеслом
Считал Толбухин, а наукой точной.
Смысл западный со сметкою восточной
Спаяв, он брал уменьем, не числом....
Любил порядок, не любил аврал.
Считал недоработкой смерть и раны,
А все столицы — что прикажут — брал,
Освобождал все — что прикажут — страны.
Тот же мотив: «Жалел солдат и нам велел беречь...»
Война у Слуцкого написана такой, как есть. Она кровава, жестока, необыкновенно тяжела. Но сколь бы ни был случаен ее отдельный факт, он всегда включен в единый ритм, подчинен общим законам войны. «Последнею усталостью устав», молча умирает солдат. Случай? «Он мог лежать иначе... Да мог ли? Будто? Неужели? Нет, он не мог. Ему военкомат повестки слал. С ним рядом офицеры шли, шагали. В тылу стучал машинкой трибунал. А если б не стучал, он мог? Едва ли». Все случилось так, как должно было случиться. Были и внешние и внутренние законы, которые привели его к гибели. Оттого и высока, и мужественна, и эпична эта смерть: «Лежит солдат — в крови лежит, в большой, а жаловаться ни на что не хочет».
У Слуцкого почти нет рассуждений о войне. Она показана с лицевой стороны и изнанкой. Она конкретна, требовательна, ощутима чуть ли не физически. То есть как бы составлена сплошь из личных впечатлений, которые в большей или меньшей степени случайны или субъективны. И каждое в отдельности стихотворение Слуцкого будто и есть такой случай. Но по сути это всегда — страница эпоса, истории, имеющей свои внутренние законы, действующие системно и охватывающие массы фактов.
Эпический подход к войне заявлен на малой площадке лирического стихотворения. Обнаружен как личный опыт, как знание, добытое собственным трудом. Но трактуется этот опыт исторически. Память, которую утверждал Слуцкий, была для него общественным долгом. Она являла события в зеркале массового сознания участников Великой войны.
3
Слуцкий запомнился стихами о войне. Но среди сорока стихотворений первой его книжки — о войне было лишь пятнадцать. В последующих сборниках — добавлялось пять-десять стихотворений. Слуцкий безусловно поэт современной темы. Или лучше сказать — историк современности.
Как это понимать?
Эстетика Слуцкого — «эстетика документа» (Вл. Огнев). Но эстетика голого факта никогда не возвышалась до поэзии. Изолированный факт мертв. Поэзия документа тоже обнаруживается лишь тогда, когда документ начинает посредничать между временами, участвовать в обмене эмоциональной информацией.
На поверхностный взгляд, Слуцкий и в своей истории современности кажется описателем-бытописателем. О чем, в самом деле, его стихи? Описание районной бани. Послевоенного пляжа. Громозвучных духовых оркестров. Старухи без стариков. Хор пенсионеров. Московские рабочие. Учителя. Дачники. Средние писатели. Псевдонимы...
Но вот строки из стихотворения «Цветное белье»: «Директорша развесила свои чулки свисающие. Врачихины заплаты журчали, как ручей, о том, что зарплаты нехватка у врачей».
А чем интересны бани? «Там ордена сдают вахтерам, зато приносят в мыльный зал рубцы и шрамы — те, которым я лично больше б доверял». Пляжи сорок шестого года — «клинопись недавнего боя, иероглифы этой войны».
Нет, не пустяки это белье, эти бани и пляжи! Но ведь это и не факты в их первозданном значении. Это ряды фактов, цепи фактов, факты-символы, факты-значения. За каждым из них — явление, образ жизни, масштабные события — война, бои, бедные радостями послевоенные годы, Они только на первый взгляд натуралистичны. Белье вопиет о скудной врачихиной зарплате, но это и «краски радуги», это — «житье, бытье, былье». Шкура солдатская, покрытая «сетью слепых, сетью сквозных», — «летопись эпохи огня». Случайности, частичности, пестрота этого жизненного мельтешения обманчивы. За ними стоит массовое, статистическое, типовое. Они внутри подчинены системе.
«Слуцкий... не использовал факты для иллюстрации идей или для подкрепления метафор, а сгущал сами факты до такой плотной консистенции, что они становились идеями, метафорами», — проницательно заметил Е. Евтушенко.
Когда размышляешь о книгах Слуцкого, прежде всего приходится говорить о проблемах. Но его книги плотно заселены людьми. Действуют в них не только армии, батальоны, толпы, социальные группы. О ком только не написал Слуцкий! О бабушке, отце, матери, друзьях. О безвестных Фоминишне и Захарове. Об известных поэтах Н. Асееве, Л. Мартынове, Н. Хикмете, так же как и о менее известных — М. Кульчицком, К. Некрасовой, Н. Глазкове... О художниках — П. Кузнецове, К. Петрове-Водкине, Мартиросе Сарьяне...
Однако среди бесчисленных действующих лиц, в сущности, нет психологических портретов. И если порой выделяется главная черта характера, она мыслится как начало типового ряда. В Асееве — одержимость поэзией, в Мартынове — неистощимая любознательность, в Глазкове — детскость...
В большинстве же случаев герои Слуцкого — это прежде всего слагаемые большого социального организма. И опять же в своем отдельном бытии — историчны, они как бы материализуют социальные обобщения. Частный человек, живущий в составе большого социального организма, находится в центре исторического действа: «Московские рабочие... могли всю жизнь шагов с пяти глядеть, как мчится вдаль всемирная история». Но то же и — старики, одногодки, «последнее поколение». Когда Слуцкий внимательно всматривается в эти общности, его анализирующий взор как бы делает поперечный временной срез, который немедленно выявляет свои исторические слои. Отдельная судьба вливается в общую колею. Образуется один узел — люди, социальные проблемы, автор.
В каком же соотношении находятся эти три точки отсчета? Или еще важнее: где искать человеческую правду жизни?
Решение Слуцкого опять же категоричное и определенное: она во всеобщем благе. К нему сводятся все главные проблемы. Ему служит своим творчеством и поэт.
Сам Слуцкий становится на точку зрения простого человека и последовательно ее придерживается. То, что хорошо, полезно, необходимо людям, вызывает и его одобрение, внутренние симпатии. Хороши первые послевоенные признаки благополучия: «пиджаки стандартные — фасон двуборт и одноборт, косоворотки аккуратные, косынки тоже первый сорт». Хороши девичьи танцы в обеденный перерыв под хрипотцу патефона. Хороши рациональные «дома конструктивистов, заводской окраины краса». Исключительное его внимание и самые сердечные слова вызывает то, что удобно, добротно, просто, разумно устроено. В людях же — деловитость, трудолюбие, хозяйственность, бережливость, смекалка. Иными словами, все то, что оборачивается на общую пользу.
Герой Слуцкого, каким бы именем он ни назывался, лицо собирательное: человек поступка, работник, строитель, заботящийся прежде всего о благоустройстве людского общежития, о пользе дела.
Бытовое, обыденное, ежедневно повторяющееся, свойственное многим, для Слуцкого не мелко и не антипоэтично. В своей массовости оно грандиозно, исторично, по-своему даже монументально.
Вторая Россия — та, что выстроена в наши личные времена,
та, что из бараков выселена, та, что в дома поселена.
Вторая Россия — шлакоблочная, не деревянная, не кирпичная, от первой России очень отличная, но все-таки добротная, прочная.
Новые города — батальоны одинаковых, как солдаты, домов, похожие на библиотеки, районы: целые полки ровных томов.
Мы их перестали замечать, эти дома-корабли. Они скучны, они надоели. Это быт, который уже воспринимается механически. А сколько эстетических вздохов произнесено по поводу уютных окраинных домиков с геранью и удручающей стандартизации нынешних жилищ.
Как смотрит на все это Слуцкий? Он имеет перед собой повсеместный массовый факт: огромную шлакоблочную Россию, последовательно заменяющую бараки, деревянные домики, кирпичные строения. И у него есть на это своя точка зрения: бараки лучше, чем пепелища военных лет, а шлакоблочные коробки («удобств — масса») лучше бараков, тоже, между прочим, стандартных.
Но как же с эстетикой? Эстетика внутри нас. Она заложена в идее прогресса: «Следующее после нас поколение... пусть оно берется за покорение не только комфорта, но — красоты».
Шлакоблочные дома Слуцкий не может воспринимать просто как унылый пейзаж. Это — Россия, выросшая на его веку. Она уничтожила бараки, потеснила коммунальные муравейники. Она дала людям хоть и маленький, но теплый и надежный угол. Для Слуцкого — это шаг истории, целый ее этап. Он должен был наступить и наступил. Это — история в современности, то, что уже нельзя отменить, вычеркнуть, обойти. История для него — высшая эстетика. Она же и — высшая правда. Потому что движение идет по восходящей линии. Слуцкий свято верит в «формулу всеобщего прогресса». «Неужели прадеды получше правнуков, тем более праправнуков? Разве мы такой итог получим, если подсчитаем и посравниваем?» — спрашивает он. Ответ — однозначен. Даже если сейчас худо: «Все образуется, устроится... Разлаженное — все наладится, обиженное — все заплатится...»
Формула прогресса зримо и незримо действует на всем пространстве его поэзии. Это — и факты, и убеждения, и доказательства. Наконец, это еще и некая нравственная атмосфера, обязывающая верить в прогресс и его проповедовать:
Человек не может жить без доводов,
Что дела — на лад, на лад идут,
Ежели чего-нибудь не вдоволь,
Будет вдоволь в будущем году.
Время — организованная, надличная, разумная сила. Оно «не спеша, не торопясь, без спора... отберет то, что стоит этого отбора». И Слуцкий заключает: «Получив отказ из всех инстанций, верю в этого я судию, не хочу с надеждою расстаться, времени бумагу подаю». Он полагает, что современность ежедневно уходит в историю. А потому нужно успеть записать ее как можно подробнее и правдивее. Поскольку прогресс постоянен и неотвратим, то плохих времен не бывает. Бывают эпохи трудные, но они же и самые «историчные», потому что через них, через перелом или сдвиг к лучшему прогресс выявляет себя с наибольшей очевидностью. Потому и нет для Слуцкого мелких фактов. Все они имеют свое реальное положение в могучей ритмике исторического прогресса. Враждебные ему, они создают отрицательные силовые линии. Совпадая с ним, имеют положительный знак. Все факты важны, надо только уметь найти для них место в этом туго закрученном ритме, на этом тесном историческом поле, столь насыщенном событиями.
4
Слуцкий, как уже говорилось, на все имеет свою точку зрения, но он не любит абстракций. Не любит зыбких психологических форм изъяснения. «Поэт не телефонный, а телеграфный провод. Событье — вот законный для телеграммы повод» — знаменитый афоризм Слуцкого. Но он говорил и резче: «Стих встает, как солдат. Нет. Он - как политрук». Стихи слагают, «как роту в атаку подъемлют». «Поэты отличаются от прочих людей приверженностью к прямоте и краткости».
Стих-событие, стих-вещь, стих-команда, наконец, стих-доказательство.
Слуцкий восхищается Бертольдом Брехтом:
Фонетика какая!
Треск и лязг!
А логика какая!
Гегель с Кантом!
Зато лирических не точит ляс.
Доказывает!
С толком и талантом.
Это — высшая хвала. О своем стиле Слуцкий говорит, что он пригоден «подать совет, который будет точным и толковым».
Стихи — это еще и совет: «Все писатели — преподаватели. В педагогах служит поэт».
Слуцкий — социальный моралист. Он не только пишет историю современности. Он ее преподает. И снова все упирается в главное: «У народа нет времени, чтобы выслушивать пустяки».
Однако история не только факты, но и идеи. Значит, и идеи нужно мыслить как факты, мыслить материально. Идеи вне событий, вне фактов, вне материальной оболочки если не сомнительны, то, по крайней мере, недостаточны. И у Слуцкого материален прогресс, заменяющий бараки на шлакоблоки. Материальна — история. Его десантники по сигналу ракеты «шагнули вперед. На весы истории грузно упали». Материальны — привычки: «эта домашняя мебель чувств, домашние туфли страстей, разношенные, незамечаемые». Материальны сами чувства: «Стыд-гонитель и ревнитель, и мучитель, и учитель», «Я стыду-богатырю, сильному, красивому, говорю: благодарю. Говорю: спасибо!» Способность краснеть Слуцкий называет «наружной совестью». Так что и совесть — материальна.
Материально наше восприятие времени и его законов.
Что же придает всей человеческой деятельности материальность?
Труд. Одна из книг Слуцкого так и называется — «Работа». В работе выражается человеческое «все». История, военная и мирная, — работа. Прогресс — работа. Жизнь человека — работа, будь он художник самого высшего разбора или грузчик, каменщик, паяльщик. Реализация последних в системе прогресса даже более очевидна: «Ваяющие мало наваяли. Паяющие больше напаяли». Хотя и художнику оставлена надежда все в тех же параграфах исторических законов: «Потомки разберутся, где стезя, где просто блажь — его, моя ли».
Глядя на систему причинно-следственных связей, жесткую согласованность посылок и выводов, на овеществление и даже технизацию внутренней жизни человека, Слуцкого можно было б упрекнуть в механическом материализме. И все же — «огонь касается огня». Выход в сферу духа оставлен.
Но и дух — не абстракция, не вневременная бесконечность. Душа если что и предлагает миру, «то в виде опыта». Она сохраняет притяжение земное.
Давно вошла в поэзию ласточка как образ вольности, свободы, полета. М. Цветаева сделала ее символом свободы: «Психея, ласточка, душа». Без разночтений этот образ заимствовал у нее Е. Винокуров: «Моя Психея, ласточка, душа». А. Кушнер — с вариациями: «В самом деле хороша, бесконечно старомодна, тучка, ласточка, душа! Я привязан, ты — свободна».
Включился в эту перекличку и Слуцкий. Иронически извинившись перед романтиком, он называет свою ласточку «цепной»:
Цепная ласточка, а цепь стальная, из мелких звеньев, тонких, но стальных, и то, что не порвать их,— точно знаю.
Я точно знаю — не сорваться с них.
А синева, а вся голубизна!
О, как сиятельна ее темница!
Но у сияния свои границы: летишь, крылом упрешься, и — стена.
Цепной, но ласточке, нет, все-таки цепной, хоть трижды ласточке, хоть трижды птице, ей до смерти приходится ютиться здесь, в сфере притяжения земной.
Слуцкий признает за ласточкой самую высокую степень свободы («трижды птица») и тут же ее ограничит естественной средой обитания — синевой небесной, притяжением земным. Эти категорические условия — «цепь стальная», «стена», «сиятельная темница», — они означают границы реального, границы возможного. Даже в свободном поэтическом порыве души Слуцкий не допускает выхода за эти границы.
В чем смысл последовательной обусловленности, материализации, даже механизации, которых так неукоснительно добивается в своих стихах Слуцкий? Что это, отказ от поэзии, полемическое ее снижение или утверждение собственного принципа?
Ответ был дан еще в стихотворении «Физики и лирики», заглавие которого стало поговоркой. Но теперь мало кто помнит сами стихи или хотя бы последние их строчки. А там сказано: «словно пена, опадают наши рифмы и величие степенно отступает в логарифмы». Сказано это серьезно, без тени усмешки, и Слуцкий не был бы самим собой, если бы не извлек из этого утверждения жизнетворческий вывод. Сделать его нетрудно: либо вовсе не надо писать стихи, раз они противоречат «мировому закону», либо следует их писать так, чтобы они были с ним в согласии.
Рифмы не должны казаться пеной, стихи — эфемерной поденкой. Необходимо утяжелить содержание. Стиху нужна фактография, информация, число, поддающееся логарифмированию. Иначе говоря, поэзия должна стать средством познания, содержать не груду описательного материала или зыбких настроений, а твердо установленные принципы и законы, близкие к научным. «Мне с детства по сердцу был, по нраву мир, где царило двойное право: право труда и право таланта, где можно было считать и мерить и только подсчитанному верить».
О счете, мере, весе Слуцкий говорит все время. Да и стихи свои строит так, чтобы в них ощущалась материя, поддающаяся этим операциям. Потому так последовательно он материализует даже духовные процессы, овеществляет чувства.
Слуцкий не просто социальный поэт в традиционном смысле слова. Но поэт-социолог. Вот почему для него важны типовые ситуации. Ритмы общественных процессов. Материальное выражение психики. Накопление однородных фактов, поддающихся если не счету, то широкому типологическому обобщению.
5
Идея ввести в стихотворение число и научную формулу не нова. Такие попытки были у В. Хлебникова. Естественнонаучные и натурфилософские посылки держал на примете ранний Н. Заболоцкий. Материализацию идей и чувств как литературный прием для своих художественных целей широко применял В. Маяковский. Так что предшественники у Слуцкого есть, и предшественники — авторитетные.
При всем том носили эти попытки чаще всего экспериментальный характер. В них не было, за исключением, может быть, лишь Хлебникова, системности. Многое шло от литературной полемики.
Слуцкий фактограф не в риторическом смысле слова. Он извлекает факты из своей биографии и к ним подстраивает сотни подобных. Он наблюдает факты вовне и находит им аналогичные в своем опыте. Он выстраивает их в цепочки, применяя к ним принципы социологического исследования.
Фактографом в его стихах управляет аналитик. Над аналитиком стоит социальный психолог, наблюдающий не индивидуальный процесс чувствования, а его общие ритмы и результаты сложения конкретных психологических состояний в законы социального поведения.
Казалось бы, при таком подходе и вовсе нет места отдельному человеку с его личной жизнью, с его собственной волей. Остаются только силовые линии, которые держат его в своем силовом поле, двигая по заданной орбите.
Однако все куда сложнее. Человек — зерно, которое проходит через самые тяжелые жернова: «Каким давлением давили! Каким томлением томили!» Но лучшее из зерен остается зерном:
Он сохранил свою структуру, свой смысл, свой внутренний закон.
В утиль или в макулатуру не дал себя отправить он.
Другой вариант — вариант военной общности. Тут сила ломит силу. Одинокому сердцу, брошенному на раскаленную почву боя, не выдержать. И кажется, «чтобы продержаться, надо сжаться, надо вжаться и на уровне нулевом устоять на ветру пулевом». Но страх говорит одно, внутренний закон поведения — другое. И несмотря на всю свою парадоксальность и кажущуюся жестокость, он и более надежен, и более гуманен:
Нивелируя взгляды, взлеты, успокаивая сердца гуд,
пулеметы и самолеты под нулевку бреют, стригут.
Несмотря и невзирая, не учитывая
рост и объем, высовываемся,
презирая
всю цифирь,
над огнем встаем.
Эта способность встать во весь рост, подняться над огнем, вопреки «цифири», вопреки смертной опасности, есть самое главное и надежное жизненное положение.
Наконец, вариант третий, заключительный, обобщающий — вопрос выбора: «Выбираешь, не требуя выгод, не желая удобств или льгот...» Выбираешь свободно, справедливо, сам. Но оказывается:
Выбираешь, а выбор задолго сделан, так же и найден ответ — смутной, темной потребностью долга, ясной, как ежедневный рассвет.
С той поры, как согрела планету совесть
и осветила мораль, никакого выбора нету.
Выбирающий не выбирал.
В поэзии Слуцкого — при кажущейся ее аналитической дробности, отдельности наблюдений, пестроте сюжетов — есть жесткий порядок. Есть постоянное ощущение смысла и цели высказывания.
Запись у Слуцкого, сколь бы случайной она ни выглядела, всегда аналитична. Прежде чем оказаться на листе, она прошла оценку по сути — на историческую достоверность, правдивость, важность. У нее есть необъявленное место в эпической панораме.
Многие стихотворения Слуцкого на наших глазах строятся как рассуждение, где есть посылка, фактические доказательства, вывод. Стихотворение «Страх» начинается вопросом: «Чего боится человек?» «Прошедший тюрьмы и окопы», «купанный во ста кровях», он, кажется, абсолютно бесстрашен. Вывод же в духе Слуцкого — моральный, указывающий на закон, которым держится это бесстрашие: «Зато презрения друзей он, как и век назад, боится».
Чем с большей силой проявляешь характер, стойкость, мужество, чем больше в тебе отваги, чем яснее твои ответы на требования жизни, чем решительнее твой выбор, тем меньше ты выбираешь, тем очевиднее он происходит, сам собой, продиктованный неукоснительными требованиями морали и долга. Да и по сути он вообще единствен — «затем, что иначе нельзя».
Что же это — софизм? Для Слуцкого это все та же постоянно действующая идея прогресса. Она притягивает к себе все самое лучшее, самое живое, самое сильное и ими повелевает. Прогресс — это не только благоустройство общежития. Это и идея всеобъемлющего улучшения, следовательно, идея нравственная, призывающая к исполнению долга. Пока ты не стал личностью, ты не способен еще к выбору. Как только в тебе прорезается личность, ты в силу неотвратимо действующего закона выбираешь единственное — путь чести. Он — труден, порою гибелен. Но только на этом пути твоя жизнь становится подлинным фактом. Только здесь она — обыкновенная из обыкновенных — обретает историческое значение.
6
Слуцкий — поэт сего мига, сего часа, сего дня. Он — поэт современности. Об этом свидетельствует все, от мелочей и обмолвок до принципиальных деклараций и типологических обобщений.
Век двадцатый. Моя ракета, та, что медленно мчит меня, человека и поэта, по орбите каждого дня!
Век двадцатый! Моя деревня!
За околицу — не перейду.
Лес, в котором мы все деревья, с ним я буду мыкать беду.
Век двадцатый! Рабочее место!
Мой станок! Мой письменный стол!
Мни меня! Я твое тесто!
Бей меня! Я твой стон.
Но, как и все локальное, фактичное, точно сформулированное имеет у Слуцкого дальнюю цель, так и эта привязанность исключительно к современному не слепа и не безрассудна. Ограничиваясь современностью, Слуцкий тут же исподволь это ограничение снимает.
Слуцкий стремится, чтобы «дребезг зеркала, осколок вечность отразил стремглав». Он торопится свой «малый опыт» прибавить к общему движению жизни, сказать свою фразу в нескончаемых спорах, которые ведутся дольше человеческой жизни.
Капля в океане, протон «в потоке искусства», словечко в языке, труба в руке судьбы, на которой она «исполняет одну из важнейших ролей», — постоянные соотношения у Слуцкого. Начиная с малого, он держит на примете большое; фиксируя временное и даже мгновенное, думает о вечном.
В стихотворении Слуцкого, в сущности, нет расстояния между сиюминутным и историческим. Легкий поворот темы, и мы уже видим временную даль. Изменение масштаба происходит почти мгновенно, так же как и внутреннее ощущение пропорций: от непосредственного чувства предмета к его положению в большом мире.
Снова стол бумагами завален.
Разберу, расчищу уголок,
Между несгораемых развалин Поищу горючий уголек.
Вдохновений ложные начала,
Вороха сомнительных программ —
Чем меня минута накачала —
На поверку вечности отдам.
А в тупую неподвижность вечности,
В ту, что не содвинут, не согнут,
Посмотрю сквозь призму быстротечности Шустрыми глазищами минут.
Без этого второго высокого и далекого плана не было б и поэзии Слуцкого. История, прогресс, вечность — именно в их ритм вписывается современность. В их освещении она становится эпичной.
В книгах Слуцкого нет ни одной поэмы. Но все его книги по сути своей эпичны. Почти каждое стихотворение — это малый эпос, держащий на примете большую цель — правду поколения, времени, переживаемой эпохи. Это — летопись, в которую включены как память, так и нынешний день. Преходящее мыслится одновременно и как историческое. Обыкновенный, прозаический, но типологически характерный факт извлекается из суеты, из потенциального небытия и включается в поток большого времени, где измерения уже другие, протяженность большая.
В известном смысле человек — точнее, человечество - владеет вечностью, а не она поглощает его. Еще и потому для Слуцкого так важна история современности, подробный ее состав, даже те мелочи, которые, казалось бы, ничто перед вечностью. Но в том-то и дело, что вечность материализуется в них. Чем плотнее вещество длящейся жизни, тем действительней сама вечность. Она не противопоставлена жизни, а составлена из ее материи, из ритмов, ей присущих.
7
Кажется, Слуцкий задается целью достигать поэтического уровня исключительно прозаическими средствами. У него по сути нет никаких границ между стихом и прозой. Он сознательно уничтожает эти границы. Намеренно прозаизирует стих, чтобы дать ему рабочую закалку, грузоподъемность, плотность. Его поэзия вообще прозаична, прозаична в основе, по главным своим принципам — от миропонимания до языка.
Прозаична до такой степени, что ориентирована не только на скупую* «голую», как называл ее Лев Толстой, прозу пушкинских повестей, но и, может быть, в еще большей степени на прозу нехудожественную. На социологическое исследование. На историю быта. На статистические обобщения, обнимающие целые груды фактов. Она близка научному исследованию и популярному очерку. Документу и деловой записи.
Главный же ее герой — человек массы, работник, рядовой участник исторического движения, который составляет абсолютное большинство населения и, следовательно, тесно заполняет все поле жизни, несет на своих плечах весь груз истории. В своей общности, как целое он — монументален. В каждом частном случае — рядовой из рядовых. Диалектика его общего бытия и его частного поведения эпична. Более того, перед поэзией Слуцкий ставит не только эпические, но и информационные задачи. Стих — кладезь знаний самого разнообразного профиля — от бытового антуража до социальной психологии, от семейных отношений до военного искусства и экономических проблем.
Новые кварталы и новые квартиры. Засуха 1946 года и уборка обильных урожаев в 1960 году. Послевоенные моды. Женщины без мужей. Коммунальные углы. Спутники и лунники. Физики и лирики. Пророки и прогнозисты. И многое, многое другое... Обо всем этом не только упомянуто в стихах. В каждом случае читатель получает убедительную информацию, помогающую понять суть дела.
Для Слуцкого нет событий второстепенных, вещей прозаичных, слов непоэтичных. Все «толковники очень толковы» от Даля до Ушакова. Но еще богаче и существенней жизнь «толпоголосого говора». Надо слушать, говорит Слуцкий,
Судью — в приговоре и стороны — в договоре...
И просто людей в простом бытовом разговоре.
Из канцелярита —
руды, осужденной неправильно,
немало нарыто.
Немало потом и наплавлено...
Оттого стих Слуцкого порой кажется рифмованной прозой. Он деловит, точен в формулировках, рассудочен, суховат. Поэт иногда — чтобы предельно обнажить смысл — демонстративно выбирает «непоэтические» слова и выражения: «Нет времени для болтовни, а слово — говори любое, лишь бы хватало за сердце, лишь бы дошло, лишь бы прожгло, лишь бы победе помогло».
«Любое» слово — не какое пришло на ум, а то, которое точно определяет предмет, противостоит болтовне, красноречию, абстрактной художественности. Внутренние рифмы — «дошло», «прожгло», «помогло» — с точки зрения поэтического профессионализма — примитив, антимастерство, снижение классической нормы.
И так в самые ответственные моменты Слуцкий будет снова и снова переходить на этот немудреный лад раешника, ослабляя профессиональную изощренность, чтобы тем весомее и прямее представить шершавую истину.
Слуцкий то и дело нарушает привычное течение стиха, чтобы заявить о свободе обращения со словом, ради обязательности смысла.
Так и будет он вставлять в стихи реченье, подчеркнуто обыкновенное и разговорное, и канцелярское, и жаргонное, и профессиональное, и диалектное... Не ради их самих, а там, где необходимо, чтобы стихи держать на земле. «Я исходил из хлеба и воды», — скажет о почве своей поэзии Слуцкий.
Его стих иногда звучит глухо, хрипло. В нем нередко подчеркнуты согласные. Выстраиваются длинные цепи омонимических или очень близких по звучанию, однотипных рифм, замыкающих уплотненные смыслом строчки.
Долго играет долгоиграющая, долго, словно поездка на долгих.
Дол и гора еще.
Дол и гора еще.
Долго.
Наконец, Слуцкий скуп на эмоции, внешние проявления чувств, на их оттенки. Он готов в который раз проявить твердость, непреклонность, выдержку и не дать воли импульсивному порыву или сантименту. У него есть стихи о преодолении страха, о преодолении боли, хвори, усталости. Вообще там, где, казалось бы, должен начаться эмоциональный комментарий, он ставит точку. Слуцкий предпочитает, чтобы читатель использовал собственные духовные запасы, входя в жизненные обстоятельства, сполна представленные в стихотворении. Он обращается прежде всего не к так называемым
Чувствительным струнам души, а к моральному чувству, которое уже содержит разумные обоснования и понятия о долге.
Эта сдержанность в чувствах — еще одно свойство, которое уводит его от лиризма. Кажется, наступает предел, за которым поэзия перестает быть поэзией. То есть наступает такая прозаизация, когда написанное стихами уже не воспринимается как стихи. Когда мы перестаем чувствовать их эстетическую закономерность, теряем из виду ту гармоническую линию, которая охватывает некий мир ценностей, эмоционально для нас привлекательный.
Слуцкий действительно работает на пределе риска. Некоторые его стихи и в самом деле проваливаются в рифмованную прозу и не в состоянии вызвать эмоциональный отклик. И все-таки в сознательно прозаизированных стихах Слуцкого живет подлинная поэзия.
Он практик, эмпирик, фактограф, но не утилитарист. Ему нужна «логика счастья», которое бы «отсчитывалось от бесконечности, а не от абсолютного нуля».
Сдержанность — безусловная. Но не холодность, не бесстрастие, не безучастие летописца. Когда Слуцкий выкладывает на бумагу накопленный опыт, его одушевляет чувство: так это было, вот — правда! Он дорожит эффектом присутствия, свидетельства, участия, собственным путем добытого опыта. В его безоглядном анализе и познании есть ощущение своей судьбы:
Жизни, смерти, счастья, боли я не понял бы вполне,
если б не учеба в поле — не уроки на войне.
Объяснила, вразумила, словно за руку взяла
и по самой сути мира, по разрезу, провела.
Этот болевой разрез постоянно присутствует в стихах Слуцкого. И столь же очевидно их внутреннее пространство: «Делайте ваше дело, поглядывая на небеса». Наконец — эпоха, история, вечность. Он терпеть не может абстракция, но в конкретном жизненном действии стремится к пределу.
Наконец, постоянное внимание к типологии, к движению больших социальных общностей, к законам истории дает Слуцкому особое чувство ритма. Этот ритм он с необыкновенной чуткостью улавливает в жизни, в истории, в стихе — в его общей структуре и в звучании отдельных элементов: рифмах, перекличках слов, повторах, инструментовке.
О ритме в разных аспектах — от ритма времени и человеческой жизни до мигания маяка и ритма стихотворения — Слуцкий пишет очень часто. Это тема для специального разговора.
Приведу только один пример из стихотворения «Белые руки»:
С мостков, сколоченных из старой тары,
но резонирующих на манер гитары, с мостков,
видавших всякое былье, стирала женщина белье.
...Казалось, что закат затем горит и ветер нагоняет звезды снова,
чтоб освещать и стирки древний ритм, и вечный ритм течения речного.
Над белой пеной мыла, белой пеной реки,
белея белизною рук, она то нагибалась постепенно, то разгибалась вдруг.
Белели руки белые ее, над белизной белья
белели руки, и бормотала речка про свое: какие-то особенные звуки.
Поистине, как сказал Слуцкий в другом месте, «стих не только звучит. Обязательно — значит. Стих не только значит. Необходимо — звучит». Звучание, соответствующее смыслу, безоговорочное требование Слуцкого к поэзии — ее закон. Это — обобщающий эпический принцип, связанный с миропониманием поэта и с его природной чуткостью.
На стихотворении «Белые руки», кажется, можно было б показать едва ли не все слагаемые поэтики Слуцкого, ее содержательных и формальных элементов.
Прежде всего, это его тема — непритязательный, обыденный, повторяющийся факт. Он взят с грубой прямотой и определенностью: не просто белье, тем более не батистовое или кружевное, но «исподнее и тельное». Одним словом — белье для всех, ежедневное, заношенное, грязное.
Далее. Речь идет о главном — о работе, которую нельзя не делать, которая есть условие жизни и естественное состояние человека. И производится она не на мраморном пьедестале, а на шатких и неудобных мостках «из старой тары». Но работа как закон человеческого бытия, как его суть не только обязательна и трудна, но и красива. Поэтому с самого начала она музыкально инструментована. «Старая тара» начинает резонировать гитарным перебором: «на манер гитары». С какой легкостью, лихостью, ловкостью несутся эти гитарные «стар» — «тар» — «рез» — «нир» — «нер» — «тар».
Но работа — не игра. Работа есть работа — и как тяжело, с каким пониманием звучат идущие вслед длинные параллельные строчки: «видавших всякое былье» — «стирала женщина белье».
Так и течет работа в радостном музыкальном ритме. Читайте дальше мелодию: «над белой пеной мыла, белой пеной реки, белея белизною рук». И — тяжелом мускульном усилии труда: «то нагибалась постепенно, то разгибалась вдруг».
Однако Слуцкий не натуралист, не жанрист, не пейзажист. Он стоит на факте, но не делает с него фотографии или слепка. Все это действо включено в социальный круговорот: «с мостков, видавших всякое былье». В круговорот истории: «стирки древний ритм», в круговорот природы: «вечный ритм течения речного».
Все стихотворение звучит необыкновенно богато. Ритм накладывается на ритм. Один ряд звучания усиливается и поддерживается другим, пока частная тема не окажется в мощном ноле истории, природы, вечного времени. Так мы прикасаемся к лирическому нерву поэзии Слуцкого, к ее внутреннему строю, где царит особый ритм, где есть своя гармония и свой всеохватывающий закон.
Сознательная прозаизация и материализация стиха, сниженная его лексика, весь тот груз фактов и доводов, та исключительная социологическая насыщенность, которая была бы тяжела даже для повести или романа, компенсируется усилением других элементов стиха, исключительным чувством ритма, инструментовкой, игрой сложнейших повторов и звуковых перекличек, где все имеет значение — фонетическая близость слов, цепочки изощренных рифм, игра омонимов.
Слуцкий ставит перед поэзией задачи, часто непосильные даже для художественной прозы, и все-таки не роняет достоинство стиха. Нарушив один его закон, усиливает действие других так, чтобы ощущалась грубоватость и небрежность обыденной речи, подчеркивая полнейшую ее непринужденность и естественность, и в то же время строит стих, с особой наглядностью демонстрируя ритмический свой узор, звуковую необычайность, гармонирующие линии и контрастные пятна.
«В традиционном смысле, — писал Межиров, — стих Слуцкого немузыкален. Но, поэт крупного таланта, он одухотворил стихи собственной неповторимой музыкой, выковал ямбы из неподатливого материала, тяжко раскачал ритм, наполнил паузы своим строгим звучанием».
Остается, однако, фактом, что поэзия Слуцкого стоит сегодня на последней ступени прозаизации. Она сколь заманчива, столь же и рискованна. Насколько этот риск оправдался, сейчас отвечать рано. Аскетическая поэзия Слуцкого, взращенная на скупом пайке войны, вот уже тридцать лет торит самостоятельную дорогу. Многие его стихи живы и будут жить долго. Его же поэтическую систему ждут новые испытания. Жизнеспособна ли она как целое, покажет будущее, ее крайности полемически противопоставлены романтической поэтике и риторической публицистике.
Л-ра: Звезда. – 1984. – № 4. – С. 188-200.
Произведения
Критика