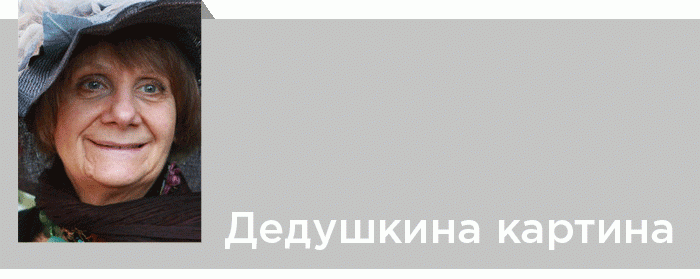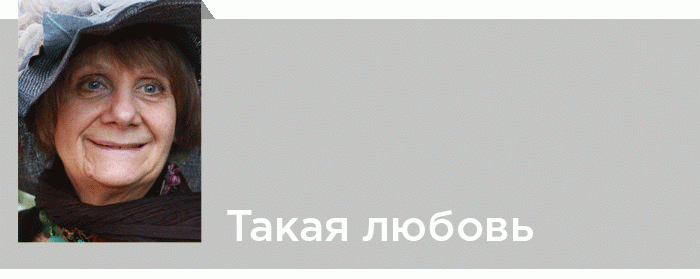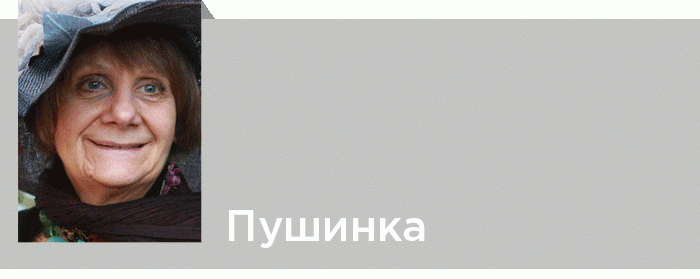Быт и бытие в прозе Людмилы Петрушевской
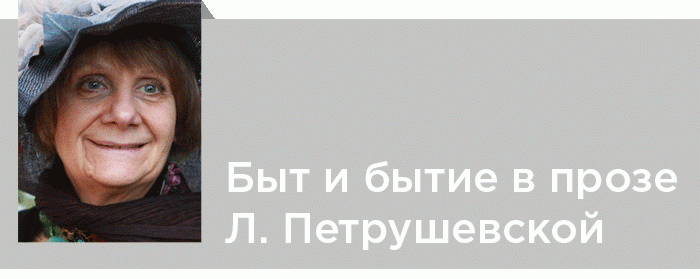
Алексей Куралех
Повесть «Время ночь» и цикл рассказов «Песни восточных славян» как бы два противоположных начала в творчестве Людмилы Петрушевской, два полюса, между которыми балансирует ее художественный мир.
В цикле «Песни восточных славян» перед нами проходит ряд странных историй, «случаев» — темных, страшных, ночных. Как правило, в центре повествования стоит чья-то смерть. Смерть необычная, вызывающая ощущение зыбкости границы между реальным и ирреальным миром, между существованием мертвых и живых.
В начале войны к одной женщине приходит похоронка на мужа-летчика. Вскоре после этого у ее дома появляется странный молодой человек, худой, изможденный. Молодой человек оказывается ее мужем, дезертировавшим из армии. Однажды он просит женщину пойти в лес и закопать обмундирование, которое он оставил там, когда уходил из части. Женщина закапывает какие-то обрывки летчицкого комбинезона, лежащие на дне глубокой воронки. После этого муж исчезает. Потом он является женщине во сне и произносит: «Спасибо тебе, что ты меня похоронила» («Случай в Сокольниках»).
А вот — другой случай.
У одного полковника во время войны умирает жена. После кладбища он обнаруживает, что потерял партбилет. Во сне к нему приходит умершая и говорит, что он уронил билет, когда целовал ее в гробу. Пусть он откопает гроб, откроет его и достанет билет, но не снимает покрова с ее лица. Полковник так и делает. Лишь покров с лица жены снимает. На аэродроме к нему подходит какой-то летчик и предлагает доставить в часть. Полковник соглашается. Летчик прилетает в глухой темный лес. На поляне горят костры. Вокруг ходят люди, обгоревшие, со страшными ранами, но чистыми лицами. И женщина, сидящая у костра, произносит: «Зачем же ты посмотрел на меня, зачем поднял покрывало, теперь у тебя отсохнет рука». Полковника находят на кладбище без сознания у могилы жены. Его рука «сильно повреждена и теперь, возможно, отсохнет» («Рука»).
Постепенно из этих необычных, странных сюжетов складывается картина особого художественного мира, особо воспринимаемой жизни. И в этом восприятии есть что-то неуловимо детское. По сути, это отголосок тех «страшных» историй, которые мы не раз слышали и сами рассказывали в школе или в детском саду, где даже смерть — не тайна, а лишь загадка, лишь интересный страшный случай жизни. Чем интереснее сюжет — тем лучше, а чем он страшнее — тем интереснее. Чувство страха при этом оказывается чисто внешним.
Петрушевская прекрасно владеет этим «детским» материалом. В нужный момент мы насторожимся, в нужном месте по спине пройдет легкий холодок, как когда-то в темной комнате пионерлагеря. (Разумеется, это случится, если читатель — не заядлый скептик и принимает условия игры.) Владение жанром настолько виртуозно, что в какой-то момент начинаешь задумываться о сходстве не только манеры повествования ребенка и рассказчика, но и об общности детского мироощущения и мироощущения автора.
В художественном мире этих рассказов отчетливо ощутимо то же «детское» чувство дистанции между событиями и автором. Кажется, что эмоции героев, их характер, судьбы в общем безразличны ему, интересны лишь перипетии отношений персонажей, населяющих рассказы, их совокупления, их смерть,— автор не в жизни, не слит с нею, не ощущает ее как нечто свое, созвучное, кровное, близкое...
Но такой взгляд извне таит серьезную проблему, несет в себе оттенок искусственности. В самом деле, отстраненный взгляд ребенка на мир взрослых естествен, он не нарушает общей гармонии детской внутренней жизни. Ибо у ребенка есть своя, скрытая жизнь, отличная от жизни взрослого. В ней царит гармония, красота, а вся абсурдность и весь ужас внешнего, взрослого мира — не более чем интересная игра, которую в любой момент можно прервать, и конец ее неизбежно будет счастливым. Ребенку незнакомо мучительное чувство тайны жизни — он хранит эту тайну в себе как нечто изначально данное и, лишь повзрослев, забывает ее. Кстати, именно такое восприятие жизни характерно для детских пьес Петрушевской — странных, абсурдных, но несущих в себе естественную гармонию игры.
В отличие от ребенка, взрослый человек лишен счастливой гармонии замкнутой внутренней жизни. Его внешнее бытие и его внутренний мир развиваются по одним я тем же законам. И смерть — не игра, а гибель всерьез. И абсурд — не веселое представление, а мучительное чувство бессмысленности существования. Характерная условность, абсурдность, театральность многих взрослых вещей Петрушевской, как пьес, так и рассказов, оказывается, лишена той естественной легкости и внутренней гармонии, которая присуща ее детским произведениям. Попытка детского отстранения от жизни на взрослом материале, на взрослом чувствовании жизни неизбежно приводит к утрате единства мира, к его надлому, к жесткости. Не детской жесткости игры, где все не взаправду, где все понарошку, а холодной, рассудочной жесткости взрослого человека, сознательно абстрагирующегося от мира и перестающего воспринимать его боль.
Это легко прослеживается в цикле «Песни восточных славян». В рассказе «Новый район» женщина рождает недоношенного ребенка, «и ребеночек, после месяца жизни в инкубаторе, подумаешь, что в нем было, двести пятьдесят граммов, пачка творога, — он умер, его даже не отдали похоронить...». Сравнение ребенка с пачкой творога еще не раз, с завидной настойчивостью повторится в рассказе. Повторится мимоходом, как бы между прочим, как нечто само собой разумеющееся... «У жены открылось молоко, она четыре раза в день ездила в институт сдаиваться, а ее молоком необязательно кормили именно их пачку творога, были и другие, блатные дети...» «Наконец жена Василия все-таки забеременела, очень уж она хотела ребеночка, загладить память о пачке творога...» В этом равнодушном уподоблении человеческого существа пищевому продукту есть что-то грубо разрушающее некие нравственные законы, законы жизни, саму жизнь. И не только жизнь того бытового мира, в котором вращаются герои Петрушевской, но и мир самого рассказа, художественный мир произведения.
Конечно, в искусстве есть неизбежный диссонанс: и порой именно через разлад, через грязь и кровь познается высшее. Искусство словно растягивает жизнь между двумя полюсами напряжения — хаосом и гармонией, и ощущение этих двух точек разом рождает прорыв, именуемый катарсисом. Но «пачка творога» из рассказа Петрушевской — не полюс жизни и крайняя ее точка, ибо это вне жизни, вне художественности. Бытие настолько «растягивается» между двумя полюсами, что наконец неизбежно рвется какая-то нить — в руках остаются лишь обрывки художественной ткани произведения. Разрыв этот неизбежен, идет процесс придумывания все новых и новых «ужасов», жизнь испытывается на прочность, над жизнью ставится эксперимент...
Но вот перед нами повесть «Время ночь». Главная героиня Анна Андриановна, от имени которой ведется повествование, сознательно и упорно рвет зыбкие нити, связующие ее с внешним миром, с окружающими людьми. Вначале уходит ее муж. Затем постепенно распадается оставшаяся семья. В психбольницу отправляется мать, больная, выжившая из ума старуха. Уходит зять, которого Анна Андриановна когда-то насильно женила на своей дочери, затем безжалостно третировала, попрекая куском хлеба, изводя медленно, упорно и бесцельно. К новому мужчине уходит дочь, чтобы в свою очередь быть брошенной. Ни одна встреча между матерью и дочерью не обходится теперь без скандалов и отвратительных сцен. Уходит сын, спившийся, сломленный после тюрьмы человек. Анна Андриановна остается рядом с единственным родным существом — внуком Тимофеем, капризным и избалованным ребенком. Но в конце покинет ее и он.
Героиня останется одна в стенах своей нищей квартиры, наедине со своими мыслями, наедине со своим дневником, наедине с ночью. И упаковка снотворного, взятая у дочери, дает возможность догадываться о ее дальнейшей судьбе.
Вначале может показаться, что в своем неизбежном одиночестве виновна сама Анна Андриановна. С неожиданной резкостью и даже жестокостью она готова подавить любой порыв, любое проявление тепла со стороны своих, близких.. Когда во время очередного возвращения дочь вдруг беспомощно присядет в прихожей и пробормочет: «Как я жила. Мама!» — героиня прервет ее нарочито грубым: «Нечего было рожать, пошла и выскоблила». «Одна минута между нами, одна минута за три последних года», — признается рассказчица, но сама же она разрушит эту мимолетную возможность гармонии и понимания.
Однако постепенно в разобщенности героев мы начинаем ощущать не сколько трагедию отдельного человека, сколько некую фатальную неизбежность мира. Жизнь, окружающая героев, беспросветна во всем: и в большом, и в малом, в сущем и в отдельных подробностях. И одиночество человека в этой жизни, посреди нищего безысходного быта, изначально предопределено. Одинока мать героини, одинока ее дочь, одинок сын Андрей, которого гонит из дома жена. Одинока случайная попутчица героини Ксения — молодящаяся «сказительница», зарабатывающая, как и Анна Андриановна, гроши своими выступлениями перед детьми.
Но самое удивительное, что в этом жутком, беспросветном, забытовленном мире, в этом городе, где забываешь о существовании деревьев и травы, героиня сохранила в душе странную наивность и талант верить людям. Ее обманывает сын, забирая последние деньги, ее обманывает на улице случайный незнакомец, а эта немолодая, искушенная во лжи и обмане женщина, едкая и саркастичная, доверчиво открывается навстречу протянутой руке. И в этом ее движении есть что-то трогательное и беспомощное. Героиня сохраняет неизбывную потребность в душевном тепле, хотя и не может найти его в мире: «Два раза в день душ и подолгу: чужое тепло! тепло ТЭЦ, за неимением лучшего...» Она сохраняет способность и потребность любить, и любовь ее вся выплескивается на внука. В ней живет необычный, в чем-то болезненный, но совершенно искренний пафос спасения.
«Я все время всех спасаю! Я одна во всем городе в нашем микрорайоне слушаю по ночам, не закричит ли кто! Однажды я так услышала летом в три ночи сдавленный крик: „Господи, что же это! Господи, что же это такое!” Женский сдавленный бессильный полукрик. Я тогда (пришел мой час) высунулась в окно и как рявкну торжественно: „Эт-то что происходит?! Я звоню в милицию!”»
Трагическая разобщенность людей в мире Петрушевской оказывается порождена не жестокостью отдельного человека, не бездушием, не холодностью, не атрофией чувств, а его абсолютной, трагической замкнутостью в себе и отстраненностью от жизни. Герои не могут увидеть в чужом одиночестве отголосок своего и приравнять чужую боль к своей, соединить свою жизнь с жизнью другого человека, почувствовав тот общий круг бытия, в котором вращаются слитые в нерасторжимое единство наши судьбы. Жизнь распадается на отдельные осколки и обломки, на отдельные человеческие существования, где каждый — наедине со своей болью и тоской.
Но жизнь главной героини в повести становится одновременно и констатацией, и преодолением этого состояния. Весь ход авторского повествования дает ощущение медленного, трудного вхождения в жизнь, слияния с нею, перехода от чувствования извне, со стороны к чувствованию изнутри.
В повести три центральных женских образа: Анна, Серафима и Алена. Их судьбы зеркальны, их жизни с фатальной неизбежностью повторяют друг друга. Они одиноки, мужчины проходят через их жизнь, оставляя разочарование и горечь, дети все больше отдаляются, и впереди уже маячит беспросветная, холодная старость в окружении чужих людей. В их судьбах повторяются эпизоды, мелькают те же лица, звучат те же фразы. Но героини словно не замечают этого в своей бесконечной вражде.
«Что-то не в порядке с пищей было всегда у членов нашей семьи, нищета тому виной, какие-то счеты, претензии, бабушка укоряла моего мужа в открытую, «все сжирает у детей» и т. д. А я так не делала никогда, разве что меня выводил из себя Шура, действительно дармоед и кровопиец...»
А через много лет так же, наверное, будет упрекать своего зятя Алена, не заметив, быть может, что в гневе повторяет слова своей матери и своей бабки.
Но в какой-то момент что-то неуловимо изменится в ходе повествования, какой-то незримый поворот заставит Анну вдруг явственно ощутить то, что, быть может, она уже давно чувствовала подспудно. Ощутить неостановимый круговорот жизни и увидеть в судьбе своей матери, отправленной в психушку, свою собственную судьбу. Это чувство придет помимо воли и желания, с неизбежностью прозрения.
«Я ввалилась в ее комнату, она сидела бессильно на своем диванчике (теперь он мой). Вешаться собралась? Ты что?! Когда пришли санитары, она молча, дико бросила на меня взгляд, утроенный слезой, вскинула голову и пошла, пошла навек». «Это я теперь сидела, я теперь сидела одна с кровавыми глазами, пришла моя очередь сидеть на этом диванчике. Значит, дочь теперь сюда переедет, и мне тут места не останется и никакой надежды».
Она равна матери, она уже на грани сумасшествия, она тоже способна спалить дом, повеситься, не найти дорогу. Она тоже старуха, «бабуля», как ее называет сестра в психбольнице. А ведь еще недавно героиня словно забывала об этом, с радостью рассказывая, как на улице со спины ее принимали за девушку. И конец жизни ее матери в психлечебнице становится для Анны концом «нашей жизни» и жизни Андрея, сидевшего в такой же, как бабушка, яме с решетками, и жизни Алены. Недаром героиня вдруг подумает о старости своей дочери, о том, как она предъявит ей бабушкины платья, на удивление подходящие и по росту, и по фигуре.
Именно тогда Анна бросится в отчаянном порыве вызволять свою мать из психбольницы. Вначале — как будто против желания, из чувства противоречия дочери. Но затем судьба ее матери в какой-то миг станет и ее судьбой, жизнь матери сольется с ее жизнью — и обреченность матери станет обреченностью ее самой.
Попытка спасти мать безнадежна. Ибо это — попытка остановить время, остановить жизнь. Но после крушения надежд к героине приходит что-то очень важное, и конец повести, обрывающейся на полуслове, лишенный даже последнего знака препинания, оставляет ощущение чего-то понятого, какой-то если не осознанной, то почувствованной вдруг тайны.
«Она их увела, полное разорение. Ни Тимы, ни детей. Куда? Куда-то нашла. Это ее дело. Важно, что живы. Живые ушли от меня. Алена, Тима, Катя, крошечный Николай тоже ушел. Алена, Тима, Катя, Николай, Андрей, Серафима, Анна, простите слезы».
Героиня называет по именам своих родных: дочь, сына, мать. Последней называет себя. Тоже по имени. Все — молодые, старые, дети — приравнены друг к другу; есть лишь имена перед лицом Вечности. Все включены в единый бытийный круг, бесконечный в своем движений, все нераздельно-слиты в этой неостановимой смене лиц и времен...
В повести, как и в цикле «Песни восточных славян», мы найдем немало того, что принято называть «чернухой». В ней не меньше, а быть может; и больше той бытовой грязи, которую Петрушевская столь активно вводит в ткань своих произведений. Но в отличие от рассказов цикла эта грязь и безобразие бытия оказываются как бы пропущены через жизнь, пережиты изнутри, а не механически, походя внедрены в общую сюжетную канву. В результате повествование оказывается лишено искусственности и холодного безразличия; оно становится естественно и художественно органично.
И лишь гармонии (не органики, а гармонии) по-прежнему не ощущается в нем. Гармонии, которая отталкивается от быта, прерывает течение привычной жизни и нащупывает единство и цельность мира в чем-то неземном. Произведения Петрушевской лишены гармонии как отголоска высшего, божественного начала, которое мы ищем в тревоге и суете повседневности. И в новой повести, и в старых рассказах автора нет ожидаемого решающего прорыва, решительного финала, пусть трагического, пусть смертельного, но всё-таки выхода. В конце — не многоточие, открывающее путь в неизведанное, в конце— обрыв, неподвижность, пустота...
У многих рассказов Петрушевской есть одна характерная черта. То ли в самом названий, то ли в начале повествования дается своеобразная заявка на нечто большее и значительное, ожидающее читателя впереди. «Сети и Ловушки», «Темная судьба», «Удар грома», «Элегия», «Бессмертная любовь»... Читатель листает скучноватые страницы, находя в них знакомые по жизни лица, нехитрые сюжеты, банальные бытовые истории. Он ожидает обещанного вначале — возвышенного, масштабного, трагического — и вдруг останавливается перед пустотой конца. Ни сетей, ни ловушек, ни темных судеб, ни бессмертной любви... Все тонет в быте, все поглощается им. Кажется, повествование в прозе Петрушевской словно расползается в разные стороны, расслаивается, двигаясь то в одном, то в другом направлении, без строгого сюжета, без четких, продуманных линий; повествование словно стремится прорвать спекшуюся корку быта, найти щель, вырваться за его пределы, реализовать изначальную заявку на значительность жизни, тайну жизни, скрытую бытом. И почти всегда это не удается. (А если удается — то как-то неорганично, искусственно, с внутренним сопротивлением материала.)
Но в какой-то момент, при чтении очередного, на первый взгляд такого же скучного, засоренного, забытовленного рассказа к читателю приходит иное, новое по тональности ощущение. Быть может, ожидаемого прорыва никогда не бывает?! Быть может, смысл — не в прорыве, а в слиянии с бытом, в погружении в него?! Быть может, тайна не исчезает в быте, не заглушается им, а растворяется в нем как нечто естественное и органичное?!
Рассказ «Элегия» повествует о странной, смешной любви. Его зовут Павел. У нее нет имени, она просто его жена. Куда бы он ни шел, она всюду следовала за ним. Она приходила к нему на работу с детьми, а он кормил их в дешевой казенной столовой. Она продолжала в супружестве свою старую студенческую жизнь, нищую, беззаботную, непутевую. Она была плохой хозяйкой и плохой матерью. Павел был окружен со всех сторон ее утомительной любовью, раздражающей, навязчивой, в чем-то по-детски смешной. Однажды он полез на крышу устанавливать антенну телевизора и сорвался с обледенелого края.
«...И жена Павла с двумя девочками исчезла вон из города, не отвечая ни на чьи приглашения пожить и остаться, и история этой семьи так и осталась незаконченной, осталось неизвестном, чем на самом деле была эта семья и чем все могло на самом деле закончиться, потому что ведь все в свое время думали, что с ними что-нибудь случится, что он от нее уйдет, не выдержав этой великой любви, и он от нее ушел, но не так».
Мы не можем не почувствовать в последних словах какую-то очевидную нарочитость. «Великая любовь» для такой героини — это явно иронично, театрально. Но в свете трагедии финала окажется вдруг, что именно эти, смешные, нелепые отношения, с обедами в казенной столовой, со студенческими вечеринками в нищей квартире есть любовь и в ее подлинном значении, та самая великая, «бессмертная» любовь, по имени которой названа книга рассказов Петрушевской... Герои живут двумя жизнями — внешней бытовой и внутренней бытийной, но эти два начала не просто связаны между собой — они немыслимы друг без друга, едины в своем значении.
Слово Петрушевской приобретает некое двойное звучание, связанное с ее особой, легко узнаваемой манерой письма. Авторское слово как бы маскируется под бытовое сознание, бытовое мышление, оставаясь при этом словом интеллигента. Оно нисходит до уровня банальности, трафарета, напыщенной, возвышенной декламации — и сохраняет свое подлинное, высокое значение.
Восприятие жизни Петрушевской — женское чувствование мира. Именно в мире женщины быт и бытие нераздельны. Разум мужчины, отталкиваясь от прозы жизни, находит свое воплощение и выход в чем-то ином, прозаическая жизнь — не единственная, а быть может, не основная сфера его бытования. И это дает мужчине возможность принять эту жизнь как нечто второстепенное и абстрагироваться от грязи внутри нее. Чувства женщины слишком тесно связаны с реальным миром; она слишком «жизненна». И дисгармония, безысходность быта есть для нее безысходность жизни как таковой. Не в этом ли истоки того гипертрофированного, болезненного потока «чернухи», который обрушивается на читателя со страниц женской прозы? Петрушевская здесь не исключение. Этот поток рожден не приятием, не мазохистским восторгом от грязи жизни, а напротив — отторжением, защитным рефлексом непричастности и отстраненности. Женщина-художник словно выносит себя за скобки этого мира — и все те ужасы, которые происходят и произойдут с героями и с жизнью, уже не касаются ее...
Этот путь избирает Петрушевская в цикле рассказов «Песни восточных славян». Но есть иной путь — мучительного погружения в жизнь, который проходит героиня повести «Время ночь», а вместе с нею и автор, и читатель.
Этот путь несет в себе неизбывную боль. Но чувство боли есть не что иное, как чувство жизни, если есть боль — человек живет, мир существует. Если боли нет, а лишь спокойствие, холодное и безразличное, — уходит жизнь, рушится мир.
Проживание жизни изнутри, в единстве мучительного быта и бытия, сквозь боль, слезы, может быть, и есть движение к высшему, которое мы так жаждем обрести? Чтобы подняться над жизнью, нужно слиться с нею, ощутить значительность и значение обычных вещей и обычной человеческой судьбы.
Проживание мира есть становление мира художественного. И художественность в лучших произведениях Петрушевской становится тем чутким барометром, который улавливает и доказывает подлинность и глубину такого чувствования жизни. Жизни как нераздельного единства быта и бытия.
Л-ра: Литературное обозрение. – 1993. – № 5. – С. 63-67.
Произведения
Критика