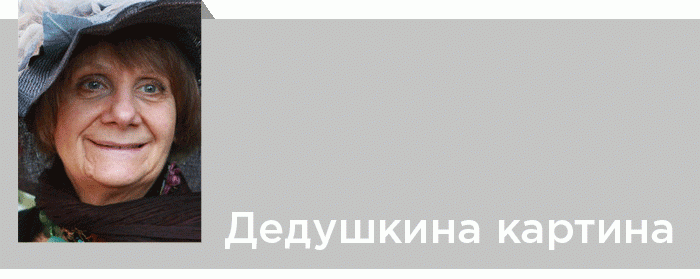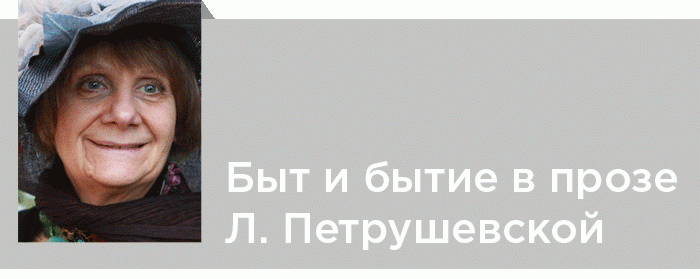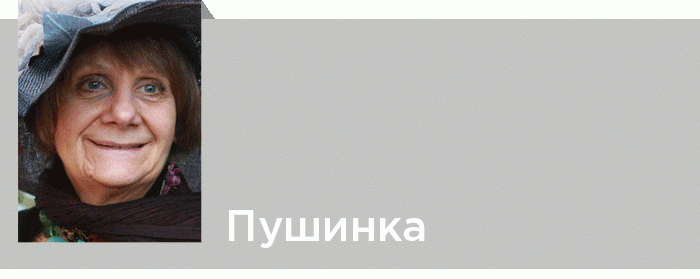Такая любовь
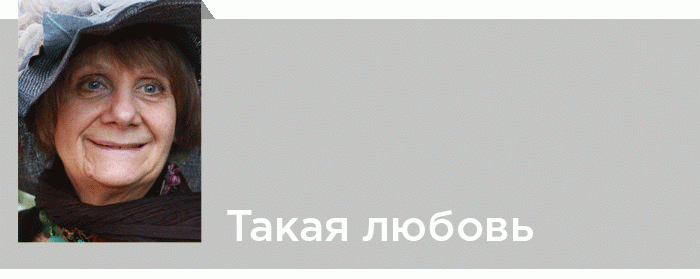
Георгий Вирен
Да полно, где это происходит, с кем? Мать, жестоко избивающая маленького сына с единственной целью — вызвать к нему острое сочувствие окружающих. Она одна знает, что скоро им предстоит отвечать за мальчика, потому что сама она обречена смертельной болезнью («Свой круг»). Женщина по прозвищу Али-Баба, как говорится, сложной судьбы (пьяница, воровка...) знакомится в пивной с приятным молодым человеком, идет к нему домой, остается ночевать... «Али-Баба замолчала и с нежным материнским чувством в душе благодарно заснула, после чего немедленно проснулась, потому что Виктор обмочился». Затем она пытается отравиться, ее спасают... («Али-Баба»). А вот после ссоры жена уходит от мужа, он лежит несколько дней больной гриппом, а потом, когда жена приходит забрать свои вещи и даже не смотрит на него, бросается с седьмого этажа («Грипп»). А что за странная «девочка», целыми днями плачущая, курящая да еще провоцирующая всех встречных мужчин немедленно завалить ее на постель? («Такая девочка»). Ладно, газеты мы читаем, нравы наркоманов и проституток нас уже и не очень-то удивляют. Но здесь, у Петрушевской, более или менее нормальные люди, многие даже с признаками интеллигентных профессий, без умственных и иных отклонений. Кто они, откуда?
И постепенно, когда стараешься вживаться в их обстоятельства и судьбы, когда проникаешься их проблемами, ставишь себя на их место, начинаешь понимать: действительно нормальные люди-то, обычные. В обстоятельствах жестоких, но не экстраординарных; драматичных, но не уникальных. Они плоть от плоти сегодняшней, вон там, за окном, улицы. Они выходят из малогабаритных квартир, минуют замусоренные лестничные клетки, едут в лифтах, исписанных похабщиной, выходят на улицу, падают, если гололед, мокнут, если дождь, давятся в автобусах и метро, толпятся в магазинах, утром волокут невыспавшихся детей в детские сады и школы, потом томятся на службе, вечером, обвешанные хозяйственными сумками, торопятся забрать детей с продленки, они говорят...
Боже мой, как они говорят! Вот, например: «...и ведь никто не думал обвинять жену, что она осталась жива, и не нужны были никакие смягчающие обстоятельства типа наличия ребенка»... Чудовищная смесь канцеляризмов и обыденной речи, захлебывающийся, косноязычный поток слов с бесчисленными повторами.
Вот отсюда — проза Петрушевской, лишенная метафоричности, изыска, элегантности, да и вообще красоты. Конечно, не стоит совсем просто понимать дело: эта проза лишь кажется магнитофонной записью уличного трепа, на самом деле такого впечатления автор добивается немалым мастерством. На скрещении современного упрощенного, даже опошленного языка и богатых литературных традиций выросла самобытная проза Петрушевской.
Но о чем она? В одном интервью Петрушевская обронила крылатую фразу: «Литература — не прокуратура». И в творчестве верна этому принципу. Вот уж чего у нее нет ни на гран, так это осуждения. Оно просто противоречит природе ее прозы. «Людям недодано!» — говорил Бахтин. Петрушевская трагически переживает эту «недоданность» добра и счастья, теплоты и заботы. И потому ее героини полны жалости. Женщина из рассказа «Такая девочка» говорит о знакомой: «Она на меня с самого начала нашего знакомства произвела какое-то жалящее впечатление, как новорожденное животное, не маленькое, а именно новорожденное, которое не умиляет своей хорошенькостью, а прямо жалит в самое сердце».
Кому же более всего сострадает Петрушевская? Бесспорно, женщинам. Если попытаться определить главную тему Петрушевской, то это, пожалуй,— судьба женщины в жестоком мире. Жестоком и ожесточающем. Потому и не милы, не обаятельны женщины Петрушевской. Злы, циничны... Волчицы. Но — и тут главное! — волчицы, спасающие детенышей. «Может быть, все, что произошло с мужем, могло произойти и с женой, не будь у нее дочери, не будь ей необходимо жить во всех, любых обстоятельствах». Поэтому злоба и жестокость, оскаленные зубы и холки дыбом. Но все-таки ради детей, а значит — рядом и жалость, и любовь, и страдание... Материнство для этих женщин — высшая ценность, мерило совести и морали. И спасение от окружающей тьмы. Петрушевская — с ними. Она сострадает им, переживает их драмы, проживает их жизни. Так она пишет.
В начале 80-х годов я подготовил очерк о Петрушевской, включив туда и ее интервью. (Правда, очерк в печать не пошел: главный редактор журнала посоветовался с кем-то из чиновников Министерства культуры и получил «добрый совет»: «Не надо вам этого». Но сейчас о другом.) В том интервью Петрушевская говорила, что импульсом к работе для нее служит чья-то проблема. Кто-то мучается, не находит выхода, и ты начинаешь думать, что же ему делать, — и неожиданно пишешь. Причем не об этом человеке и не о себе, а о ком-то третьем, а в итоге получается, что и о нем, и о себе... Поэтому сформулировать творческий метод Петрушевской нетрудно: слияние с героями. Просто сказать — сложно сделать. «Понимать чужую душу — это значит перевоплощаться» (Павел Флоренский). И только высокая самозабвенная любовь дает такое слияние. И такие прозрения: «Он не подозревал, будучи почти трезвым, что за каждыми большими глазами стоит личность со своим космосом, и каждый этот космос живет один раз и что ни день, то говорит себе: теперь или никогда». Петрушевская призывает (хотя это слово не из ее лексики) войти в каждый космос, и это касается всех. Точнее — всех, кто в беде.
И, наверное, именно мучительное ощущение «недоданности» обращает Петрушевскую к темам драматическим, жестоким, к «черным краскам», порой сгущенным предельно. Да, таков ее взгляд. Но почему в каждом произведении все должно быть взвешено на аптекарских весах, а черное и белое приведено в точнейшее соотношение? Да и кто знает это соотношение, кто вправе определять его? И кто-то скажет о рассказах Петрушевской: «Гадость, так не бывает!», а кто-то: «Это полуправда, жизнь пострашней!» Ну, и как тут спорить? Вот Елена Черняева («Литературная Россия», 1988, № 9) считает, что «в героине рассказа «Свой круг» невозможно узнать пусть плохонькую, но мать — и мысли ее, и чувства рождены привычкой к жизни холостяцкой...» Спешу согласиться, что в круге знакомых Е. Черняевой таких матерей нет. Ну, а в круге Л. Петрушевской — есть. И, стало быть, спор бесполезен. Но, может быть, дело не в том, что «невозможно узнать», а в том, что не хочется узнавать?
Как давно говорят на эту тему! В 1908 году Федор Сологуб в предисловии ко второму изданию своего романа «Мелкий бес» писал: «Люди любят, чтоб их любили. Им нравится, чтобы изображали возвышенные и благородные стороны души. Даже и в злодеях им хочется видеть проблески блага, «искру Божию», как выражались в старину. Поэтому им не верится, когда перед ними стоит изображение верное, точное, мрачное, злое. Хочется сказать: «Это он о себе». Нет, милые мои современники, это о вас я писал мой роман о Мелком Бесе и жуткой его Недотыкомке... О вас».
И тут мы приближаемся к теме, которую не обойти, говоря о творчестве Петрушевской. Несколько лет назад, представляя одну из ее пьес в журнале «Театр», Алексей Арбузов писал: «Думая о Петрушевской, желаешь одного — уберечь ее талант от непонимания». Арбузов оказался пророком. Посмотрите, сколько имен приняла литература в последние годы! Приняла В. Пьецуха — грустного насмешника, печальника в маске хохмача и ёрника; прямо-таки «на ура» приняла Т. Толстую — ироничную плакальщицу по нелепо уходящим в пустоту прошлого жизням; давно одобрила классически строгого интеллигентнейшего Л. Бежина; приоткрывает двери двум Ерофеевым: Виктору, возросшему на западном литературном менталитете, и Венедикту, изломанному злым идиотизмом «расейской» жизни... Формально некоторые из этих писателей принадлежат к поколению более молодому, чем поколение Петрушевской (впрочем, предвижу вскоре столпотворение литературных поколений: первые книги двадцатилетних и пятидесятилетних будут выходить одновременно, и поди разберись, кто начинающий и кто к какому поколению принадлежит!), Петрушевская дольше многих работает в прозе и драматургии. И все время вокруг нее ощущается настороженность... Опаска. И отражается это не только в критике, но и в делах издательских: публикации единичны и случайны (только упорная, верная давней любви «Аврора» печатает ее рассказы систематически), долгие годы ни одной книги прозы (хотя первая была собрана, насколько я знаю, лет пятнадцать назад)... В чем дело? На мой взгляд, дело в цензуре.
Нет, нет, читатель, речь не идет о привычной цензуре недавних лет, о некоем идеологическом вертухае с «трудами» Жданова и Суслова наперевес — сия фигура медленно (ох, медленно!), но безвозвратно уходит в сторону музея восковых фигур. Нет, речь о цензуре совсем иной, какую не отменить ни политическим, ни любым иным решением: о цензуре эстетической, то есть о той самой «любви к благородному», о которой Сологуб писал. И гнездятся эти тайные цензоры в умах грамотных профессионалов — литераторов, любящих и издающих Набокова и Гумилева, Ходасевича и Клюева...
В последнее время наша литература, стремясь к своему истинному объему, заметно расширилась, включила в себя новые или забытые старые стили, направления, взгляды. Диапазон стал шире, но проза Петрушевской все равно «зашкаливает», возмущая и отталкивая. И вроде бы в таланте писательнице никто не отказывает, но вот творчество ее во многом не приемлют. Краткую формулу такого двойственного отношения дал Твардовский в резолюции на рассказе «Такая девочка»: «От печатания воздержаться, но связи с автором не терять». Мне кажется, тут дело не только в том, что в 1968 году «Новый мир» не мог напечатать этот рассказ по причинам, не зависящим от редакции. Непривычность выбывает опаску.
Призыв ко всем нам учиться демократии стал уже общим местом. Но не общим делом, увы. Перестройка (а значит, и демократизация) литературы состоит, очевидно, не столько в том, что широко открыты двери произведениям, известным всему читающему миру, кроме читателей самой читающей в мире страны, не столько в том, что позволено публиковать правду о преступлениях сталинщины и маразме брежневского режима. Для литературы, по-моему, это лишь некоторые (пусть важные!) слагаемые нового, широкого сознания, демократично включающего эстетически разнородные, очень непохожие друг на друга и не всеми приемлемые взгляды. Ни один из них не претендует на знание истины в последней инстанции, но все вместе они дают это знание или по крайней мере очень близко подходят к нему. Это полностью относится к Петрушевской, чьи работы многих шокируют откровенностью жестокой правды.
«Без меня народ не полный...» Мне кажется, что без творчества Петрушевской не полна была б наша литература. Не так зорок и бесстрашен взгляд на мир. Не так мучилась бы от неустройства жизни душа. Не так пронзительно было бы сострадание.
Л-ра: Октябрь. – 1989. – № 3. – С. 203-204.
Произведения
Критика