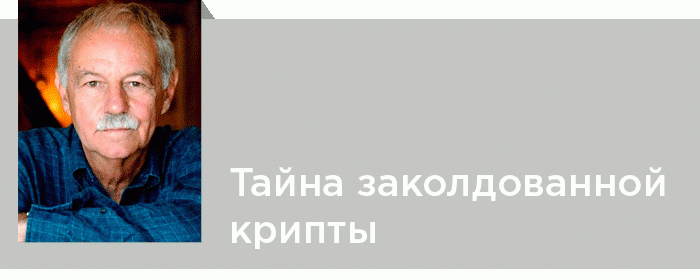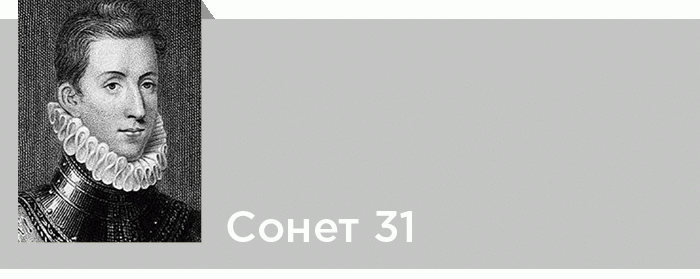Сэр Филип Сидни как «культовая фигура» Елизаветинской эпохи

О.В. Дмитриева
Правомерность применения термина «культовая фигура» к эпохе, не знавшей средств массовой коммуникации, разумеется, может быть поставлена под сомнение. Однако если данное понятие и является анахронизмом для XVI в., то этого нельзя сказать о самом феномене коллективной одержимости некой личностью и превращения ее в объект неумеренных восторгов и поклонения. С этой точки зрения Ф. Сидни (1554-1586), бесспорно, можно отнести к разряду «культовых фигур» благодаря тому уникальному месту, которое он занимал в общественном мнении Елизаветинской поры. Никто другой, будучи всего лишь частным лицом, не пользовался таким безграничным моральным авторитетом и (если не искренней, то по крайней мере широко декларируемой) любовью современников, представлявших самые разные социальные, профессиональные и интеллектуальные слои. Его равным образом боготворили придворные, профессиональные военные, ученые, литераторы и поэты, государственные мужи и протестантские теологи как в Англии, так и на континенте. С Сидни как с эталоном соотносили себя и других, оценивая их качества и поступки. Мотив «образцовости» сэра Филипа, его как некой «модели» или «зерцала» очень настойчиво звучал в мемуарах, корреспонденции, литературе XVI в.
Многократно и на разные лады эту мысль развивал первый биограф Сидни и друг его детства Фулк Грэвил, сравнивая его с «сигнальным огнем» или «маяком» английской нации, «поднимающимся над нашим родным берегом выше любого частного Фаросского маяка в чужих краях, чтобы по точной линии их собственного меридиана они учились плыть через проливы истинной доблести в спокойный и широкий океан человеческой чести». «Почетно подражать или ступать по следам такого человека», - провозглашает он, признаваясь, что и сам стремится «плыть согласно его компасу». Сидни, по его словам, - «человек [который хорош] для любого поприща - для завоевания, колонизации, Реформации, всего, что считается среди людей самым достойным и сложным, и при этом он так человечен и привержен добродетели».
Отец Сидни, сэр Генри, писал младшему брату Филипа: «Подражай его доблестям, упражнениям, занятиям и действиям. Он редкостное украшение этого века, формула, согласно которой все молодые джентльмены нашего двора, склонные к добру, вырабатывают свои манеры и строят жизнь». Этот пассаж можно было бы легко приписать отцовскому тщеславию, если бы не множество созвучных высказываний, принадлежавших незаинтересованным лицам. Известный лондонский хронист Дж. Стау, например, утверждал, что Сидни «был истинным образцом достоинства», а У. Кемден считал, что в Англии мало кто мог сравниться с ним в манерах и владении иностранными языками.
Доказательством искреннего восхищения сэром Филипом служит тот факт, что по меньшей мере два человека, составляя собственные эпитафии, близость с ним отмечали как важнейший факт своей биографии, т.е. по сути самоидентифицировались через него. Упомянутый Ф. Грэвил повелел высечь на своем надгробии: «Друг Филипа Сидни», а оксфордский профессор Томас Торнтон: «Наставник сэра Филипа Сидни, этого благородного рыцаря в бытность того в Крайст-Черч».
Складывание легенды о Сидни - совершенном джентльмене началось еще при его жизни, когда он был еще молод и не успел совершить решительно ничего выдающегося на общественном поприще. Природа всеобщей очарованности им в эту пору труднообъяснима. И все же даже иезуит Т. Кэмпион, встречавшийся с ним в Праге, отмечал, что «этот молодой человек столь удивительно любим и почитаем своими соотечественниками». Что же касается союзников по протестантскому лагерю, их характеристики были еще более лестными. Ф. Отман называл Сидни «любимцем всего рода человеческого».
Когда же Сидни погиб, сражаясь за дело протестантизма в Нидерландах, оплакивание его как «первого рыцаря» Англии приобрело поистине общенациональный масштаб. Его тело было переправлено на родину со всеми возможными почестями и торжественно погребено в соборе Св. Павла - редкая честь, оказанная человеку такого ранга, который не был ни крупным военачальником, ни государственным деятелем. По свидетельству современников, траурная процессия с трудом продвигалась по улицам Лондона, заполненным множеством скорбящих, выкрикивавших: «Прощай, достойный рыцарь, любимый всеми друг, у которого не было врагов, кроме случая». Заметим, малодостоверный текст в устах толпы, что, впрочем, не ставит под сомнение присутствия самой толпы, оплакивавшей героя.
Двор погрузился в необычно долгий траур; в течение нескольких месяцев считалось неприличным появляться во дворце в светлых одеждах. Поскольку двору как редкостному собранию честолюбцев искренняя скорбь об утрате одного из их среды едва ли свойственна, можно усмотреть в продолжительном трауре демонстрацию поведения, считавшегося приличествующим данным обстоятельствам. Тем любопытнее, что придворные сочли необходимым столь основательно оплакивать Сидни, отдавая должное его репутации «первого среди английских джентльменов».
Один из протеже Филипа Сидни, поэт Николас Бреттон, в траурной элегии нарисовал картину поистине вселенской скорби над могилой его патрона, перед которой чередой проходили со слезами сама королева, ученые, военные, пэры королевства, горожане и даже иноземцы, очевидно протестанты, хотя, возможно, Бреттон имел в виду и представителей католических держав, ибо он передал их ламентации по-итальянски:
Со всеми оговорками о преувеличенном изображении в поминальной поэзии эмоций, связанных с гибелью Сидни, многие действительно переживали ее как личную утрату, осознав, что Англия потеряла одного из одареннейших джентльменов - многообещающего политика, искреннего протестанта, патриота и талантливого поэта.
Смерть стала центральным событием его жизни и, по желчному, но справедливому замечанию одного из современных исследователей, «пиком его карьеры». После нее миф о сэре Филипе стал формироваться с необычайной быстротой: в течение нескольких лет возникла обширная традиция, посвященная ему и представленная произведениями самых разных жанров: мемуарами, одами, элегиями, поэтическими эпитафиями, авторами которых были лучшие поэты той поры - У. Рейли, Э. Спенсер, Дж. Пил, Н. Бреттон, Э. Дайар и др.
Таким образом, уже в 80-90-е годы Сидни становится объектом осмысления в культуре его эпохи. Оставляя за рамками данного исследования вопрос о том, насколько опоэтизированный образ «первого рыцаря» соответствовал действительности, сосредоточимся на самом мифе о Сидни, его основных составляющих, их внутренней иерархии и возможной эволюции, поскольку очевидно, что общество интуитивно и совершенно безоговорочно увидело в нем свой идеал; следовательно, осознав, что именно импонировало в нем современникам, мы сможем приблизиться к пониманию системы этических ценностей елизаветинского общества.
Миф о Сидни создавался весьма образованными людьми; неудивительно, что в нем отчетливо прослеживаются элементы античного канона жизнеописания, согласно которому подчеркиваются выдающиеся качества будущего героя, которые уже во младенчестве указывали на его высокое предназначение. Один из мемуаристов, доктор Томас Моффет, например, со всей серьезностью утверждал, что Сидни родился с «очаровательной и прекрасной внешностью и со сложением, предназначенным для военного дела... с громким, почти мужским голосом и, наконец, с прекрасным, определенным и абсолютным совершенством тела и души». По-видимому, он был не единственным, писавшим в этом роде, на что указывает ремарка С. Джентили о тех, кто приписывает Сидни «гениальность уже в детстве».
Одними из главных моральных добродетелей юного Филипа неизменно называются серьезность, редкие в молодости мудрость и рассудительность. Ф. Грэвил заявляет, что, хотя был его товарищем с детства, «не знал его иначе как мужчиной... который выказывал благородство и достоинство, не свойственные даже более зрелым годам». В изображении своего друга и биографа, Сидни постоянно думал и говорил лишь об учебе и знаниях, отвергая пустые игры, а занимался столь успешно, что наставникам было чему у него поучиться. Ему вторит Л. Брискетт, который характеризует Сидни словами Цицерона, сказанными в адрес Сципиона Африканского: «Зрелость пришла к нему раньше, чем годы».
Это его свойство очень изящно подчеркивает Бен Джонсон в поэме, посвященной Эдварду Сэквилу, где он рассуждает о том, что
Человек может оказаться великим по воле случая,
Но случайно сделаться добрым - невозможно.
Тот, кто поутру им не был, к вечеру не станет Сидни,
Как и глупец не проснется с утра умнейшим в христианском мире.
Таким образом, имя Сидни становится нарицательным, синонимом самой доброты.
Другой великий елизаветинец, художник Н. Хиллиард, вспоминая Сидни, отмечал в первую очередь это же качество; для него сэр Филип - прежде всего «превосходный человек», а лишь потом доблестный рыцарь, ученый и поэт.
Панегиристы, таким образом, видят в Сидни средоточие всех моральных добродетелей, которые столь высоко ценились в кругах, причастных к гуманистической культуре. И все же с еще большей настойчивостью современники превозносили в нем качества, которые можно с полным правом отнести к «сословным добродетелям», восходящим к позднесредневековому рыцарскому эпосу. Образ, в котором его главным образом воспринимают и представляют читающей публике, - это рыцарь в сияющих доспехах, благородный английский дворянин, затмивший на поле брани всех орландо и баярдов.
Эпоха, безусловно, внесла свои коррективы в трактовку образа идеального рыцаря: Сидни в этой роли выступает утонченным молодым придворным, совершенным учеником Кастильоне, человеком чести, дуэлянтом, блестящим турнирным бойцом, галантным собеседником и поэтом, который, как и положено кавалеру, влюблен в прекрасную даму - таинственную Стеллу его сонетов. Одним словом, он олицетворение идеала неокуртуазного века. Его величают «рыцарем Паллады, не имевшим себе равных»; поэт Дж. Пил именует Сидни «благороднейшим цветком среди всех, что можно отыскать от Востока до Запада», а Эдмунд Спенсер награждает его титулом «первейшего в благородстве и рыцарственности». После гибели сэра Филипа неоднократно отдавали дань его памяти как славнейшему из английских дворян на рыцарских турнирах.
Куртуазный идеал, в свою очередь, пережил трансформацию в Елизаветинскую эпоху под воздействием Реформации и обострения конфессиональной борьбы, неразрывно связанной с отстаиванием национальной независимости Англии. Панегиристы считают своим долгом подчеркнуть, что Сидни не просто галантный кавалер или «коверный рыцарь, достоинства которого состоят в богатом костюме и искусной болтовне». Он настоящий солдат, патриот и ревностный протестант, т.е. истинно христианский рыцарь, в образе которого гражданские добродетели сосуществуют с религиозной идеей.
Поэты любили представлять Сидни в виде рыцаря-пастуха (в таком наряде он однажды появился на рыцарском турнире, заслужив прозвище «первого рыцаря среди пастушков и первого пастушка среди рыцарей»). Стилистика этого образа может ввести в заблуждение, вызывая ассоциации с жеманными, манерными персонажами пасторальной литературы. Однако анализ елизаветинской аллегорической поэзии, неоплатонической по духу, заставляет искать в нем более глубокий смысл. В сознании самого Сидни, Эдмунда Спенсера и их читателей рыцарь-пастух вызывал аллюзии с добрым Пастырем, Христом, носителем истинной веры. Сидни же в роли рыцаря-пастуха воспринимался как страж английской Аркадии, хранитель мирной страны от врагов-католиков, о чем недвусмысленно пишет Дж. Пил: «Сидни несравненный... который бдил и бодрствовал, чтобы отогнать злобного волка от ворот Элизы».
Искренняя приверженность Сидни протестантизму, его усилия по созданию протестантской лиги в Европе и смелая критика планов англо-французского союза были по достоинству оценены современниками. Ф. Грэвил писал, что его друг сделал основой своей жизни веру, которую исповедовал; главными для него были «не друзья или жена, дети или он сам, превыше всего этого он ценил честь Высшего Творца и службу государыне и стране». Картина его славной смерти во имя этих идеалов логически завершала портрет Сидни-патриота, гражданина и христианского мученика. Эту идею точно выразил друг сэра Филипа, Артур Голдинг: «Он умер, не изнывая от безделья или участвуя в мятеже... и не от того, что коснел в удовольствиях и приятном безделье, но от мужских ран, полученных на службе его государыне, при защите угнетенных, утверждая единственно истинно кафолическую христианскую религию, среди благородных, доблестных и мудрых мужей, в открытом поле, как истинный воин, - славнейшей смертью, которой только и может желать христианский рыцарь».
Печальное повествование о трагической гибели Сидни от раны, полученной при осаде небольшого нидерландского городка Зутфен, занимает особое место в Сидниане. Рассказ о его недолгой карьере военачальника (ему было поручено командовать отрядом в экспедиционном корпусе графа Лейстера) позволяет биографам вернуться к античному канону жизнеописания: в своих мемуарах Фулк Грэвил, очевидно находившийся под впечатлением от Ксенофонта или римских авторов, рисует Сидни мудрым и заботливым полководцем, который проводит в армии разумные преобразования. За неимением более весомых примеров деятельности сэра Филипа в этой области ему приходится ссылаться на то, что тот «воскресил древнюю дисциплину порядка и молчания на марше». В первом в своей жизни сражении у местечка Аксель Сидни, как и положено герою, обращается к солдатам с пламенной речью, которая, по словам хрониста Дж. Стау (не присутствовавшего там), «так настроила и объединила людей, что они мечтали скорее умереть, неся эту службу, чем жить» - пассаж, также, по всей видимости, вдохновленный античными образцами, а не реальными настроениями в английском корпусе Лейстера, где солдаты постоянно роптали на офицеров и из-за неуплаты жалованья.
В роковой день второго - и последнего для Сидни - боя большой отряд испанцев попытался пробиться к осажденному Зутфену, но значительно уступавшим им в численности англичанам удалось рассеять врага. В стычке Сидни показал себя настоящим храбрецом, однако, неосмотрительно приблизившись к крепости, был ранен выстрелом из мушкета в ногу, и верный конь принес его, теряющего сознание от потери крови, в лагерь англичан. Раненый держался мужественно: сильное впечатление на соотечественников, читавших позднее мемуары о его последних днях, произвело то, что страдавший от жажды Сидни отдал предназначавшуюся ему флягу умиравшему рядом простому солдату.
Злосчастной причине его ранения - отсутствию поножей и набедренника - было посвящено немало рассуждений. Особенно интересен рассказ Ф. Грэвила, который не был очевидцем событий, а выступал лишь интерпретатором услышанного от непосредственных свидетелей (однако интерпретатором, претендовавшим на то, что он знает Сидни, как самого себя, и лучше других понимает, что им двигало). В его трактовке, Сидни совершает свои действия, постоянно сверяясь с некой античной моделью поведения: «Памятуя о том, что в древних преданиях... достойнейший человек всегда лучше всех вооружен... он надел полный доспех», однако, заметив, что на его товарище по оружию нет набедренника и поножей, он решил последовать его примеру, желая быть с ним в равном положении (по другой версии - чтобы продемонстрировать таким образом пренебрежение к опасности). Качества, проявленные сэром Филипом в обоих эпизодах, - мудрая предусмотрительность и безрассудная бравада, - хотя и противоречат друг другу, характеризуют его в мемуарах Грэвила как истинного героя и безупречного рыцаря. Заметим, что очевидцы высказывали и более прозаическую версию происшедшего (предполагали, что из-за внезапного нападения испанцев Сидни попросту не успел надеть полную броню), однако она, разумеется, не была принята панегирической литературной традицией.
Повествуя о 16-дневной агонии раненого, у которого началась гангрена, Грэвил рисует его истинным стоиком. Присутствовавших около Сидни друзей, докторов и протестантских теологов он предпочитает именовать «божественными философами», с которыми сэр Филип вел беседы о бессмертии души и взглядах античных авторов на этот предмет. В его палатке звучала музыка, в частности написанная, по преданию, самим Сидни, баллада о ране, полученной в бедро. Друзья и близкие сдерживали слезы, подражая стоицизму умирающего. Воспоминания очевидцев, на которые опирался Грэвил, позволяют говорить и о душевных страданиях Сидни, его страхе и сомнениях относительно своей посмертной судьбы, о его отречении от написанных поэм и чувств к таинственной возлюбленной. Тем не менее философские беседы действительно имели место, как и переписка с другом по поводу нового перевода Платона, и Грэвил предпочитает акцентировать именно эту героико-стоицистскую линию в поведении Сидни. С его легкой руки она стала главенствующей в легенде о первом рыцаре Англии.
Еще один мотив, непременно присутствующий в литературной традиции, посвященной Сидни, - прославление его учености и любви к наукам, выделявших его даже на фоне высокообразованных современников. И в этой сфере он служит образцом дворянству, на чем настаивает Ф. Грэвил: «Многие великолепно образованные джентльмены среди нас не станут отрицать, что они стремятся грести и следовать курсом в его кильватере». Сидни, разумеется, не был большим ученым, но действительно питал серьезный интерес к наукам; в круг его друзей входили известные ученые Джон Ди и Бруно, посвятивший ему трактат «О героическом энтузиазме», французский мыслитель юрист Юбер Ланге, философ-рамист Уильям Темпл и др. По воспоминаниям, «редко в церкви или в публичном собрании он не бывал окружен учеными мужами». Самого Сидни постоянно превозносят как «ученого воина» или «ученого рыцаря». В своем «Пастушеском календаре» Э. Спенсер отзывается о нем как о «джентльмене, достойном любых титулов как в науке, так и в куртуазии».
Ф. Сидни интересовался философией и, хотя его греческий был несовершенен, читал Платона и Аристотеля. Он был приверженцем антиаристотелевской традиции и почитателем рамизма, но сохранял при этом независимость суждений, подмечая слабости и у оппонентов Стагирита, о чем писал Т. Моффет: «Как много заблуждений он подмечал у Аристотеля, какое множество - у Платона, Плотина и других авторов, писавших о естественной философии». Среди достоинств Сидни современники отмечали не только его пиетет перед ученостью древних, но и внимание к современным научным теориям: «...при том что он высоко ценил первых хранителей знания, он не отвергал нового из почтения перед древностью».
Отдельный повод для похвал в адрес Сидни давало его превосходное владение древними и новыми языками - латынью, греческим, итальянским и французским, - обеспечившее ему успех как при английском, так и при иностранных дворах. Французов и итальянцев поражало изящество стиля, которым он изъяснялся, наряду с глубиной суждений и остроумием.
О репутации Сидни как человека высочайшей образованности напоминает в оде, обращенной к его племяннику, Бен Джонсон, давая юноше настоятельный совет учиться, памятуя о том, чье имя он носит и какие надежды будут возлагать на него окружающие.
Еще одна черта, вызывавшая восторженные отзывы о сэре Филипе, - его щедрое меценатство и патронат, качества, особенно ценимые вечно нуждавшимися представителями как «свободных», так и прочих искусств. Несмотря на то что он был небогат, Сидни покровительствовал множеству поэтов, писателей, переводчиков, среди которых были такие известные личности, как У. Кемден, Э. Спенсер, Т. Нэш, Н. Бреттон и др. По словам Грэвила, «не было такого талантливого живописца, умелого инженера, превосходного музыканта или другого искусного мастера выдающейся репутации, который, будучи известен этому славному духу (т.е. Сидни. - О.Д.), не нашел бы в нем искреннего и совершенно бескорыстного друга». Подобно Зефиру, «он вдыхал жизнь повсюду, где веял», «университеты за границей и дома отзывались о нем как о Меценате, посвящали ему свои труды и обсуждали с ним каждое изобретение или приращение знания». Многие литераторы благодарно вспоминали о его поддержке: Э. Спенсер признавался, что «именно Сидни был тем, кто заставил его Музу воспарить над землей», а Томас Нэш воззвал к нему в речи, сокрушаясь, что с уходом Сидни в Англии больше некому пестовать таланты. «Благородный сэр Филип Сидни! Ты был сведущ в том, что приличествует ученому, ты знал, ценой каких страданий, мук и трудов достигается совершенство. И каждый талант ты умел поощрить по-своему, каждому уму - отдать должное, каждому писателю - воздать по заслугам, потому что не было никого более доблестного, остроумного или ученого, чем ты. Но ты упокоился в своей могиле и оставил нам слишком мало наследников своей славы; слишком мало тех, кто ценит сыновей муз и от своих щедрот орошает те распускающиеся, как бутоны, надежды, которые были взлелеяны благодаря твоей щедрости».
Образ Сидни как патрона искусств и наук курьезным образом обыгрывается в поэме под названием «Урания сэра Филипа Сидни» (1637), написанной одним из его прежних преподавателей в Оксфорде - Натаниэлом Бакстером. Последний воображает картину собственной смерти и появления в мире теней, где его встречает дух Сидни, вопрошая, кто он таков. Бакстер ответствует, что «некогда был наставником великого Астрофила», а ныне наг и несчастен, и все его добро составляют посох и греческая свирель. К его радости, Сидни узнает профессора и поручает его заботам Цинтии: «Сестра дражайшая, заботься о моем наставнике, ибо в своем предмете он был неподражаем». Таким образом, даже в Элизиуме Сидни отводится столь привычная для всех роль, которую он играл в жизни, - попечителя и патрона.
Принимая во внимание, с какой тщательностью каждая из добродетелей Ф. Сидни была осмыслена и обыграна в посмертной литературе о нем, нельзя не заметить, что его собственному поэтическому дару она уделяла незаслуженно мало внимания, и если потомки воспринимают его в первую очередь как великого поэта, то его современникам это не представлялось главным. Этому было немало причин. Первая заключалась в том, что круг осведомленных о том, что Сидни пишет стихи, был достаточно узок, хотя, как полагают, упражняться в версификации он начал, по-видимому, еще в университетские годы. Этот круг включал несколько десятков человек: близких друзей, членов поэтического кружка, именовавшегося «Ареопагом» (Э. Дайар, Г. Харви, Ф. Грэвил, Д. Роджерс. Э. Спенсер); родственников: графа Лейстера (эксплуатировавшего его поэтический дар в политических целях), сестру Мэри (графиню Пемброк), королеву и придворных. Для последних, впрочем, его талант, вероятно, представлялся чем-то обычным, поскольку образованные люди его круга непременно упражнялись в стихосложении. Оценить же масштаб дарования Сидни, отличавший его от прочих дилетантов, не представлялось возможным, поскольку ни одно из его произведений не было опубликовано при жизни.
Кроме того, следует принимать во внимание и снисходительное отношение к поэзии, свойственное аристократической среде; она могла рассматриваться лишь как увлечение джентльмена, но отнюдь не как серьезное занятие для него. Сам Сидни, как доказывают современные исследования, весьма тщательно работавший над отделкой своих стихов, был тем не менее склонен изображать их «безделками», скромными плодами случайных досугов. Даже свой трактат «Защита поэзии» он называл забавой или игрушкой, потребовавшей большого расхода чернил, поддерживая в соответствии с модой иллюзию легкости в отношении своих опусов.
В том же ключе, невольно принижая достоинство писательского труда (но не дарования Сидни), говорит о его работах Ф. Грэвил: «Его книги были скорее памфлетами, набросанными, чтобы занять время и развлечь друзей». Разумеется, Сидни восхваляли как поэта, но поначалу это были лишь спорадические упоминания, подобные одной строке в «Поминальной песне Колина Клаута» Э. Спенсера, где только имя Астрофила служит отсылкой к его сонетам. Поэтический дар рассматривается как нечто дополняющее прочие достоинства этой многогранной натуры, чаще всего - его героизм и доблесть. Примеров такого рода множество. Дж. Ветстоун, например, писал:
Вокруг его шлема - лавровый венок,
А рядом с мечом - серебряное перо.
У. Рейли величал Сидни одновременно «Сципионом и Петраркой нашего времени», но в обоих случаях «меч» предшествует «перу», а Сципион отодвигает Петрарку на второй план. При жизни Сидни, пожалуй, лишь С. Джентили указал на поэзию как на главное поприще молодого английского аристократа: «Другие восхищаются в тебе, Филип Сидни, блеском твоего рождения, гениальностью уже в детстве, способностью к любой философии, почетным посольством, предпринятым в молодости, и демонстрацией доблести... во время публичных зрелищ и упражнений верхом... Пусть другие прославляют все эти качества. Я же не только восхищаюсь, но люблю и почитаю тебя за то, что ты уважаешь поэзию настолько, чтобы достичь высот в ней».
С годами, в особенности по мере появления трудов Сидни, несправедливость принижения его литературного таланта осознается все яснее как англичанами, так и иностранными авторами. Понимание истинного масштаба его таланта и вклада в развитие английского языка и поэзии приходит в конце 90-х годов XVI - начале XVII в., что приводит к заметной смене акцентов и в Сидниане. У Р. Дэниэла Сидни представлен уже не как воин, изредка забавляющийся стихами, но как рыцарь от поэзии, воюющий пером с «тираном Севера - великим варварством», которое он впервые обнаружил и выставил на всеобщее обозрение. Он вдохновил на борьбу многих, и теперь уже немало перьев, как копий, сломано в этой борьбе. (Впервые перо ставится впереди меча, а литературное поприще признается главным для Сидни.) Бен Джонсон, горячий защитник поэзии и драмы, развивает эту линию, не только делая поэтический дар главной чертой Сидни, но и вообще отводя поэту абсолютно доминирующее положение в обществе. В поэме, адресованной дочери Сидни, Елизавете, графине Ретленд, он ставит поэта-творца выше земных монархов, ссылаясь на пример ее отца:
Поэты - гораздо более редкие птицы, чем короли,
И это доказал Ваш благороднейший отец,
Ни до, ни после которого не было равного ему
Среди тех, кто припадал к источнику наших муз.
В другой оде из цикла «Подлесок» Джонсон ставит Филипа Сидни в один ряд с величайшими поэтами древности и современности - Гомером, Сафо, Проперцием, Тибуллом, Катулом, Овидием, Петраркой. «Наш великий Сидни» достойно венчает этот список.
Подводя итог, следует отметить, что в качестве совершенного джентльмена и «первого рыцаря» Ф. Сидни являет собой весьма синкретичный идеал, в котором органично переплетены достоинства, характерные для разных этосов и культурных типов. Он воплощает в себе и традиционные христианские, и куртуазные, и гуманистические добродетели. Однако сам по себе подобный сплав достаточно типичен для эпохи Возрождения. По-видимому, над остальными не менее неординарными личностями его поры Сидни возвышало то, что в каждой из ипостасей, в которых он выступал, и на любом поприще ему удавалось достичь абсолюта, некоего логического предела: как образованный джентльмен и утонченный придворный он превзошел всех; как поэту ему не было равных; как рыцарь он сражался в реальной войне и действительно погиб, как христианин - отдал жизнь за веру, мученически пострадав за нее.
Возможно, именно этот перфекционизм и порождал у современников ощущение уникальности Филипа Сидни. Неудивительно, что в литературе рождается еще один устойчивый образ, связанный с ним, - образ Феникса, не имеющего подобия, или другого существа, сравнимого с ним. Ибо, как сказал Э. Спенсер: «Он единственный в своем роде, и никогда не был вторым».
Л-ра: Человек в культуре Возрождения. – Москва, 2001. – С. 201-212.
Произведения
Критика