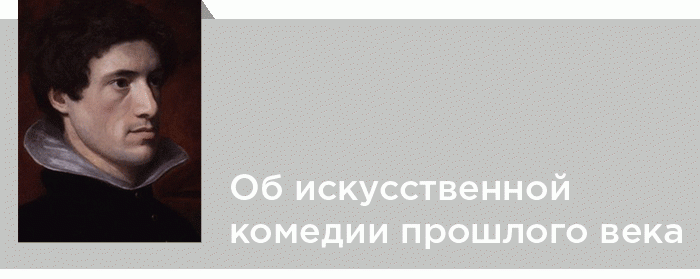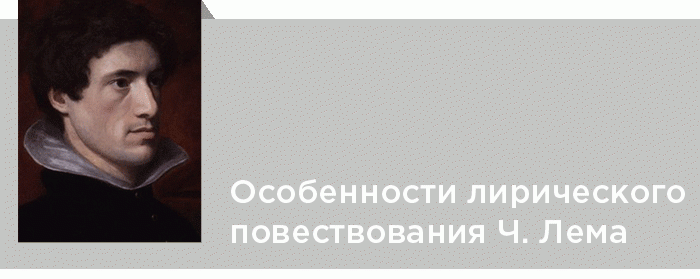Проза английского романтизма (Чарльз Лэм)
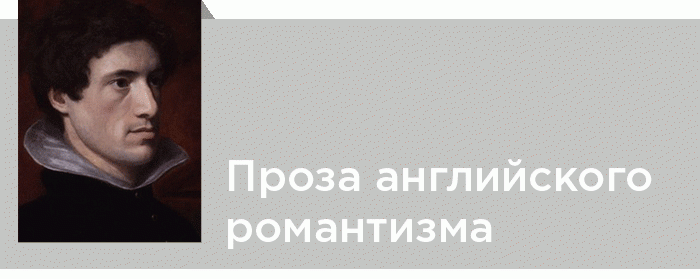
Н.Я. Дьяконова
Романтические поэты Англии заслонили современных им прозаиков. Один Вальтер Скотт завоевал всемирную славу своими романами. Такие же авторы, как Чарльз Лэм (1776-1834), Вильям Хэзлитт (1778-1830), Ли Хент (1774-1859), за пределами своей страны практически неизвестны.
Между тем все они были превосходными писателями — журналистами, критиками, теоретиками и пропагандистами романтизма. Хент и Лэм в ранний период своей жизни выступали также как стихотворцы.
Своеобразной параллелью к их деятельности может послужить деятельность Аддисона и Стиля, которые в свое время тоже выступили зачинателями нового литературного движения, борцами за чистоту общественных и личных нравов, популяризаторами передовых этических и эстетических воззрений.
Связанные между собой тесными дружескими узами, они всю жизны сотрудничали в прогрессивных периодических изданиях своего времени: Хент был редактором журнала (1808-11821), красноречиво защищавшего радикальную реформу английской политической системы; Лэм и Хэзлитт печатались в этом журнале. Вместе с Байроном Хент издавал журнал, для которого писал и Хэзлитт.
Лэм и Хэзлитт, в меньшей степени Хент, много сделали для развития английской критики, особенно шекспировской критики, а также для развития жанра эссе. Они оказали влияние на позднейших английских журналистов и публицистов. Почитателями и подражателями их были Теккерей, Диккенс, Стивенсон.
Хент, Хэзлитт, Лэм вместе составили кружок, известный в те годы как один из центров литературной и общественной жизни английской столицы. В доме Хента, где часто собирались члены кружка, бывали Шелли, Байрон, Китс, Томас Мур, Берри Корнуол и другие поэты и деятели из так называемых «радикалов». Они представляли демократическую оппозицию буржуазно-торийской Англии. В обстановке мрачной реакции они сохранили лучшие черты того периода в развитии мировоззрения старших романтиков, Вордсворта и Кольриджа, когда те уже отчаялись найти практическое осуществление своего идеала, но сам идеал продолжал жить в их сознании. Хент, Хэзлитт, Лэм с негодованием отвергли последующий компромисс Вордсворта и Кольриджа с реакцией; однако они не возвысились ни до исторического оптимизма Шелли, ни до байроновского грандиозного обобщения «духа времени».
Хент, Хэзлитт и Лэм (а с ними Шелли и Китс, как поэты, печатавшиеся и рецензировавшиеся в журнале Хента), были впервые объединены реакционной печатью, заклеймившей их презрительной кличкой «кокни». Кличка эта преследовала цель унизить поэтов намеком на их плебейское происхождение и слабую образованность. «Кокни», в понимании торийских рецензентов, — это лондонец из низших слоев общества, невежественный, развязный и самоуверенный. Термин «школа кокни» в применении к творчеству Хента, Китса, Лэма и Хэзлитта означал, что это — школа лондонских поэтов и критиков, которые презирают господствующую политическую идеологию и церковь, воспевают свободное, несдерживаемое общественной тиранией чувство и, вопреки строгостям принятого классицистического стиля, допускают и защищают всяческие вольности в области лексики, синтаксиса, версификации. Все «кокни» — разные, справедливо замечает в своей книге о Хенте французский ученый Луи Ландрэ, и общее у них — только их оппозиционность по отношению к мнениям, широко принятым в Англии и определяющимся стремлением повернуть к идеологии дореволюционных времен. «Кокни» выступали против злоупотреблений правящей олигархии, против Священного Союза, против религиозной ортодоксии — и за расширение демократических свобод.
Эта небольшая лондонская группа литераторов-газетчиков и поэтов-памфлетистов, ярых противников торийской прессы, поддерживавшая отношения то дружеские, то враждебные, со всеми видными писателями своего времени, посвятившая себя теоретическим, а еще более — практическим проблемам искусства — именно эта группа, благодаря своему положению между консерваторами Вордсвортом и Кольриджем и революционерами Байроном и Шелли, представляется нам средоточием важнейших и характернейших черт романтической школы во всей их противоречивости.
Хент, Хэзлитт, Лэм стояли в гуще литературно-критической борьбы своего времени. Менее всего были они пророками «чистого» искусства, чуждыми житейским бурям и битвам. В богатой событиями эпохе не было таких, на которые бы они прямо или косвенно не откликнулись, не было литературных явлений, которые не обратили бы на себя их внимания.
Эти писатели подняли журналистику до уровня литературы, сделали ее двигателем политического, нравственного, эстетического прогресса. Роль Лэма, Хэзлитта, Хента в развитии английской культуры очень велика, деятельность их составляет неотъемлемую часть английской национальной традиции.
Популяризируя открытия романтической поэзии, переводя их на язык повседневности и прозы, Лэм и его друзья способствовали утверждению романтизма в литературе. Роль Лэма, наиболее выдающегося художника своего кружка, в этом отношении представляется нам особенно значительной.
Лэм обрел себя как прозаик и эссеист после долгих лет исканий и неудачных опытов. Он начал с лирических стихов в духе чувствительной поэзии конца XVIII в., написал сентиментальную повесть «Розамунда Грей», пробовал свои силы в области трагедии и фарса.
Значительнее были его литературно-критические статьи и «Рассказы для детей на темы пьес Шекспира», которые он издавал совместно с сестрой и другом Мери Лэм. Последние переведены чуть ли не иа все европейские языки и до сих пор переиздаются. По убеждению романтика Лэма, именно ребенок с его непосредственным восприятием может быть идеальным читателем Шекспира; для него и предназначены пересказы Лэмов.
Английские литературоведы обычно с удовольствием указывают на аполитичность Лэма, видя в ней доказательство истинной художественности его натуры. Как правило, дружба Лэма с Кольриджем и Вордсвортом подчеркивается больше, чем его близость с такими заядлыми радикалами, как Хент и Хэзлитт; заявлениям Лэма о безразличии к политике доверяют больше, чем свидетельству его произведений. Между тем Лэм мечтает о чудесном дереве, «листья которого излечат народы от страданий, нужды, от всяческого зла...».
В ранний период своего творчества Лэм разделяет политический радикализм Вордсворта, Кольриджа, Саути и сохраняет этот радикализм дольше, чем они. К сожалению, утеряно, забыто довольно значительное число политических эпиграмм и пародий, которые Лэм, по свидетельству одного из своих лучших издателей Найта, помещал в эти годы в оппозиционных газетах.
В 1810-е годы, когда возобновилось движение радикалов, приостановленное волной антиреволюционного террора конца 90-х годов, Лэм делает еще одну попытку приобщиться к политическим вопросам дня. В
В том же году в журнале Хента появляется пасквиль Лэма на принца Уэльского — излюбленную мишень радикалов, а несколько ранее — его очерк «Гай Фоуке» с настоятельным требованием уничтожить коррупцию в английском парламенте.
Вскоре, однако, Лэм отходит от политической публицистики и всецело отдается литературным интересам.
Но если Лэм отказывается говорить, писать, думать о политике, это не значит, что он не интересуется политическими судьбами человечества. Это значит только, что он потерял веру в эффективность современной ему политической борьбы. Горькое воспоминание о «горячих ребяческих чувствах, зажженных Французской революцией», об обманутых политических надеждах приводит его не к компромиссу с реакцией, как это случилось с Вордсвортом и Кольриджем, и не к революционному протесту, на который отважились Байрон и Шелли, а к стремлению защищать в своих произведениях общечеловеческие идеалы добра, справедливости, равенства, не заботясь о конкретных политических путях борьбы за свои идеалы и проявляя терпимость к различным точкам зрения по поводу этих путей.
В августе
Несмотря на необычайную популярность жанра очерка (эссе), имевшего в Англии длительную традицию, он к началу XIX в. находился в жалком. состоянии. Многочисленные эпигоны классициста Сэмюэля Джонсона придали ему стандартизованную банальную форму. Деятельность Хэзлитта, Хента, Лэма возродила очерк, превратив его в «прозаическую форму английского романтизма».
«Очеркам Элии» легче дать негативное, нежели положительное определение. Легче сказать о том, чего в них нет, чем о том, что в них есть. Они лишены нравоучительности, характерной для Стиля, Аддисона или Джонсона; они не содержат ни фактов, ни информации, не излагают какой-либо отчетливой системы взглядов. В них нет ни положительных, ни отрицательных примеров, нет советов или рекомендаций, нет ни политики, ни философии, ни данных о новейших открытиях. В эссе Лэма не фигурируют ни великие события, ни великие люди. В них есть только воспоминания, чувства, переживания, есть нескончаемая авторская исповедь, превращающая их в своеобразные лирические стихотворения в прозе.
По своему внешнему виду очерки Лэма — очерки современной действительности, но они почти всегда ретроспективны: если речь идет о торговой фирме, она либо уже закрыта, либо давно пережила дни расцвета и теперь влачит жалкое существование; если описывается Оксфордский университет, то Лэм избирает период каникул, когда городок и колледжи пустынны и потому находятся как бы вне времени, вне деловых и официальных связей, когда можно бродить по старинным, средневековым улочкам и зданиям и, предаваясь мечтам, воскрешать в воображении давнее прошлое, представлять себе, каким оно было и какой могла бы быть судьба самого Лэма в университетских стенах. Если речь идет о людях, они либо умерли давно, либо стоят вне жизни, вне общих интересов. Лэм с любовью описывает старых учителей, старых актеров, старых родственников, старые кварталы, либо давно снесенные, либо изменившиеся до неузнаваемости за последние десятилетия, старые газеты, старые обычаи, старинный фарфор, старинные надгробия.
В обширной группе очерков, посвященных книгам, писателям, театру, тоже с полной очевидностью преобладают названия и имена столетней, а то и двух-трехсотлетней давности: «Разрозненные мысли о книгах и чтении», «Некоторые сонеты сэра Филиппа Сидни», «Изящный стиль», «Об искусственной комедии прошлого века». Если же Лэм касается общих, так называемых «вечных» тем, то рассуждение ведется от имени пожилого человека, живущего более прошлым, чем настоящим, целиком сосредоточенного на мыслях о превосходстве века минувшего над веком нынешним или предающегося размышлениям о предметах, лишь отдаленно связанных с современностью. И повествует о них Лэм языком нарочито архаизированным, старинным, впитавшим в себя лексику и синтаксис драматургов и эссеистов конца XVI-XVII вв. Явственно ощутимые элементы стилизации, архаизации, изложение событий как бы в свете восприятия ученого книжника давних времен — все это создает своего рода «остранение», отодвигает события в прошлое, ставит между этими событиями и рассказчиком невидимую преграду.
Этот мир, построенный внутри мира, обособленный, противопоставленный окружающему и изъятый из обыденных социальных связей, соответствует тем задачам романтического изображения, которые общеизвестны в классической формулировке Кольриджа: «Придать повседневному прелесть новизны и вызвать чувство, близкое к сверхъестественному, пробуждая внимание от летаргии обычая и обращая его на прелесть и чудесность мира, окружающего нас». Знаменитая формула Блейка «о мире, отраженном в песчинке», находит своеобразное применение в микрокосмосе, созданном Лэмом. Крайняя незначительность описываемого — при содержательности и эмоциональной насыщенности связанного с ним переживания, высокое романтическое мироощущение — при явной прозаичности и ограниченности тематики — все эти странные сочетания характерны для самого Лэма и его произведений.
Так, в Лондоне, описанном Лэмом, ничто не напоминает о том, что жители этого города — свидетели или даже участники одной из величайших в истории войн, что на улицах этого города, в его клубах, парламентских заседаниях идет непрестанная политическая борьба.
Описания Лэма не дают четкого представления о том, что фактически происходило в английской столице в начале XIX в., но зато они дают ясное представление о том, что происходило в сознании автора: сила его отталкивания от реальной действительности создает эмоциональную атмосферу, благодаря которой можно почувствовать, какие стороны жизни огромного города возмущали писателя и побуждали его к демонстративному разрыву с окружающим.
Если очерки Стиля и Аддисона содержат прямое объективное свидетельство о Лондоне начала XVIII в., то очерки Элии позволяют составить о Лондоне — сто лет спустя — лишь косвенное заключение. По умолчаниям, по остранениям, даже по фантастичности лэмовского Лондона можно судить о стремлении его создателя к поэзии, свободе, искренности, непринужденности, к естественному равенству людей, к справедливости по отношению к малым сим — так же, как и о том, насколько действительность не отвечала этим стремлениям.
До того как Лэм стал «Элией», он изредка давал непосредственный исход своей горечи по поводу унижения достоинства «маленького человека», спина которого сама по себе гнется при виде вышестоящих, который даже чувствам своим придает требуемое направление. В те годы Лэм описывал, например, идеального чиновника, «хорошего клерка» (1811). Описание это проникнуто явной иронией, каждая новая похвала — насмешка над теми, кто верит в самую возможность таких совершенств, и в особенности над теми, кто считает их совершенствами.
«Он встает рано утром — не потому, что раннее вставание полезно для здоровья... но главным образом для того, чтобы быть первым за своей конторкой... Он умерен в еде и питье, чтобы сохранить твердую руку и ясную голову для службы своему господину. Частично его побуждают к этой умеренности уважение к религии и законы его страны... Он женится — или не женится, в зависимости от того, что больше подходит его хозяину... Если у него есть свободное время; для разговора... он задает уместные вопросы своим сослуживцам (а иногда — уважительно — своему хозяину)».
В этом очерке нарисована гротескная фигура, а на заднем фоне — скорее подразумеваемые, чем изображаемые, еще более гротескные фигуры тех, кому служат и угождают «хорошие чиновники»; добродетели перестают быть добродетелями, когда они диктуются подобострастием. Жалок тот, кто должен изображать из себя подобный идеал, и еще более жалки те, кто одобряет и поощряет его. Чиновник и его покровители представляют в сознании Лэма «официальный» Лондон, вызывающий у него тяжелое чувство презрения и скуки.
Лэм возмущается претензиями этого Лондона на просвещенность и гуманность. В очерке «Современная галантность», который почему-то мало замечен критиками, Лэм ясно, просто, от собственного имени, без обычного своего пристрастия к мистификации говорит о лицемерии современной морали: изображать себя нравственно утонченной нацией и при этом на каждом шагу совершать преступления против элементарного человеколюбия — это, с точки зрения Лэма, худший вид фарисейства. Пока не будут устранены эти преступления, заключает Лэм, он будет считать, что вся современная галантность не более как условность и фикция, установленная людьми высшего сословия.
Разоблачению другой такой фикции посвящен один из очерков серии «Распространенные заблуждения», подписанный уже Элией. По словам Лэма, к таким заблуждениям принадлежит поговорка, будто «дома — это значит дома, даже если не очень-то там по-домашнему». «Но один есть дом, который нельзя назвать домом», — пишет Лэм, — это дом бедняка. В изголодавшемся камине недостаточно огня, чтобы согреть дрожащих детей и мать, исхудавшую от голода, способную думать, говорить, кричать только о еде. Бедняк бежит в трактир, покидая жену и детей. Обеспеченные люди, которые осуждают его, представляют себе семью, живущую в чистоте и довольстве... Но посмотрите на лицо бедной жены, когда она бежит за своим мужем к дверям трактира... Разве с таким лицом можно остаться дома? Легко говорить о смиренной трапезе, разделенной с семьей. А если в ларе нет хлеба? Невинный лепет детей скрашивает бедность. Но дети настоящих бедняков не лепечут... Они сразу познают железную правду жизни».
По мысли Лэма, пошлые истины, подобные изречению о прелестях домашнего очага, даже самого смиренного, придуманы людьми богатыми — у них есть возможность и досуг предаваться сентиментам и даже навязывать их другим в качестве обязательного правила поведения. «Элия» с негодованием, отвергает эти и другие аналогичные сентенции, вроде того, например, что бедняки только подражают порокам богачей — афоризм, приятный для последних.
Шутливые и серьезные детали прихотливо сочетаются в очерке «Канун Нового года». Теплота и радость жизни противопоставлены здесь холоду и мраку смерти. В каждом слове высказывает себя Элия, человек, несмотря .на пережитые несчастья, влюбленный в жизнь. Читатель становится свидетелем рождения и развития мысли. Живость ума, играющего своей темой, исследующего ее в процессе писания, выявляющего все новые и новые ее аспекты — вот что делает из очерка Лэма «эссе» в настоящем смысле слова, т. е. «опыт», — опыт выявления, раскрытия истины — и собственной души.
Лэм полностью дает себе отчет (здесь он отличается от склонных к догматическому морализированию лекистов) в том, как мала та часть истины, которую он может сообщить своему читателю. Мелкие, до пародии доведенные частички философской и социальной мудрости, излагаемой Лэмом, по большей части приобретают парадоксальную форму: нищие провозглашаются единственными свободными людьми, уничтожение которых лишает столицу былой поэзии; дуракам приписывается несравненная красота души — они неспособны никого обмануть, а нелепая чудаковатость рассматривается как доказательство нравственной чистоты.
Торжественная серьезность, с которой Лэм высказывает и сопоставляет соображения, явно бессмысленные или в лучшем случае несущественные, производит сознательно юмористическое впечатление. Оно основано на том, что серьезность подчеркивает одновременно и насмешку Лэма над самим собой и над всеми теми, кто подобным второстепенным, заведомо пустым различиям и понятиям придает значение. Хлопочут, судят, рядят, толкуют — и все о чем? О призрачных, условных, мнимых истинах!
Лэму и забавно и грустно видеть, какое значение приобретает все мелкое, формальное и в каком пренебрежении остается все то, что действительно достойно внимания. Так, в основе очерка «Похвала трубочистам» лежит мысль о том, как тяжела участь мальчиков-трубочистов, чуть ли не с младенчества обреченных на тяжелый, опасный труд, лишения и раннюю разлуку с беззаботностью детских лет. Видимая мораль очерка сводится к призыву по мере сил помогать маленьким жертвам и к осуждению, тех, кто неспособен на деятельное сострадание. Однако мораль так крепко впаяна в художественный материал эссе, что высвободить ее можно только искусственным путем.
Это достигается прежде всего тем, что в очерке Лэма полностью отсутствует прямое поучение. Поза учителя, непогрешимого проповедника, органически неприемлема для Лэма. Он полон сознания собственной слабости, он помнит о перенесенных горестях и, сочувствуя слабостям и горестям ближних, не считает для себя возможным расточать наставления. Даже тогда, когда Элия как будто дает советы, они имеют подчеркнуто конкретный, частный характер. «Читатель, если вы встретите одного из этих маленьких людей во время ваших ранних прогулок, вы хорошо сделаете, если дадите ему пенни, еще лучше — два». Мораль здесь кажется почти пародийной в своей незначительности.
Несерьезности этой явной морали противостоит серьезность чувства, окрашивающего весь очерк. Чувство жалости, нежности к маленьким труженикам и их доле дает единство большому, в пределах коротенького эссе, разнообразию элементов, его составляющих, — от описания юного трубочиста, каким он представляется в настоящем, до воспоминания о таинственности, которой окружало его появление детское воображение автора; от анекдотов, распространяемых о трубочистах, до отчетов о празднествах в их честь; от теорий о происхождении трубочистов до маленьких сценок из жизни большого города с их участием. В очерке господствует патетическая интонация. Но в соответствии с узостью темы и отсутствием традиционной героики, патетика Лэма всегда на грани комического. «Он все на свете исследует с помощью шутки», — говорил Хэзлитт.
Юмористический эффект чаще всего достигается у Лэма благодаря неожиданности сочетаний: комической темы и сентиментальной трактовки (или, напротив, «темы, по существу своему серьезной, но трактованной, по моему обыкновению, несерьезно», — торжественности словоупотребления и незначительности сюжета, чрезмерной детализации (при отсутствии стержневого мотива), архаического построения периода и наполнения его коротенькими, далекими от норм принятой литературной речи синтаксическими единицами (вопросами, восклицаниями, эллиптическими предложениями, передающими быстрый, порывистый, ритм живой речи).
Протест Лэма против стандартов мысли и чувства закономерно проявляется в возмущении против языковых штампов, в «ненависти к готовым блюдам на банкете муз». Это у Лэма осознанное восстание, и он знает, что наградою за такое восстание могут быть только насмешка и преследование со стороны официальной критики.
Самый стиль его очерков представляет собой отрицание господствующих литературных канонов и утверждение новых художественных принципов. Несмотря на отдаленность от крупных проблем, несмотря на подчас нарочитый субъективизм, любой очерк Элии заключает в себе жизненную правду и урок его современности — урок, преподанный со всею энергией искренности, но без малейшей назидательности. Свежесть и неортодоксалыность чувства проявляются в свежести и необычности поэтической речи, нарушающей принятые нормы и предписания.
В отличие от господствующей литературной моды, придерживающейся в прозе классицистических образцов — отвлеченной лексики, симметрического построения, равновесия частей, ритмического, единообразия, правильного чередования контрастов и параллелей, нарастания и спада, — Лэм стремится возродить лексическое и синтаксическое богатство, свойственное «елизаветинским» драматургам и прозаикам XVII в.
Стилистическое своеобразие Лэма соответствует своеобразию его поэтической индивидуальности. Человек обостренной чувствительности и тонкой душевной организации, Лэм жил в среде, ему чуждой, под гнетом общественных нравов, ему отвратительных, в обстановке, когда между идеологией правящей верхушки и миросозерцанием свободомыслящей литературной интеллигенции была пропасть. Лэм не обладал ни темпераментом, ни стойкостью, необходимыми для длительного и открытого сопротивления. Он рано отдалился от политической жизни и обратил свои помыслы к тем этическим и эстетическим ценностям, которые наивно считал независимыми от треволнений социальной борьбы. Но он превосходно сознавал ограниченность своих духовных возможностей, свою неспособность выразить во всей полноте необозримую сложность жизни. Понимая незначительность тематики своих очерков, Лэм сам, то грустно, то шутливо, подчеркивает узость своего интеллектуального диапазона и превращает эту узость в художественную особенность эссе Элии.
Однако во всех этих эссе отразились ищущий беспокойный ум, любовь к людям и сочувствие их печальной доле, убежденье, что в век, когда старые формы бытия разрушены, а новые не успели приобрести элементарное благообразие, нужно пытаться сохранить внутреннее достоинство, независимость суждений, горячность чувств.
В этом мире все привычное необыкновенно и втягивает читателя в свою орбиту, делая его соучастником не столько описанных событий, сколько самого процесса мысли, открывающей новые стороны знакомых явлений.
Характерное для очерков Лэма раскрепощение поэтической речи, освобождение ее от классицистических условностей и абстракций, расширение возможностей языка за счет сложного взаимодействия архаики с неологизмами, а просторечия и современной бытовой лексики — с высоким стилем поэзии, возвращение прав гражданства многим староанглийским словам, впавшим в немилость, комическое словотворчество, обновление значений слова — все это показывает стремление Лэма даже в чисто стилистическом плане отделить себя от принятого, утвержденного, распространенного. В прозе он стремится утвердить законы воображения, постигающего истинную природу вещей, отвергающего традиционные методы и готовые формулы.
Так создается новый тип прозы — эмоционально-лирической и юмористической, романтической и реалистической, очень непохожей на напыщенную унифицированную прозу современной публицистики и классических эссеистов из школы Джонсона.
Творчество великого реалиста (Чарльза Диккенса) вобрало в себя опыт писателей-романтиков, по-новому осознавших трагическую поэзию окружающей их жизни. Лондонские «эссе» Лэма, а также Ли Хента не раз припоминались молодому Диккенсу, когда он сочинял очерки Боза.
Произведения Лэма и его друзей представляют собой важнейший этап развития английской прозы.
Л-ра: Филологические науки. – 1965. – № 3. – С. 60-71.
Произведения
Критика