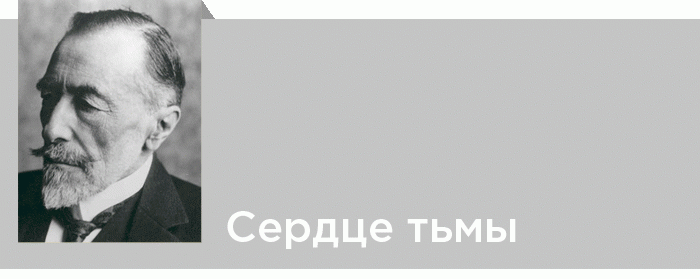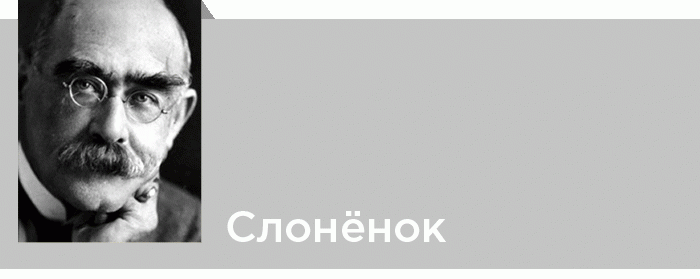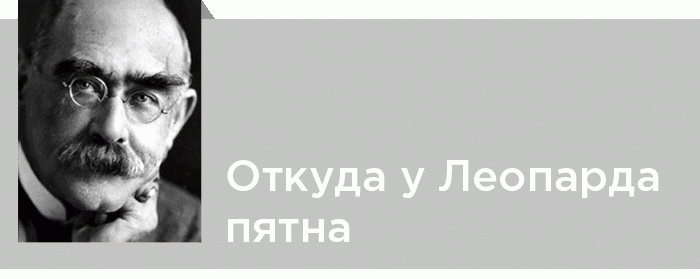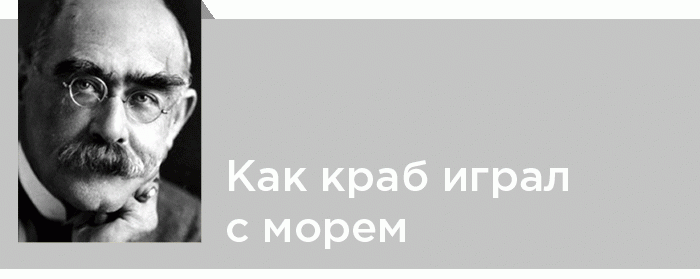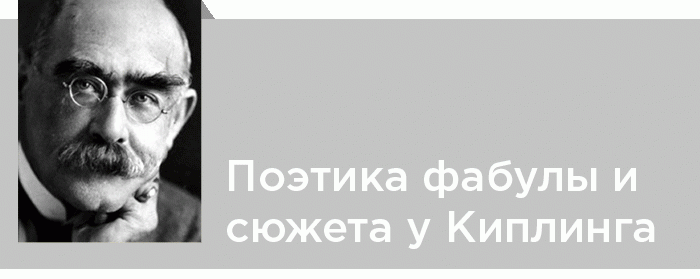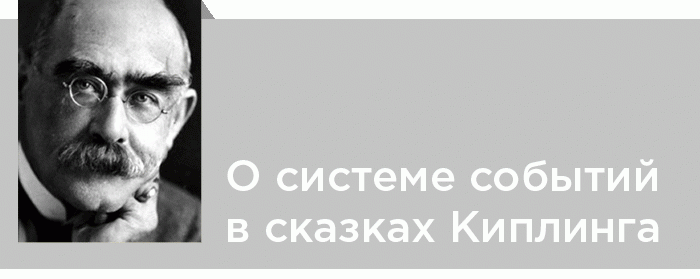«Книги Джунглей» Киплинга как жанровый эксперимент

Л.И. Скуратовская
«Книги Джунглей» обладают достаточно зашифрованной образностью, чтобы восприниматься вне общественной программы Киплинга. От того литературоведческое прочтение их является особенно противоречивым. Безобидная анималистическая фантазия; выражение нового морального кодекса «активности» и «свободы»; проповедь грубой силы и агрессивности; гимн человеческому в человеке, который торжествует над зверем — спорящие друг с другом суждения. Столь же противоречивы оценки новаторства Киплинга: имитация художественной новизны за счет газетного журнализма; внешняя демократизация словаря, способы повествования персонажей и рассказчика; настоящий, неподдельный талант (известное мнение Хемингуэя). Поэтому по-прежнему актуально такое рассмотрение его произведений, когда индивидуальные особенности таланта, общественная позиция художника, концепция мира и жанрово-стилевое новаторство выступают в связи.
Попытка такого рода предпринята и в исследовании, результаты которого изложены в данной статье. Методика его определяется следующими теоретическими представлениями: жанровое взаимодействие не есть простое, пусть даже количественно богатое, сложение жанров; стилевая новизна — не соединение, пусть даже с оговорками («органический сплав»), различных стилевых тенденций; и то и другое может быть системой, а тем более новаторской, лишь в том случае, если связано с процессом «прорастания» какого-то новаторского индивидуального зерна. К такому пониманию жанра и стиля позволяют прийти фундаментальные труды ученых — М.М. Бахтина, В.В. Виноградова, А.Ф. Лосева, Д.С. Лихачева.
Историки литературы, развивая традиции русской демократической критики в оценке Киплинга (Куприн), анализируют главным образом противоречия его творчества и идеологии; касается и «детских» его произведений. Англоязычная киплингиана более многоаспектна и специализирована, но ее общей чертой и недостатком, вытекающим из методологии, является раздельное ведение дискуссии о художественном мастерстве и идеологии.
Английские и американские историки детской литературы видят заслугу Киплинга в освобождении от викторианских моральных ограничений. Крупный авторитет в области детской книги Ф.Х. Дартон едва ли не единственный объясняет эти новые веяния фундаментальными общественно-идеологическими изменениями: сменой островного общественного идеала имперским, появлением новой концепции воспитания — милитаристского и официозно-патриотического, позволяющего подготовить умы для войны 1914 г. Но Дартон еще видит в «империалистическом духе» здоровое начало, выражение новых «неисчерпаемых возможностей» молодых британцев в великой державе от моря и до моря. В последующие десятилетия, с крахом Британской империи, такая трактовка встречается уже только как анахронизм, либо как ностальгия по ушедшей «прекрасной эпохе».
Необходимо всмотреться и в то, что отвергалось, — в «художественную социологию» Киплинга, в его модель общественного мира, и увидеть, в чем новизна ее, противоречия и, может быть, достоинства, а не противопоставлять эту модель в целом с заранее принятой отрицательной оценкой, другим, как принято считать, более гуманным сторонам его творчества.
В ходе исследования термин «жанровый синтез» по отношению к «Книгам Джунглей» был снят как неизбежно наталкивающий на мысль об объединении (пусть «творческом», «переплавляющем воедино» и т. д.) уже готовых жанровых форм, на мысль о романе в новеллах или циклах новелл, чем эти книги ни в коей мере не являются. Точнее было бы охарактеризовать их как эксперимент в области смысла и формы; эксперимент в жанре молодой тогда анималистической повести позволяет выработать для этого жанра особый стилевой язык с помощью различных форм сказа, репортажа, публицистики, лирики и т. д. В век становления социологии как науки и распространения дарвинизма не только как биологической теории Киплинг заставил этот жанр служить целям художественного социологического исследования. Отсюда и «ссылки на источники», одновременно сказочные и имитирующие документальность: историю белого тюленя с русским именем Котик «рассказал мне полярный вьюрок по имени Лиммершин»; история эскимоса Котуко вырезана на Моржовой кости (указаны все хозяева пластинки, пароходы, и порты, где она побывала), «я нашел ее среди всякого хлама а одном доме в Коломбо и перевел всю, от края до края».
«Переводчик» с языка зверей или далеких народов — вот еще одна ипостась автора. Даже лирические колыбельные и утренние песни названы переводами; автор будто хочет заставить забыть, что поэт — он сам. Здесь не только лукаво-сказочная игра: сказывается характерное для Киплинга приятие искусства лишь как «работы» в ряду других работ. Перевод, историография, этнография – это работа; поэзия, критика, «служение музам» — увы, часто лишь имитация живого дела, «обезьянья» игра «во что-то благородное, высокое и прекрасное» — таковы киплинговские крайности, не исключающие пафоса, когда речь идет о мастерах — «хороших работниках».
И еще одно. В ходе «эксперимента» автору важнее быть - «переводчиком», чем создателем — «переводя», обнаруживать невыдуманное, по его мнению, единство дальнего и разного, единство действующих в социальном мире «от Делоса до Лимерика» законов.
От этой позиции автора в большей мере, чем от любых композиционных приемов, зависит целостность «Книг Джунглей».
Действительно, композиционные связи в «Книгах Джунглей» разрушаются, едва наметившись: цикл о Маугли, например, постоянно перебивается не связанными ни с ним, ни друг с другом новеллами. Они разножанровы. «Рикитикитави» — анималистическая повесть для детей, «Слуги ее величества» — соединение репортажа, пропагандистского политического очерка и сказочной аллегории с целью прославить общественный порядок как иерархию силы; «Могильщики» — анималистическая фантазия для взрослых, прославляющая англичан как опору Индии. Постоянен лишь архитектонический принцип: рассказы перемежаются стихами, также разными по жанру (песни, баллады, стихотворные максимы).
Еще дальше от цикла о Маугли с его культом закона новелла «Белый котик». Сочетание лирического, сказочного и очеркового начал здесь подчинено нарастанию внутреннего, а не только внешнего, как в других рассказах, драматизма. Котик стал свидетелем массового избиения заготовителями своих сородичей, сохраняющих покорность. Сцена эта — в числе тех, которые могли стать уроком Хемингуэю: оголенная проза, без тропов и эмоционально-оценочных эффектов, и оттого обостренно психологичная — так видит потрясенный человек. Драматизм заключается в столкновении героя не только с этой жестокостью, но и с косностью жертв: Котик намерен спасти свой народ, но страдающее от массовых казней «общество» отказывается от перемен, ссылаясь на Закон и порядок вещей. Котик все же добивается своего, и впервые в «Книгах Джунглей» пафос охранительной силы Закона приглушается в пользу, утверждения совсем иных ценностей: героичность Котика в отличие от Маугли — неподчинении установленному.
В целом же Закон занимает центральное место в книгах. И взаимодействие разных жанрово-стилевых начал нужно, чтобы с разных сторон показать его действие, доказать его универсальность. Образ автора как истолкователя Закона, его «знание», из которого он может черпать бесконечно (это подчеркнуто зачином «Рыжих собак»), делают разножанровые рассказы и стихи единой книгой.
Так задуманный образ автора усиливает эффект объективированности повествования. Киплинг выступает не как собственно автор, т. е. выдумщик рассказов и создатель своего мира, а как носитель правды, повествующий о деяниях героев Джунглей и Севера, передающий традицию. Исторически такая позиция поэта — одно из условий появления эпоса, и Киплинг, по-своему имитируя ее, задумывает не роман, цикл новелл или стихов, а новый эпос, где слиты начала литературных родов и жанров, — Книгу, образ литературы в целом, посвященную Джунглям, образу мира в целом. Жанровый эксперимент такого размаха вызван к жизни именно тем, что художник хочет создать модель мира в целом — и природы, и общества, а не только одной из этих сфер.
Взаимодействие стихов и прозы, лирики и «фактографии», приземленности и пафоса рассчитано, очевидно, на такой художественный эффект, когда каждая подробность, от грязи военного лагеря в Индии до северного сияния, воспринимается равно как достойная эпоса, существующая одновременно в своей реальной конкретности и как деталь картины вселенской природы — общества. Важно, что это «природа — общество» (слияние), а не «природа и общество» (раздельно): все сущее предстает в концепции Киплинга как бесконечно порождаемые природой сообщества, социальные миры.
В этом видится некая параллель спенсеровским идеям «Общественного организма» и органического развития общества. Возникнув до основного труда Дарвина, учение Г. Спенсера о развитии получило завершение почти через три десятилетия одновременно с «Книгами Джунглей» («Принципы социологии» Спенсера — 1896, «Книги Джунглей» — 1894-1895). Влияние Дарвина и Спенсера, очевидно, было взаимным, и сводить доктрину последнего к «социальному дарвинизму» нельзя. Если «социальные дарвинисты» переносили «закон выживания самого приспособленного» с природы в общество, то Спенсер утверждал более сложную идею органичности общества, рассматривал социальную историю как возникший в процессе эволюции этап биологической истории и истории Земли в целом. Очевидно, именно это, а не примитивная идея «социальных дарвинистов», сродни Киплингу.
Существует мнение, что Шиллинг «перерос» Спенсера: он не оценивал науку, религию и мораль с точки зрения их «правоты» или «неправоты», а видел в них социальные факты, реальные и действенные.
Действительно, «Закон» Киплинга отражает более глубокое понимание общества, чем социализация биологических категорий у социальных дарвинистов или поэтизация «благородства» человеческой морали у других викторианских социологов. По Киплингу, закон должен быть оценен прежде всего не с точки зрения морали («хороший» или «плохой», «жестокий» или «мягкий»), а по его целесообразности, возможности охранять общество. Поэтому описание «Закона» сопровождается не оценочными эпитетами, а советом юному читателю: «Подумай хорошенько, и ты увидишь, что иначе не могло быть». Киплинг сразу же разъясняет разницу между причиной существования закона и его моральным освещением в обществе. Говоря о главном законе Джунглей — запрете убивать человека, он подчёркивает несовпадение его «подлинной причины» и «причины, которую приводят звери»: первая заключается в том, что разрешение убивать привело бы к уничтожению Джунглей, но «зверям» нужно моральное освещение, и оттого возникает вторая, по существу противоположная истине: «человек — самое слабое и беззащитное из всех живых существ, и было бы нечестной игрой трогать его».
Даже неискушенный читатель понимает, что речь идет об одном из главных законов и общественного права, и человеческой морали (кстати, в Джунглях запрет убивать не может быть абсолютным и распространяется лишь на один вид живых существ, как и в реальной истории содержание понятия «человек, которого нельзя убивать», менялось в зависимости от эпохи и общества). Без всякого «священного трепета» Киплинг показывает социальную целесообразность этого закона как первичное и его моральное оформление как вторичное, иронически отмечая несовпадение последнего е реальностью (боевые слоны, ружья и сотни солдат — и «слабое, беззащитное существо»). Если учесть, что не только содержание, но и форма изложения «Закона» в виде заповеди-максимы могли вызвать у читателя ассоциацию с христианской заповедью «Не убий», то ирония Киплинга, разрушение им священного ореола вокруг общественных верований, обнажение механизма общественного поведения людей станут еще очевиднее. В этом отношении Киплинг заслужил имя «английского Бальзака». Он далеко опередил викторианских социологов, уверенных, что возникновение законов связано с моральном прогрессом общества;
Киплинговские афоризмы и Закон Джунглей как будто спорят друг с другом: «мы одной крови» — апофеоз взаимопомощи и «доброй охоты вам всем» - апофеоз всеобщей войны. Но сюжет обеспечивает их единство; обнаруживается своеобразная диалектика солидарности и конкуренции, в соответствии с которой жертвами охоты становятся те, кто «другой крови». Неверно было бы представлять конфликт «Книг Джунглей» как конфликт человека, носителя ума и духовной силы, и животного мира. Герои-люди включены Киплингом либо в круг высших, благородных существ, где рядом с Маугли оказываются Акела, Багира, Каа и другие, либо в круг низших, где рядом с трусами, предателями и стяжателями-людьми находятся презренные Бандарлоги и тигр-людоед. Маугли, нормативный герой Киплинга, олицетворяющий лучшего человека, оказывается в полном, смысле слова «высшим животным», лучшим из животных. Немыслим конфликт такого героя с «благородным зверем» в Джунглях Киплинга; нет и борьбы человека со зверем в самом человеке, как у Золя в «Человеке-звере»; нет и опасения, что война всех со всеми губительна для общества («Машина времени» Уэллса). Конфликт «Книг Джунглей» — столкновение «высшего» класса живых существ с «низшим», причем Киплинг изображает это столкновение как основу основ общества. Если у Уэллса («Остров д-ра Моро») закон — это уродливое порождение власти, то Киплинг отводит Закону Джунглей роль силы, мудро регулирующей основной конфликт. Мудро — значит, по Киплингу; так, чтобы он постоянно возобновлялся: ведь без этого нет Джунглей — нет общества.
Ум человека, его духовность также заняли свое место в конфликте: они — залог успеха, охоты. Интеллект человека противопоставляется у Киплинга когтям и зубам зверя лишь как лучший из инструментов приспособления, лучший зуб и лучший коготь. Человек — переросший своих наставников ученик зверей, и это закономерно, поскольку природа — праматерь общества и учиться следует прежде всего законам охоты и иерархии силы.
Последний мотив характерен и для киплинговской воспитательной повести («Отважные мореходы», «Стоки и К°»). Здесь такое же, как в «Книгах Джунглей», понимание «атмосферы мужества» и цели обучения. Формирование подростков в закрытой военизированной школе в «Стоки и К°» имеет в истории Маугли свой метафорический вариант — это мужское воспитание, которое получает герой под руководством медведя, удава и пантеры.
«Джунгли» иногда связывают с индийским фольклором. Однако в целом дух индийского художественного восприятия, которое специалисты определяют как любование добротой и нежностью человека, «мирное и нежное наслаждение жизнью» и «сострадание ко всему живому», как нельзя более далек от киплинговской поэтизации борьбы и охоты.
Итак, Киплинг нагрузил жанр анималистической фантазии серьезнейшими социологическими проблемами: вопросами о законе, его происхождении и роли, о лежащем в основе общества конфликте, о направленности воспитания. В художественном решении их сказались далеко не обычные для его времени понимание природы общественных механизмов.
Введение такой проблематики в анималистическую фантазию определило новизну жанрового эксперименту Киплинга. Ничего подобного не было у первых создателей этого жанра в Англии: в «Водяных малышах» Кингсли (1863) есть социальная (но не социологическая) проблематика, в «Черном Красавце» (мемуарах лошади) Энн Сьюэлл (1876) — проблематика нравоописательная и моралистическая, но никто из них не задумывал создать модель социального мира.
Очеловечивание животных — необходимое условие существования жанра, идущее еще от фольклора. Литературная анималистическая фантазия добавляет к этому и одухотворение — единственную возможность показать изнутри мир героя, сохраняющуюся во всех модификациях жанра от Сетона Томпсона и Джека Лондона до Голсуорси и гениального «Холстомера» Льва Толстого. И у Киплинга это менее всего сказочная черта; в целом сказочное начало вопреки распространенному мнению в его «Джунглях» почти отсутствует. Согласно складывающейся при его жизни концепции сказка представляет собой повествование о волшебном мире, в котором торжествует мораль добра. Совершенно, очевидно, что таких сказок Киплинг не писал, а безбрежно расширять границы жанра было бы неисторично.
Итак, «Книги Джунглей» можно охарактеризовать как анималистическую фантазию в рассказах с намеренно прерываемой цикличностью (что создает «панораму иных миров»), с композиционно обусловленным вкраплением стихов. И в содержательном и в формальном отношении эта структура одновременно циклична и антициклична, упорядочена и произвольна, но последнее — не настолько, чтобы разрушить единство, создаваемое прежде всего киплинговской «социологией», моделью «природы-общества». Писатель задумал приоткрыть тайну их взаимодействия, и этим определяются все иные взаимодействия в книгах.
Л-ра: Литературные традиции в зарубежной литературе ХІХ-ХХ веков. – Пермь, 1983. – С. 113-121.
Произведения
Критика