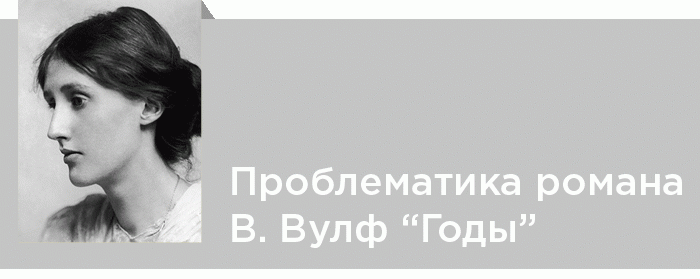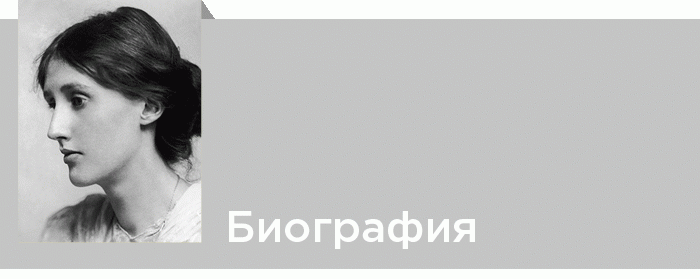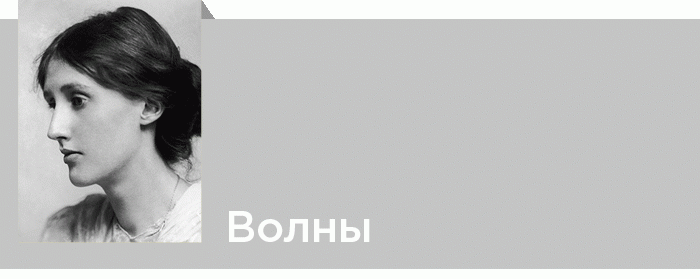Роман без тайны

В. Днепров
Критиковать роман Вирджинии Вулф — дело легкое, но соблазняться этой легкостью, право же, не стоит. Роман явился на свет более 60 лет тому назад и не сгинул в литературных бурях нашего века: он живет и продолжает читаться. По слову Белинского, лучший критик — история, время. Этот «критик» высказался в пользу романа, невзирая на его ощутимые слабости.
Действие романа уложилось в один только день, в чем, впрочем, нет ничего удивляющего. День этот посвящен значительному событию — назначенному на вечер светскому приему, — его успех или неуспех рассматривается как волнующая проблема. Более существенное содержание живет как бы в порах между элементами подготовительного обряда: уборкой квартиры, расстановкой мебели, выбором посуды, приведением в порядок зеленого платья, признанного достойным торжества, посещением цветочного магазина и отбором цветов, появлением первых гостей и тем последним моментом, когда, закрывая за собой двери, персонажи выходят из романа, а героиня остается одна — счастливо опустошенная. На протяжении дня через каждые полчаса гулко и певуче бьет неумолимый Большой Бен — само Время поставлено на службу готовящемуся празднеству. Таков внешний каркас книги, его схема, или, если угодно, его рамочная композиция. Не дразнит ли автор читателя, вовлекая его в спор: я занимаюсь вещами столь суетными и внешними потому, что события, господствовавшие в романе прежнем, в современном романе призваны играть роль второстепенную, а решающую важность приобретает действие внутреннее, протекающее в субъективном мире героев, — здесь красота и поэзия.
И вот как просто вводится более существенное действие: случилось так, что именно в этот день приехал из Индии после долгого отсутствия Питер Уолш — человек, которого Кларисса Дэллоуэй в юности вроде бы любила. Не ждите, что последуют разговоры с неизбежным «а помнишь» и выяснением отношений. Как раз этого в романе нет. Диалог занимает в нем незначительное место. Непосредственное общение заменяется тем, что обычно именуют внутренним монологом, или потоком сознания каждого из них, то есть воспоминанием; душевная жизнь героев открыта для нас, мы «видим» и «слышим» то, что происходит в их сознании, непосредственно постигаем все, что совершается в чужой душе. Таким образом, общение как бы осуществляется через читателя: именно он может сопоставить, поставить в определенное отношение то, что узнал в их внутреннем монологе или процессе воспоминания. Сказанное представляется первостепенно важным, когда речь идет о рассматриваемом сочинении Вирджинии Вулф. Здесь читатель, проходя попеременно через душу Клариссы Дэллоуэй и Питера Уолша, двигаясь по ходу воспоминания каждого из них, как бы сам компонует роман.
В указанных границах существует некоторое различие между внутренним монологом и потоком сознания. В первом изображаемое содержание в большей степени подчинено тематическому единству, более связано и подчинено логике развертывающегося смысла. Во втором, потоке сознания, его ход разрывается вторжением сиюминутных, попутных впечатлений или неожиданно всплывающих ассоциаций, меняющих направление душевного процесса. Первое можно изобразить более или менее правильной кривой, второе — ломаной линией. Литературную технику внутреннего монолога, или потока сознания, довели до зрелости русские писатели: Толстой и Достоевский. Чтобы уяснить различие внутреннего монолога и потока сознания, достаточно сравнить изображение внутренних состояний Анны Карениной перед самоубийством, как оно дано в варианте и окончательном тексте. В первом решительно преобладает внутренний монолог, во втором — поток сознания. (Я говорю об этом потому, что в романе Вирджинии Вулф различие широко используется, и писательница искусно переходит от одного к другому.)
Итак: монолог-поток сознания Клариссы Дэллоуэй и Питера Уолша становится несущей конструкцией художественного содержания, ведет к основной идее романа. С Питером Уолшем связаны сильнейшие любовные волнения Клариссы, но это не помешало ей трезво и решительно разорвать с ним и взять себе в мужья человека благожелательного и джентльменски-посредственного, обещающего ей жизнь спокойную, быт уютный и красивый и притом любящего ее настолько, что его любви к ней хватит на все годы совместной жизни. Ричард Дэллоуэй — образец аристократически-консервативной натуры, оплот жизнеустройства без потрясений и кризисов, он обеспечит ей жизнь на том социальном уровне, в котором она нуждается. Питер Уолш неровен, беспокоен — моменты высокой нежности и тяготения к нему сменяются ссорами, он слишком склонен к нетрадиционным суждениям, в его поступках содержится элемент непредсказуемости, в его иронии, обращенной к ней, слишком много проницательности, чтоб быть желательной: Клариссу следует принимать и обожать такой, какова она есть. Питер Уолш и в личном и в социальном смысле недостаточно надежен, в нем нет той прочности, какая требуется, чтобы свивать вместе с ним гнездо. Теперь, когда она достигла всего, на что надеялась, вдруг снова появляется Питер. Пережитое с ним проходит в воспоминаниях как живое и требует ответа. Теперь Кларисса стала зрелой и яснее понимает, как много потеряла. Но ни на мгновение ей не приходит в голову усомниться в своей правоте. Теперь «любовь сломя голову» кажется ей еще туманнее, тревожнее, опаснее, чем казалась раньше. И теперешняя чудаческая неустроенность Питера подтверждает это. Проверка не была простой — она была связана с болью, но итог вполне ясен. Теперь, когда ей уже больше 50 лет, и она по сути осталась молодой женщиной, стройной, блестящей и прекрасной, Кларисса не только снова отвергает Питера Уолша, но выходит за границу своей памяти, вчера еще теплой и живой, окончательно прощаясь с юностью. Достойно внимания, что книга, в большой своей части посвященная любви, оказывается насквозь антиромантичной. Кларисса была способна к любви, но не захотела ее, видя над нею другую ценность, которая значительней любви: царство опоэтизированной аристократической каждодневности и традиционности, нежное партнерство, радостные заботы о доме, которым она так гордится. Миссис Дэллоуэй живо представляет окультуренную прекрасную женственность, по духу и плоти принадлежащую миру консервативности и устойчивости, присущих английской аристократической среде. (Напомню, что с конца семнадцатого века аристократия, став почетной частью буржуазии и успешно служа своему классу, сохранила некоторое своеобразие нравов, культуры, жизненных манер, явив на протяжении этих столетий устойчивость жизненного уклада, ни в какой другой европейской стране не виданного.) Способность аристократии и высшего слоя буржуазии оставаться собою во всех превращениях истории составляет невидимую предпосылку всей концепции бытия в романе Вирджинии Вулф. Пусть будет, как прежде, — такова формула социально-психологической идеи «Миссис Дэллоуэй». Реальность Англии после первой мировой войны как бы нарочно взята с женского конца: мужьям предоставлена политика, карьера, дела, но занятия и интересы женщин вовсе не нуждаются в знании мужских дел по их существу. С такой дамски-аристократической позиции легче изображать жизнь послевоенной Англии, минуя великие потрясения истории.
Миссис Дэллоуэй, выйдя на лондонскую улицу, услышав ее многоголосый шум, мерный ритм, скрытый в ее оживлении внутренний покой, с особой радостью почувствовала, что это прежний Лондон, «а войны больше нет»: она стерта, смыта волнами восстановившейся прежнеанглийской жизни. Питер Уолш, прибыв из Индии, нашел Лондон невозмутимо таким же, каким он знал его когда-то: будто человек возвратился на старую квартиру и с ощущением наступившего отдыха не глядя сует ноги в домашние туфли.
Однако Вулф достаточно хорошая писательница, чтобы не внести поправку в утопию невозмутимого английского прагматизма, в идиллию остановившегося времени. Война оставила в памяти нации такую зарубку, о которой умолчать невозможно. Война ввела резкую черную линию в благополучно светлый спектр лондонской жизни.
В роман вошел трагический эпизод. Столь же внезапно, как другие персонажи, явился в романе молодой человек, Септимус Смит, в чьей гуманной, поэтической душе ужас войны отразился благородным неврозом, ведущим к мучениям и смерти. Его потрясенная психика изображена очень точно, с той поэзией, которая не боится встречи с роковыми вопросами жизни. Лечащие его врачи представлены в духе жестокой сатиры, идущей из реалистического английского романа XIX века. Бездушные, самодовольные, они совершенно не способны понять страдания Септимуса Смита, и их лечение — особая форма насилия и подавления. Сцена, когда Смит в ужасе от приближения врача выбрасывается из окна, написана рукою мастера. Весь эпизод демонстрирует сокровенные, так и не реализованные возможности автора. Но эпизод должен быть введен в общий строй романа, чтобы не нарушилась его идея, его основная тональность. Оттого он ставится в скобки, изолируется от общего течения романа, выносится на его обочину. Эпизод — как бы плата, которую благополучие платит страданию, — оно, как хвост кометы, тянется от войны.
Подоснова романа — стремление художника сохранять английскую действительность такой, какой она была и есть. Даже перемены к лучшему угрожают ее постоянству — пусть уж лучше все остается без перемен. Роман Вирджинии Вулф — воплощение духа консерватизма, который живет в каждой клетке художественно запечатленного бытия. Дело не просто в поверхностности авторского подхода к жизни — за ним стоит консервативный идеал, стремление совместить иллюзию и реальность. Ныне, когда английский консерватизм стал жестче, злее, агрессивнее, опаснее, появление романа, подобного «Миссис Дэллоуэй», как сколько-нибудь художественного произведения стало невозможным. Герой Лермонтова готов отдать две жизни «за одну, но только полную тревог», а миссис Дэллоуэй без особого труда отдает такую чрезвычайную ценность, как любовь, за жизнь бестревожную, красиво благополучную. Автор не порицает, не одобряет свою героиню, он говорит: это так. И при этом любуется законченностью и обаятельной цельностью ее характера.
Автор не критикует свою героиню, но ей вряд ли удастся избежать точной критики со стороны читателя. Обладая внешними и поверхностными признаками очаровательной женщины, она лишена женственности по существу; острый ум героини сух и рассудочен; она катастрофически бедна в сфере эмоций — единственная жгучая эмоция миссис Дэллоуэй, находимая в книге, — ненависть. Классовые предрассудки заменяют ей чувства...
Низменный персонаж в низменном мире в пору гигантских потрясений. Во всем этом сказалась узость исторического и социального кругозора самого художника — Вирджинии Вулф...
Чтобы шире и вернее увидеть роман Вирджинии Вулф, мы должны определить его связь с явлением искусства и культуры, которые Бунин назвал «повышенной восприимчивостью». Речь идет об исторически развившихся переменах в структуре человеческой личности, переменах, затронувших всю сферу чувственных реакций человека, принесших новое богатство в их содержание. Тот же Бунин сказал об «изумительной изобразительности, словесной чувственности, которой так славна русская литература». Чувственная связь человека с миром образует отныне особый пласт человеческой психики, пронизанный самыми общими эмоциями и мыслями. И слова Бунина относятся прежде всего к Толстому, который художественно поставил мир чувственного на новое место — и ясно сознавал это.
Но независимо от указанного сдвига в русской литературе почти в то же время во Франции создается великая живопись, сказавшая новое слово в истории мирового искусства и получившая название импрессионистической — от слова «впечатление». Тот, кто проник в мир этой живописи, навсегда будет видеть мир другим, чем видел его раньше, — более зрячими глазами, будет по-новому воспринимать красоту природы и человека. Глубокое воспитательное значение этой живописи неоспоримо: она делает акты человеческого бытия интенсивнее или, пользуясь словом Толстого, повышает его чувство жизни. К этому нужно добавить: сходный процесс наметился и во французской литературе: достаточно сравнить изобразительность Бальзака с богатой нюансами изобразительностью Флобера, с его пейзажем, передающим настроение, или с прозой Мопассана, высокоценимой Толстым за ее «красочность», чтобы убедиться в сказанном. Оба движения: в цвете и свете живописи, в слове литературы сомкнулись в романе Пруста «В поисках утраченного времени» — здесь подведен итог импрессионистической эпохе во Франции.
Знаменательно и следующее: в свои поздние годы Бунин признавался в том, что внезапно обнаружил существенное сходство своей прозы с прозой Пруста, добавляя при этом, что лишь недавно познакомился с сочинениями французского писателя, — говоря тем самым, что сходство явилось вне всякого взаимовлияния. Все это позволяет говорить об эпохе в развитии искусства, историческом этапе в «феноменологии человека».
Английская литература примкнула к указанному процессу значительно позже, чем Россия и Франция. Стоит отметить, что та группа английских литераторов, которые ориентировались на «повышенную восприимчивость», прямо ссылалась на достижения «постимпрессионистов»: Ван Гога, Сезанна, Гогена. Именно к этой группе и примыкала Вирджиния Вулф, остроумно и верно изобразившая в статьях свою родословную как писательницы. Естественно, она обратилась в первую очередь к творчеству Толстого, которого считала величайшим романистом мира. Ей особенно нравилось то, что Толстой изображает людей и человеческое общение, переходя от внешнего к внутреннему, — ведь здесь ядро всей ее художественной программы. Но ей решительно не нравилось, что в сочинениях Толстого столь большую роль играет знаменитая «русская душа». Она имела в виду, что у Толстого мы встречаемся не только с примыканием эмоций и мыслей к блаженному царству повышенной впечатлительности, к сфере созерцания, но и вышележащие пласты личности, где ставятся и решаются вопросы о нравственных силах народа, где на первый план выходит образ идейной личности. Вирджиния Вулф тянется к первому, а второе ей чуждо и нежелательно. Она, как видим, умеет мыслить ясно и знает, что ей нужно.
Гораздо ближе к ней был англоязычный писатель Джойс — замечательный стилист, громадно одаренный в сфере образного слова и до совершенства разработавший приемы «потока сознания». У Джойса она взяла представление о сознании, находящемся в сиюминутной зависимости от вторгающихся впечатлений и идущих от них цепей ассоциации, о переплетенности «сейчас» и «было» в неразделимое единство. Но ее, как крайность, раздражала неупорядоченность, нестройность этого сознания, его неокультуренность: многое в нем говорит о массовости и простонародности. Стихийный демократизм искусства Джойса был ей чужд и неприятен. Со свойственным Вулф классовым чутьем, где-то в глубине смыкающимся с эстетическим вкусом, она угадывала, как ей во всех отношениях чужд господин Блум с его мелкими делишками и заботами, с его массово-мещанскими переживаниями. Ей хотелось, чтобы острая восприимчивость была стянута чувством меры, вошедшим в плоть и кровь и лишь иногда разражающимся страстными вспышками.
О Прусте Вирджиния Вулф говорит с огромным почтением как об истоке современной литературы, призванной заменить собою литературу устаревшую — типа «Саги о Форсайтах». Читая ее роман, на каждом шагу встречаешься с влиянием Пруста — вплоть до тона и манеры выражаться. Как и у Пруста, в «Миссис Дэллоуэй» важнейшую роль играет процесс воспоминания, формирующий основное содержание романа. Правда, у Вулф поток воспоминания включен в «сегодня», воспоминание отделено от настоящего, а у Пруста этот поток движется из глубины времени, оказываясь одновременно и прошлым и настоящим. Это различие не просто внешнее.
У Вулф, как и у Пруста, действие разыгрывается на верхнем этаже жизни: они не заглядывают в те социально-экономические механизмы, которые обусловливают условия жизни персонажей; они принимают эти условия по их существу как данные. Но определенное несет на себе черты определяющего, и Пруст в поставленных себе рамках дает тончайшие социальные характеристики изображаемых персонажей, представляя социально особенное во всех его возможных отражениях. Кругозор Вирджинии Вулф уже, скованнее, ее человек по большинству случаев совпадает с английским аристократом — и все же она ясно очерчивает тонкие различия социальной типичности через субъективный мир своих героев. Не говоря уже о том, что второстепенные персонажи — на «характерных» ролях — в подавляющем большинстве случаев описаны в традициях английского реалистического романа: исследовать их в аспекте субъективности Вулф не видит никакого смысла.
Влияние Пруста на роман Вулф более всего определяется тем, что Пруст строит человеческий образ главным образом из впечатлений и сочетания впечатлений, из того, что может дать «болезненно преувеличенная чувствительность». В центре художественного мира Вулф также стоит «впечатлительность». Восприятия как бы вспышки, которые рождаются из соприкосновения субъекта с окружающим миром или другим субъектом. Такие вспышки — моменты поэзии, моменты полноты бытия.
Но также и здесь имеется немаловажное различие между Вулф и Прустом: Пруст, не заботясь о пропорциях или занимательности, готов, сосредоточившись на одном впечатлении, посвятить ему множество страниц. Вулф чужда такая ведущая к крайности последовательность, она боится беспощадной ясности Пруста. Она как бы набрасывает прозрачную вуаль на данную сумму восприятий, погружает их в некое объединяющее мерцание, легкую дымку, подчиняет их разнообразие единству колорита. Пруст говорит долго и упорно о чем-то одном. Вулф — кратко и слитно о многом. Она не добивается восторга, которого добивается Пруст, но ее проза легче усваивается, она может показаться более занимательной, она мягче, пропорциональней прустовской прозы. Роман Пруста труден для чтения: нелегко следить за писателем, который в психологическом микромире неутомимо расчленяет впечатление на элементарные части и включает его в целый круг ассоциаций; у Вулф это облегчено, она быстрее пробегает ряды впечатлений, она и здесь умереннее, боясь крайности и односторонности. Художественная добродетель Вулф — остро поданная умеренность. Она так сочетает крайности своих предшественников, что возникает плавная гармония на уровне высокой художественной культуры. К тому же на этом пути она может воспользоваться уроками Генри Джеймса, чья фраза движется через неуловимо тонкие оттенки, ласкает слух изяществом и сладостно-музыкальным ритмом. Но все же Вулф не спустится вместе с Джеймсом в темный хаос такой его повести, как «Поворот винта».
Было бы несправедливо рассматривать как недостаток подобное сведение многих самостоятельно развившихся форм в некое единство. Такого рода художественное сосуществование, такое закругление острых углов — это как раз то, что делает Вулф самой собою, что создает своеобразно английский вариант прозы, основанной на «повышенной восприимчивости», что определяет место романа «Миссис Дэллоуэй» в литературной эпохе, захватившей многие страны — от России и Франции до американской прозы Хемингуэя или норвежской прозы.
С первых страниц мы узнаем, как заводится мотор романа, в каком ритме он звучит. Первая фраза романа: «Миссис Дэллоуэй сказала, что сама купит цветы». И подумала: «утро какое — свежее». И от подуманного внезапный бросок к утру из юности. «Как хорошо! Будто окунаешься! Так было всегда, когда под слабенький писк петель, который у нее и сейчас в ушах, она растворяла в Бортоне стеклянные двери террасы и окуналась в воздух. Свежий, тихий, не то, что сейчас, как шлепок волны; шепоток волны...»
От решения отправиться за цветами бросок к тому, что утро свежее, от него бросок к памятному утру из своей юности. И от этого еще бросок: к Питеру Уолшу, сказавшему: «Мечтаете средь овощей». Включено отношение между прошлым и настоящим: воздух тихий, не то что сейчас. Включено решение автора не изображать из себя мужчину, а оставаться женщиной и в сфере художества: шлепок волны, шепоток волны. Мы сразу узнаем о многом, что начинает происходить в романе, но без всякого участия повествования. Повествование возникнет, если читатель сумеет связать между собою как бы летящие в разные стороны моменты движущегося сознания. Содержание угадывается без помощи автора: из соединения элементов, рассчитанных автором таким образом, чтобы читатель имел под рукой все, обеспечивающее угадывание. О внешности героини мы узнаем из акта видения, глазами человека, случайно — вот удача! — оказавшегося рядом с Клариссой в момент, когда она стояла на тротуаре, пережидая фургон: «чем-то, пожалуй, похожа на птичку: на сойку; сине-зеленая, легонькая, живая, хоть ей уже за пятьдесят...»
Кларисса шагает к магазину цветов, а в это время в ее голове происходит масса событий — мы быстро и незаметно продвигаемся в центр романного сюжета и заодно узнаем кое-что важное о характере героини. «Она дошла до ворот парка. Постояла минутку, поглядела на катившие по Пиккадилли автобусы. Ни о ком на сеете она не будет говорить: он такой или этакий. Она чувствует себя бесконечно юной, одновременно невыразимо древней. Она, как нож, все проходит насквозь; одновременно она вовне, наблюдает. Вот она смотрит на такси, и всегда ей кажется, что она далеко-далеко на море, одна; у нее всегда такое чувство, что прожить хотя бы день — очень-очень опасное дело». Здесь мы встречаемся с «потоком сознания» — образца Вирджинии Вулф. Поток легко зыблется, не останавливаясь на чем-нибудь одном, переливается из одного в другое. Но пробегающие мотивы затем сцепляются друг с другом, и эти-то сцепления дают ключ к расшифровке, дают возможность связно читать якобы бессвязную его речь. В начале абзаца мы читали о том, что Кларисса ни о ком «не будет говорить: он такой или этакий» — коротенькая, оборванная мысль. Но она сцеплена с предшествующими мыслями о том, была ли она права, выйдя за Ричарда Дэллоуэя, а не за Питера Уолша. И далее, в конце абзаца, поток снова резко поворачивает к Питеру Уолшу: «и больше она не станет говорить про Питера, она не станет говорить про самое себя: я такая, я этакая». В потоке обозначаются тонкие струйки, то выходящие на поверхность, то скрывающиеся в глубине. Чем полнее читатель знакомится с исходной коллизией романа, тем легче он выделяет различные линии содержания, пробегающие сквозь текучую стихию сознания миссис Дэллоуэй.
Наконец она в цветочном магазине. «Тут были: шпорник, душистый горошек, сирень и гвоздики, бездна гвоздик. Были розы, были ирисы. Ох — и она вдыхала земляной, сладкий запах сада.., она кивала ирисам, розам, сирени и, прикрыв глаза, впитывала после грохота улицы особенно сказочный запах, изумительную прохладу. И как свежо, когда она снова открыла глаза, глянули на нее розы, будто кружевное белье принесли из прачечной на плетеных подносах; а как строги и темны гвоздики и как прямо держат головки, а душистый горошек тронут лиловостью, снежностью, бледностью, будто уже вечер, и девочки в кисее вышли срывать душистый горошек и розы на исходе летнего дня с густо синим, почти чернеющим небом, с гвоздикой, шпорником, арумом; и будто уже седьмой час, и каждый цветок — сирень, гвоздика, ирисы, розы — сверкает белым, лиловым, оранжевым, огненным и горит отдельным огнем, нежным, четким, на отуманенных клумбах...» Здесь живопись словом и вместе с тем поэма, здесь художественно высшая сфера искусства Вирджинии Вулф. Такие живописные поэмы впечатлений, пересекая текст, держат художественный уровень целого. Уменьшите их количество — и этот уровень понизится и, быть может, рухнет. Мы живо чувствуем наслаждение, с которым автор повторяет, как припев или поэтическое заклинание, названия цветов, будто даже имена благоухают. Подобно этому, стоит произнести имена Шекспир, Пушкин, Чехов, и мы чувствуем ударяющую в нас волну поэзии.
И еще об одном нужно сказать. Каждый читатель в приведенном отрывке с несомненностью чувствует — это писала женщина... Многие приметы, рассеянные по тексту, дают об этом с несомненностью знать. До XX века в искусстве художественной прозы «человек вообще» говорил мужским голосом, с мужскими интонациями. Писатель мог вести тончайший анализ женской психологии, но автор оставался мужчиной. Лишь в нашем столетии человеческая природа дифференцируется в исходных позициях искусства на мужскую и женскую. Появляется и реализуется возможность в самом способе изображения отразить своеобразие женской психики. Это большая тема, и, не сомневаюсь, она будет исследована по достоинству. И в этом исследовании найдет свое место и роман «Миссис Дэллоуэй».
Наконец, последнее. Я упоминал об ориентации группы, к которой примыкала Вулф, — на французских постимпрессионистов. Ориентация эта не осталась пустым звуком. Путь к выявлению красоты окружающего мира родствен пути Ван Гога, Гогена и других художников направления. Сближение литературы с современной живописью — существенный факт искусства конца XIX — первой четверти XX столетия.
Как много узнали мы о героине романа за время короткой ее прогулки до цветочного магазина; сколько серьезных и суетно-женских мыслей пролетело сквозь прелестную ее головку: от дум о смерти, о религии, о любви до сравнительного анализа своей женской привлекательности с привлекательностью других женщин или об особом значении перчаток и туфелек для истинной элегантности. Какой большой объем многообразнейшей информации разместился на четырех с лишним страницах. Если вы перейдете от этих страничек ко всему роману, станет ясно, сколь громадная насыщенность информацией достигается комбинированием внутреннего монолога с потоком сознания, монтажом впечатлений, чувств и мыслей, якобы беспорядочно сменяющих друг друга, а на самом деле тщательно выверенных и выработанных. Разумеется, подобная литературная техника может быть художественно успешной лишь в ряду особых случаев — и перед нами как раз один из таких случаев.
Приемами своеобразного мозаического, так сказать, гнездового изображения достигнута редкостная полнота характеристики миссис Дэллоуэй, и, закрывая книгу, вы досконально узнали ее внешность, ее психологический мир, игру ее души — все то, что составляет индивидуальную типичность героини. Слово «мозаическое» употребляется в расширительном смысле: это не портрет, составленный из неподвижно закрепленных камешков разных цветов, как в византийской мозаике, а портрет, создаваемый меняющимися сочетаниями разноцветных, зажигающихся и погасающих световых импульсов.
Кларисса Дэллоуэй стойко держит образ, сложившийся во мнении окружающих людей: невозмутимо гордой победительницы, вполне владеющей искусством аристократической простоты. И никто — ни муж, ни дочь, ни любящий ее Питер Уолш — не догадывается о том, что скрывается в глубинах ее души, что не видно извне. Это специфическое расхождение между линией внешнего поведения и линией движения субъективного сознания и есть в представлении Вулф то, что мы обычно именуем тайной женщины. В глубине происходит много такого, чего о ней никто, кроме ее самой, не знает, — никто, кроме Вирджинии Вулф, создавшей свою героиню вместе с ее тайнами. «Миссис Дэллоуэй» — роман без тайны; одной из важных тем романа как раз и является вопрос о почве, из которой женская тайна вырастает. Почва эта — исторически отвердевшие представления о женщине, на которые она хочешь не хочешь вынуждена ориентироваться, чтобы не обмануть ожиданий. Вирджиния Вулф коснулась здесь серьезной проблемы, которой так или иначе должен был касаться женский роман XX века.
Скажу несколько слов о Питере Уолше — только в одной связи. Вулф знала, как надо писать роман, и писала его как надо. Именно там, где говорится о Питере Уолше, она яснее всего высказалась по решающему вопросу о значении повышенной впечатлительности. «Эта впечатлительность была для него сущим бедствием... Наверное, глаза увидели какую-то красоту; или просто сказался груз этого дня, который с утра, с визита Клариссе томил жарой, яркостью и кап-кап-капаньем впечатлений, одного за другим в погреб, где они останутся все в темноте, в глубине — и никто не узнает... Когда вдруг раскрывается связь вещей; карета «скорой помощи»; жизнь и смерть; бурей чувств его вдруг будто подхватило и унесло на высоченную крышу, и внизу остался только голый, белый, ракушками усыпанный пляж. Да, она была для него сущим бедствием в Индии, в английском кругу — это его впечатлительность». Перечитайте страницы, посвященные Питеру; Уолшу накануне вечернего праздника, и вы найдете там эстетическую программу Вирджинии Вулф.
Л-ра: Литературное обозрение. – 1985. – № 7. – С. 68-72.
Произведения
Критика