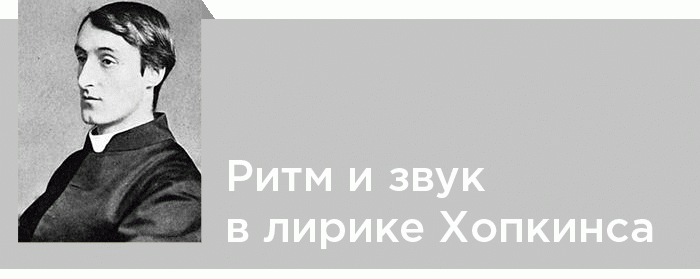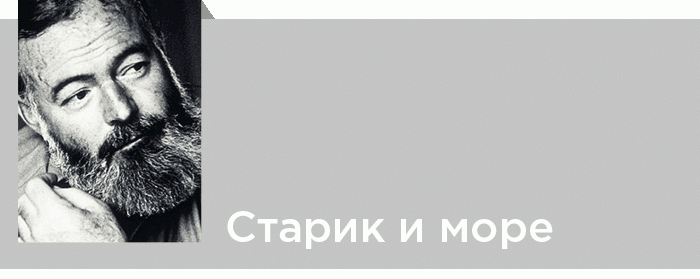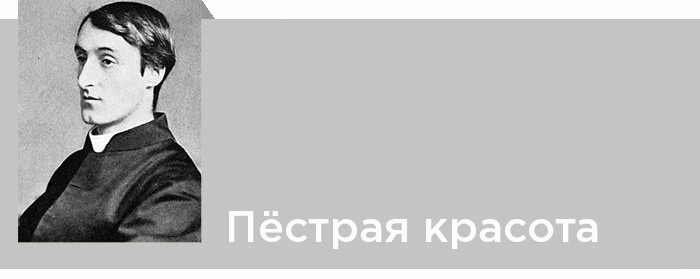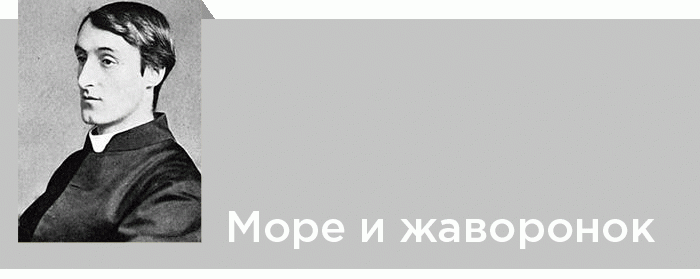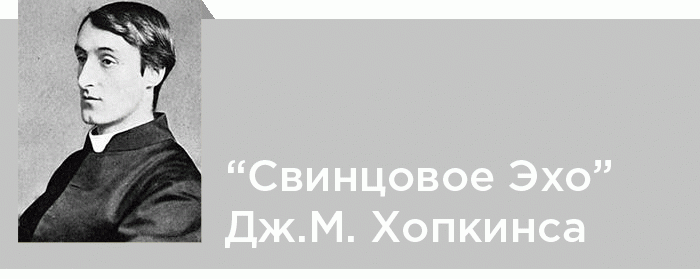Образы красоты как лейтмотив поэзии Дж. М. Хопкинса

Л.И. Скуратовская
Поэзия Джерарда Мэнли Хопкинса (1844-1889) у нас почти не известна и не изучена. Англоязычные исследования - это жизнеописания необычного поэта - римского католика, священника-иезуита, текстологические разыскания, работы о литературной дружбе с Робертом Бриджесом, поэтом и другом, который в
Вирджиния Вульф читала Хопкинса летом после Первой мировой войны, то есть вскоре после публикации. Она «была очарована» и, описывая подруге свое новое обитание в Сассексе, начала первой строфой из «Heaven-Haven»:
«I have desired to go Where springs not fail,
To fields where flies no sharp and sided hail And a few lilies grow»
«Я хотела бы сама написать это», - прибавила она. Гермиона Ли, автор биографии Вульф, одной из лучших в 1990-е гг., объясняет: у Вульф и Хопкинса было одно и то же «интенсивное чувство восприятия пейзажа», и они смотрели на одну и ту же «гавань этой земли». Следует добавить, несколько опережая дальнейший разговор об этих стихах: это «интенсивное переживание» было для них чувством родины, истории, продолжения жизни. Так много вмещают образы красоты, если они созданы не нарочито эстетствующими, т.е. не отделяющими красоту от всего, с чем она сращена и что выражает, художниками.
Поэты, сделавшие эту землю видимой и эти чувства понятными для нас, кажется, встретились в то мгновение вживе. Здесь есть нечто схожее с той минутой истории культуры, когда Петрарка нашел письма Цицерона и почувствовал, что должен ответить. Двадцатилетний студент 1864 года разделяет с писательницей, живущей в 1919 году, ее сверхзадачу (сверхзадачу «высокого» модернизма): передать трепет жизни, «светящуюся оболочку» всего, что есть в мире, так, чтобы это открывалось всем как патриотизм, любовь, как бесконечное и высшее. Хопкинс справился с этим так, что остается только вчувствоваться, процитировать, «прожить» все вместе с ним, как Вульф.
В стихотворении «Heaven-Haven» всего две строфы. В названии «Небеса-Гавань», полное паронимическое притяжение словообразов которого невоспроизводимо на другом языке, отразилась уже найденная Хопкинсом поэтическая истина, которую он будет постоянно воспроизводить: созвучие слов, особенно столь полное, не может быть пустым, оно - взаимное отражение и обогащение смыслов. «Небеса-Гавань» - это не только изображение, но и чувство, которое он приписал монахине, принимающей постриг (таков подзаголовок), но совершенно очевидно испытывал сам. Это чувство отражено в христианской литературе и лексике («небо-дом, родина», «вернуться домой» и т.д.), но оно и общечеловеческое, - поэтому Вульф так естественно его узнала. За процитированной ею следует еще всего одна строфа:
«And I have asked to be
Where no storms come
Where the green swell is in the heaven dumb
And out of the swing of the sea»
Даже прозаический перевод стихотворения может передать оттенки этого чувства - жажду счастья-покоя, надежду на то, что это нам и «обещано», отблески этого в природе;
«Я хочу пойти
Туда, где источники [или: весны] не иссякают,
В поля, где не летают острые граненые градины И растут лилии.
И я испросила - быть Там, да не приходят бури,
Где зеленая волна лежит затихшая в гавани Вдалеке от качели морей».
Но перевод не передает своеобразия грамматического времени, с которого начинаются обе строфы, - времени, включающего в себя и прошлое, и настоящее; невыраженности грамматического рода в глаголах, отчего «я» относится к любому человеческому существу, и женщине, и мужчине, и монахине, и поэту; вольности глагольной формы во второй строке и двусмысленности «springs» (весны и родники). Наконец, трудно поддается переводу заключительный мощный образ - swing of the sea (раскачивание моря), порождающий многие и динамические, и эмоциональные ассоциации (беспрерывное движение океана, огромная грозная сила, опасность, угроза...).
Умиротворение, разлитое в стихотворении, существует как желание и мечта - и одновременно как почти достигнутая реальность. Сама паронимическая пара Heaven-Haven настолько полно отражает идею и чувство и настолько естественно существует в языке, что уже это создает эффект уверенности. Единение противоположного - вышнего и нижнего мира; неба, моря и земли, моря как грозной вечности и моря как тихой гавани; гавани как неба и моря и гавани как земли с полями и цветами, - возможно потому, что вся картина небесного насыщена земными деталями. Вернее, все изображенное - небо в названии, пейзаж в первой строфе и марина во второй, - слившись в «гавань», охватывает весь доступный человеческому созерцанию мир. Герои высокого модернизма, как герои романтизма рубежа XVIII и XIX вв ., чувствуют «гавань» не только пространства, но и времени, глядя на трехсотлетний дуб в родном парке («Орландо» Вульф) или на знакомые поля, которые, может быть, завтра исчезнут (так у Вордсворта в цикле «Люси» - из-за предсмертья героини и у Вульф в «Между актами» - в преддверии Второй мировой войны).
У зрелого Хопкинса внутренняя тревога - исчезнет ли мир и будет ли это заслуженным наказанием, окончательным судом или преддверием нового акта творения; хватит ли у него, верующего, души, чтобы «простить» Богу это уничтожение? - нарастает (стихотворение «Spelt from Sybil’s leaves», 1877). Драматизм этого чувства обостряется тем, что оно включает физически переживаемую личную гибель, а последняя ощущается прежде всего как гибель сознания, сознаний:
«... arack
Where, selfwrung, selfstrung, sheathe1 - and shelterless, thoughts against thoughts in groans grind»
«... рудопромывочная машина,
Где, сами себя скручивая, сами себя растягивая, без ножен и без приюта, мысли перемалывают друг друга, стеная».
Это видение Армагеддона также роднит Хопкинса с модернистами. Хотя опыта участника мировой катастрофы, опыта Вульф и Цветаевой, у него нет, но «гавань» и «сад» (сравним у Цветаевой: «За этот ад, / За этот бред / Пошли мне сад / На старость лет»), как и «ад» и «бред», присутствуют в его чувствах, во всем мыслимом трагизме и со всей надеждой, рожденной верой в Бога и восприятием красоты мира.
В его поэтическом мире «созданность» и красота мира, своеобразие каждой вещи (на его языке - «inscape»: воплощенность внутренней сущности в физически воспринимаемые формы) - темы постоянные и центральные.
Для Хопкинса красота - доказательство бытия Бога, его творчества, проявление любви Творца к человеку. Известное восприятие красоты как «painted veil», «раскрашенной завесы», утвердившееся у ряда христианских мыслителей и поэтов, чуждо христианству Хопкинса. Ему близка эстетика Оксфордского движения; красота и искусство пребывают в его храме. Он рисует Творца любующимся сотворенным и себя - равным каждому его творению («Let me be to Thee as the circling bird»); вечную, шекспировскую тему разрушения красоты («The Leaden Echo») он решает как долг создания вернуть дар создателю, который есть «сущность красоты и ее податель» («The Golden Echo»). Исследователь творчества Хопкинса В.Г. Гарднер, сопоставляя дневники, письма и стихи поэта, доказывает, что на его идиостиль «непосредственно влияет инскейп природных органических форм» - рассуждение, которое отражает мысль Хопкинса, что его ритмические «подвески» (hangers; длинные, не укладывающиеся в норму стихотворения строки) рождены «подвесками» тополя. Броская черта идиостиля Хопкинса - интонационно-ритмическая реформа, строки, приближенные к речи, то обычной, то молитвенно-торжественной, то экстатической, по длине (и ее колебаниям) почти равные прозе; этот «прыгающий ритм» («sprung rhythm»), противопоставленный им привычному «беглому ритму» («running rhythm»), позволял значительно увеличить вместимость «стихового ряда» (термин Ю. Тынянова). Эта синтаксическая и ритмическая близость к индивидуальной речи с ее интонациями и лексической стратегией отражала новую степень близости поэзии Хопкинса к реальному внутреннему психическому процессу, в чем - истоки его новаторства. Отсюда характер образов и их стилистически необычное выражение: «случайность» и как бы «пробность» выбора единиц предметно-материального ряда, их сопоставлений и сочетаний; длинные ряды называний, оснащенных характерными определениями «инскейпа» (чем они и отличаются, например, от «каталогов» Уитмена - см. его «I hear America singing»); на фоне этих определений и деталей характерный для поэзии тропеический ход мысли (под девизом «метафора - двигатель стихотворения») кажется банальным.
Все эти изменения - стилистический эквивалент семантики того определения красоты, которое стало названием программного стихотворения Хопкинса: «Pied Beauty», «Пестрая красота». «Пестрая» - состоящая из неожиданных и далеких друг от друга компонентов, разнообразная, далекая от одноплановой стилизации и канонизации одного эстетического идеала; и другой ряд семантических характеристик: состоящая из обыденных элементов, не имеющих репутации «прекрасного» - «веснушчатая», как сказано в этом стихотворении.
Glory be to God for dappled things
For skies of couple-colour as a brinded cow;
For rose-moles in all stipple upon trout that swim;
Fresh-firecoal chestnut-falls; finches wings...
Слава Господу за все пестрые вещи -
За небеса, двухцветные, как пятнистая корова, -
За розовые «мушки» на всей штриховке форели, которая плывет;
За свежераскаленные угольки каштанопада; за крылья зяблика;
За пейзаж, разгороженный и нарезанный кусками - овчарню, землю под паром и плуг;
И за все ремесла, их орудия, и оснастку, и порядок,
За все вещи противоположные, оригинальные, лишние, странные;
Все, что переменчиво, веснушчато - сбрызнуто (кто знает как?)
Быстрым, медленным; сладким, кислым; блестящим, тусклым;
Он отец всему, тот, чья красота вне перемен;
Хвала ему.
Здесь весь текст насыщен синонимами (то языковыми, то окказиональными) к эпитету «пестрая»: pied, dappled, brinded, stipple, fickle, freckled, couple-colour, rose- moles, fresh-firecoal, plotted and pieced... - в каждой из 11 строк стихотворения. Крапчатая, пятнистая, веснушчатая, переменчивая, мерцающая пунктиром, штриховкой - красота неба, коров, форелей, «каштанопада», ремесел; разделенной живыми изгородями земли вместо красоты «мраморной» (Китс), ярких красок (Китс), чистого колорита, цветов, прославленно-прекрасных плодов или волнующих чувственных деталей - волосы, длинные шеи, гибкие линии (прерафаэлиты); органика и вещественность - вместо знаков некоего трансцендентного содержания (символисты).
В стиле Хопкинса - слияние зримости с музыкальностью, а последней - с разговорным словом, обычным и в то же время необычным; это провозглашено в его стихах («I have found my music in a common word...») и реализовано словесно-образными ходами, среди которых: 1) неология и (или) преображение обычной лексики: chestnut-fell как water-fall; couple-colour вместо double colour или two-coloured; he father-forth как brings forth порождает; 2) наличие двух-, трех-, четырехкомпонентного членения перечислений: things counter, original, spare, strange; whatever is fickle, freckled; with swift, slow-sweet, sour, adazzle, dim (эти однородные члены в их парности могут быть внутренне контрастны и подчеркнуты звукописью); 3) переход звукописи в паронимическое притяжение - сопоставленность слов по звуковой близости, которая, стимулируя восприимчивость, раскрывается как близость смысловая: heaven-haven; singeing of the strong sun: the least lash lost в упоминавшихся выше стихах; fickle, freckled в данном стихотворении; 4) открытие и завершение каждого стихотворения апострофой (обращением к незримому или не отвечающему) - к Богу, с интонацией лично прочувствованной, а не риторически принятой; 5) апосиопесис (умолчание) - у Хопкинса это недосказанность или вопрос, ответ на который, в отличие от безответного риторического вопроса, может быть многообразно-глубок: Who knows how? Как апосиопесис можно увидеть весь текст обоих стихотворений «Эхо», которые соотнесены как вопрос и ответ, как звучание двух перекликающихся голосов. Второе (The Golden Echo) при незнании первого выглядит вообще как сплошная апосиопеса, поскольку что это за «one», что знает и хочет раскрыть отвечающий голос - из самого текста не узнается; 6) тавтологический повтор, усиленный интонацией; при внешней простоте такие места являются ключевыми; в стихах о красоте в них ответ на трагический вопрос о смысле ее разрушения, увядания и смерти: «Give Beauty back, beauty, beauty, beauty, back to God, beauty’s self and beauty’s giver». Этот последний стих - классический образец длинной строки Хопкинса, которая может быть и перенасыщенной словообразами, и состоящей из минимума слов: (beauty, God, give/giver); афористическая сила эмоционального внушения здесь - прямой ответ и сетованиям, и «проектам» сохранения красоты, выраженным в шекспировских сонетах.
Максимальное одухотворение красоты у Хопкинса достигается в стихотворении, на первый взгляд, содержащем лишь воссоздание ее физической природы, тоже максимальное. Это «The Windhover» (1877). Внутренний образ этого английского слова «парящий на ветру» (что вызывает явственные приподнято-романтические ассоциации) настолько не совпадает с внутренним образом его русского эквивалента «пустельга», что перевод возможен только с помощью общего понятия «сокол» (тем более, что оно встречается уже во второй строке). В
Во исполнение упомянутой выше задачи филологического синтеза и с перспективой создания базы для будущих украинских и русских переводчиков уместно завершить статью подстрочным переводом этого стихотворения и минимальным комментарием:
I caught this morning morning’s minion, kingdom of daylight’s dauphin, dapple-dawn-drawn Falcon...
Я застиг в это утро любимца утра,
Королевича дневного света, пестро-зарей-окрашенного Сокола, плывущим На ровно катящемся под ним плотном воздухе и шагающим Там высоко, - как он, круживший на поводке складчатого крыла,
В экстазе! а потом прочь, прочь и вперед в свободном размахе,
Как на заднике коньков гладко скользит на повороте; бросок и скольжение Дают отпор большому ветру.
Мое сердце в укрытии
Трепещет за птицу, - за ее победу, за ее господство!
Животная красота, и доблесть, и деяние, о воздух [или: вид], гордость, перо, теперь
Готовься! И огонь, которым ты пышешь теперь, в биллион
Раз оказывается более милым [сердцу], более опасным. О мой рыцарь!
И в этом нет чуда: упорный труд заставляет плуг на борозде Сиять, и сине-серые уголья, о мой дорогой,
Падают, трескаются и разверзаются алым золотом.
«Королевич» - это у Хопкинса «дофин»: в первых четырех стихах растворены, как показывает В. Гарднер, ассоциации с «Генрихом V» Шекспира: дофин и его речи, воспевающие коня с огнедышащими ноздрями, который «шагает по воздуху», слова дофина «на этом коне я - сокол». У Хопкинса и дальше, в образах выездки и кружения, огня, которым пышет сокол, продолжается это слияние: сокол-конь. А дальше нарастают образы рыцаря, отваги, сражения; последние два стиха - сжигающий себя уголь, пылающие раны «в золоте» - образ самопожертвования, метафора страданий и победы. Все это ассоциативно, а не аллегорически обращено к Христу (это обращение - в подзаголовке стихотворения), воителю и «рыцарю», герою размышлений и проповеди Хопкинса.
Его «современниками» скорее были Эдвард Томас и Руперт Брук, не дожившие до его первой публикации жертвы мировой войны, тоже хорошо чувствовавшие «пеструю красоту» мира: первый с неуловимой странностью фантазирования, второй - соединяя с любовью иронию.
Л-ра: Від бароко до постмодернізму. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 7. – С. 108-113.
Произведения
Критика