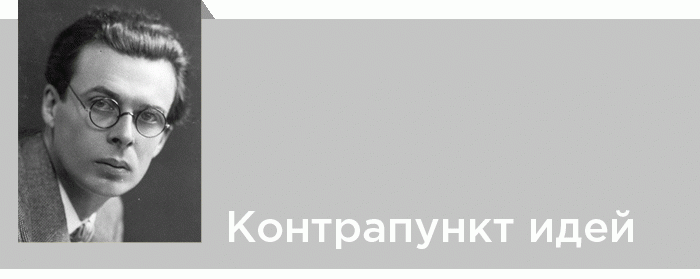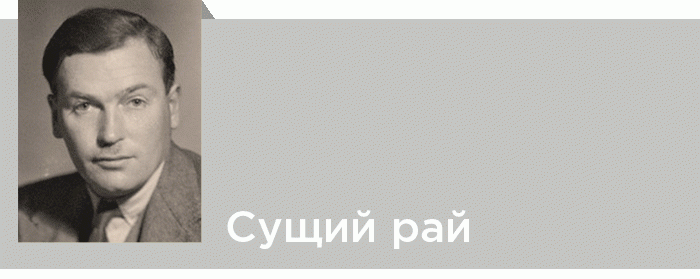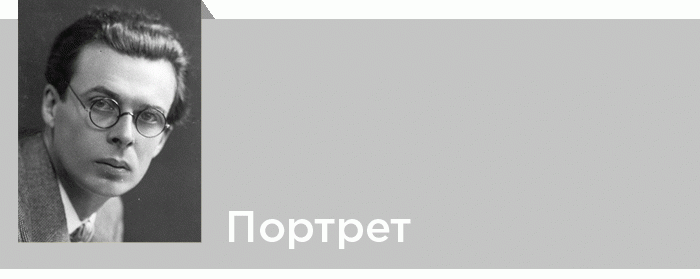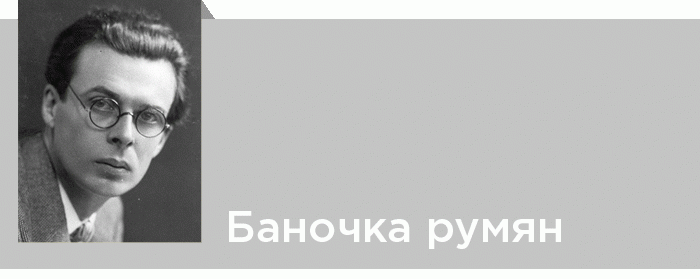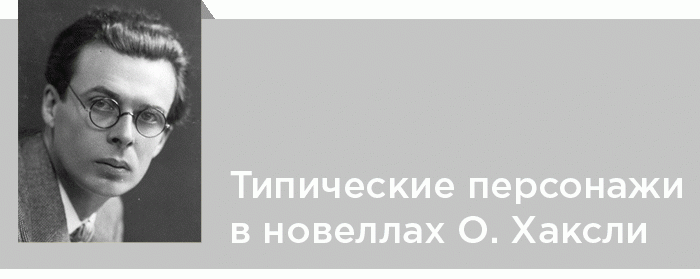Олдос Хаксли. Цинтия

Когда лет через пятьдесят мои внуки спросят меня, что я делал, когда учился в Оксфорде в далекие дни начала нашего ужасного века, я брошу взгляд назад, через расширяющуюся бездну времени, и отвечу им совершенно чистосердечно, что в ту пору я никогда не занимался меньше, чем по восемь часов в день, что я очень интересовался работой общественных учреждений и что самым крепким возбуждающим напитком, какой я себе позволял, был кофе. И они с полным основанием скажут на это… но, надеюсь, я не услышу, что они скажут. Вот почему я намерен писать мои мемуары, не откладывая, пока я еще не успел все позабыть, так что, имея перед собой правду, я никогда не дойду до того, чтобы сознательно или бессознательно говорить о себе ложь.
Сейчас у меня нет времени полностью описать этот решающий период моей биографии. Поэтому мне придется удовлетвориться изложением одного-единственного эпизода тех дней, когда я был студентом последнего курса. Я выбрал этот эпизод, потому что он любопытен и в то же время очень типичен для довоенного Оксфорда.
Мой друг Лайкэм был стипендиатом Свеллфутского колледжа. В нем сочетались благородная кровь (он весьма гордился англосаксонским происхождением и своей фамилией, которая образовалась от староанглийского (lycam — труп) — благородная кровь и большой ум. Он обладал эксцентричными вкусами, сомнительными привычками и огромными знаниями. Поскольку его уже нет в живых, я ничего больше не скажу о его характере.
Однако продолжаю мой рассказ. Как-то вечером я, по своему обыкновению, отправился навестить Лайкэма в его квартирке в Свеллфуте. Когда я поднимался по лестнице, было самое начало десятого, и Большой Том еще не окончил отбивать удары.
In Thomae laude
Resono bim bam sine fraude, —
как гласил прелестно-идиотский девиз, и в этот вечер Большой Том подтверждал его своим звоном — бим-бам — в устойчивом basso-profondo, который составлял удивительно дисгармоничный фон неистовому бренчанью гитары, доносившемуся из комнаты Лайкэма. Судя по ярости, с которой он ударил по струнам, с ним случилось что-то более катастрофическое, чем обычно, — к счастью, Лайкэм брался за гитару только в минуты сильнейших потрясений.
Я вошел в комнату, зажимая уши.
— Ради бога! — взмолился я. Через открытое окно доносился глубокий ми бемоль Большого Тома с обертонами, а гитара резко и истерично издавала ре бекар. Лайкэм засмеялся, бросил гитару на диван с такой силой, что все ее струны издали жалобный стон, и вскочил мне навстречу. Он хлопнул меня по плечу с таким пылом, что я поежился. Лицо его излучало радость и возбуждение.
Я способен сопереживать человеческие страдания, но не радости. В счастье других людей есть что-то странно-грустное.
— Ты весь вспотел, — холодно сказал я.
Лайкэм вытер лицо, но продолжал ухмыляться.
— Ну, что на этот раз? — спросил я. — Снова обручился и собираешься жениться?
Лайкэм воскликнул с ликующим восторгом человека, который наконец нашел возможность освободиться от гнетущей его тайны:
— Нет. Много, много лучше!
Я застонал.
— Еще какая-то любовная интрига, более неприятная, чем обычно. — Я знал, что накануне он был в Лондоне: срочный визит к дантисту представил предлог для того, чтобы остаться там на ночь.
— Не будь пошляком, — сказал Лайкэм с нервным смешком, который показывал, что мои подозрения имели очень веские основания.
— Что ж, послушаем про восхитительную Флосси, или Эффи, или как там ее имя, — сказал я, сдаваясь.
— Поверь, она — богиня.
— Богиня разума, неверное.
— Богиня, — продолжал Лайкэм, — самое восхитительное создание, какое я только встречал. И замечательно то, — добавил он доверительно, с плохо скрываемой гордостью, — что я и сам, очевидно, какой-то бог.
— Бог огородов. Но переходи к фактам.
— Расскажу тебе всю историю. Вот как это произошло. Вчера вечером я был в городе, ты знаешь, и пошел посмотреть этот отличный спектакль, что идет в театре «Принц-консорт». Это одно из тех хитроумных соединений мелодрамы с проблемной пьесой, которые захватывает тебя так, что забываешь все на свете, и в то же время дают приятное ощущение, что смотришь что-то серьезное. Так вот, я пришел довольно поздно, у меня было прекрасное место в первом ряду бельэтажа. Я пробился к нему и мимоходом заметил, что рядом со мной сидела девушка, перед которой я извинился за то, что наступил ей на ногу. В течение первого действия я больше о ней не думал. В антракте, когда снова зажглись люстры, я обернулся поглядеть вокруг и обнаружил, что рядом со мной сидит богиня. Она была почти невероятно красива — довольно бледная, целомудренно-чистая, тонкая и в то же время величавая. Я не могу описать ее — она просто совершенство, больше тут нечего сказать.
— Совершенство, — повторил я. — Но ведь и все остальные до нее тоже были такими.
— Дурак! — раздраженно ответил Лайкэм. — Все остальные были просто женщины. А это богиня, говорю тебе. Больше не перебивай меня. Когда я смотрел в изумлении на ее профиль, она повернулась и взглянула прямо на меня. Я никогда не видел ничего более прекрасного. Я чуть не упал в обморок. Наши глаза встретились.
— Какое ужасное выражение, совсем как из романа, — посетовал я.
Ничего не могу поделать: других слов тут не подберешь. Наши глаза действительно встретились, и мы одновременно полюбили друг друга.
— Говори за себя.
— Я понял это по ее глазам. Так вот, продолжаю дальше. Мы посмотрели друг на друга несколько раз во время первого антракта, а потом началось второе действие. Во время действия я совершенно случайно уронил программку на пол и, нагнувшись, чтобы поднять ее, дотронулся до ее руки. Что ж, совершенно очевидно, что мне ничего не оставалось делать, как взять ее руку в свои.
— И что же она?
— Ничего. Мы сидели так до самого конца действия, восторженно счастливые и…
— И ваши ладони, прижатые друг к другу, все больше и больше потели. Я точно знаю, так что мы можем это пропустить. Продолжай.
— Ничего ты не знаешь: ты никогда не держал в своих руках руку богини. Когда свет снова зажегся, я неохотно выпустил ее руку, так как мне не понравилась мысль о том, что нечестивая толпа увидит нас, и не нашел ничего лучше, как спросить, действительно ли она богиня. Она сказала, что это интересный вопрос, потому что сама думала о том, какой бог я. И мы сказали друг другу: как невероятно! И я сказал, что уверен в том, что она богиня, а она сказала, что не сомневается в том, что я какой-то бог, и я купил шоколадных конфет, и началось третье действие. Ну, поскольку это была мелодрама, то, конечно, в третьем действии произошло убийство и была сцена ночной кражи со взломом, во время которой свет был погашен. В этот напряженный момент я вдруг почувствовал на своей щеке ее поцелуй.
— Ты, кажется, говорил, что она целомудренна.
— Конечно, абсолютно целомудренна, чиста, как снег. Но она из такого снега, который горит, если ты меня понимаешь. Она целомудренно-страстная — именно то сочетание, которое можно ожидать у богини. Признаюсь, я был поражен, когда она меня поцеловала, но не растерялся и тоже поцеловал ее в губы. Потом убийство свершилось, и свет снова вспыхнул. Ничего особенного не случилось до самого конца спектакля, когда я помог ей надеть пальто и мы вышли из театра, словно это само собой разумелось, и сели в такси. Я велел шоферу везти нас куда-нибудь, где можно поужинать, и мы приехали в такое место.
— Не без некоторых объятий в пути?
— Не без некоторых объятий.
— Всякий раз страстно-целомудренных?
— Всякий раз целомудренно-страстных.
— Продолжай.
— Ну, мы поужинали — положительно, как на Олимпе: нектар, амброзия и тайные пожатия рук. С каждой минутой она становилась все более и более прекрасной. Боже, видел бы ты ее глаза! Вся душа, казалось, горела в глубине их, как огонь на дне моря…
— Для рассказа, — перебил я его, — эпический стиль больше подходит, чем лирический.
— Ну вот, как я уже сказал, мы поужинали, а после этого мои воспоминания сливаются в какой-то пылающий туман.
— Давай опустим неизбежный занавес. Как ее зовут?
Лайкэм признался, что не знает: раз она богиня, какое значение имеет ее земное имя? Как же он надеется снова найти ее? Он не думал об этом, но знает, что она как-нибудь появится. Я сказал ему, что он болван, и спросил, какая именно богиня она, по его мнению, и какой именно бог он сам?
— Мы говорили об этом, — сказал он. — Сначала мы решили, что Арес и Афродита. Но она не соответствует моим представлениям об Афродите, и я не уверен, что так уж похож на Ареса.
Он задумчиво посмотрелся в старое венецианское зеркало, висевшее над камином. Это был самодовольный взгляд. Лайкэм несколько гордился своей внешностью, которая, надо сказать, поначалу казалась довольно отталкивающей, но, присмотревшись, вы начинали замечать в ней какую-то странную и привлекательную красоту безобразия. Носи он бороду, он был бы сносным Сократом. Но Арес? Нет, безусловно, Аресом он не был.
— Может быть, ты Гефест? — высказал я предположение, однако оно было принято холодно.
А он уверен, что она богиня? Может быть, она просто какая-нибудь нимфа? Европа, например. Лайкэм отверг подразумеваемое предположение, что он — бык, не пожелал он себя счесть и лебедем или золотым дождем. Однако он готов был признать себя Аполлоном, а ее Дафной, утратившей свой древесный облик. И хотя я от души смеялся над предположением, что он мог быть Фебом Аполлоном, Лайкэм с возрастающим упорством придерживался этой теории. Чем больше он думал о ней, тем более вероятным ему казалось, что его нимфа с ее пылающей холодной целомудренной страстью — это Дафна, сомнения же в том, что сам он Аполлон, едва ли приходили ему в голову.
Разгадка того, какое место занимал Лайкэм среди олимпийских богов, пришла недели через две, в июне, когда уже заканчивался семестр. Мы отправились, Лайкэм и я, прогуляться после ужина. Мы вышли, когда был уже вечер, и прошли в бледных сумерках по бечевнику до самого Годстоу, где заглянули в трактир, чтобы выпить по рюмке портвейна и поболтать с великолепным старым Фальстафом в черном шелковом платье — его хозяйкой. Нас приняли по-королевски, угостив свежими сплетнями и старым вином, и после того, как Лайкэм спел комические куплеты и старуха просто захлебывалась от смеха, дрожа, как желе, мы снова отправились в путь, намереваясь пройти еще немного вверх по реке, а потом уже повернуть назад. К этому времени на землю сошла тьма. В небе зажглись звезды. Ночь была такая, с которой Марло сравнивал Елену Троянскую. Гром воды, доносившийся с далекой плотины, ненавязчиво аккомпанировал всем остальным звукам ночи. Лайкэм и я шли молча. Пройдя примерно четверть мили, мой спутник внезапно остановился и уставился куда-то на запад, в направлении Уитем-хилла. Я тоже остановился и увидел, что он пристально смотрит на тонкий серп луны, которая вот-вот должна была спустится за темной полосой леса, венчающего холма.
— Что ты там увидел? — спросил я.
Но Лайкэм не обратил внимания на мой вопрос, он лишь что-то пробормотал про себя. Потом вдруг воскликнул: «Это она!» — и бросился со всех ног в сторону холма. Решив, что он внезапно сошел с ума, я последовал за ним. Мы прорвались сквозь первую изгородь ярдах в двадцати друг от друга. Потом на нашем пути оказалась небольшая запруда. Лайкэм попытался перепрыгнуть ее, но плюхнулся в воду и, весь в иле, кое-как выбрался на берег. Мой прыжок оказался удачнее, и я приземлился в камышах на другой стороне. Еще две изгороди, вспаханное поле, еще одна изгородь, дорога, ворота, еще одно поле, и вот мы в лесу на холме. Под кронами было темно, хоть глаз выколи, и Лайкэм волей-неволей должен был несколько замедлить шаг. Я следовал за ним по слуху: он с шумом продирался сквозь кустарник и чертыхался от боли. Этот лес был кошмаром, но мы как-то пробрались через него и выбежали на открытую поляну на верхушке холма. Сквозь деревья на другой стороне прогалины сияла луна, казавшаяся невероятно близкой. И тут вдруг из-за деревьев на дорожке лунного света появилась женская фигура. Лайкэм рванулся навстречу, бросился к ее ногам и обнял ее колени. Она нагнулась и гладила его взъерошенные волосы. Я повернулся и пошел прочь; простому смертному невместно смотреть на объятия богов.
Возвращаясь, я думал, что за черт… то есть, конечно, что за бог этот Лайкэм. Ибо его девственная Цинтия предалась ему самым недвусмысленным образом. Может быть, он Эндимион? Нет, такая мысль была слишком нелепа, чтобы принять ее хотя бы на мгновение. Я решительно не мог сказать, кого бы еще полюбила целомудренная луна. И все же я смутно помнил, что был еще какой-то бог, к которому она питала благосклонность. Но кто именно, мне никак не приходило в голову. Весь путь назад вдоль реки я тщетно вспоминал его имя, и оно все время ускользало от меня.
Вернувшись домой, я заглянул в словарь Лемприера и чуть не умер от смеха, открыв истину. Я подумал о венецианском зеркале Лайкэма и самодовольных взглядах, которые он искоса бросал на свое отражение, о его уверенности в том, что он Аполлон, — и смеялся, смеялся. Когда же далеко за полночь Лайкэм вернулся в колледж, я встретил его у входа, тихо взял за рукав, прошептал ему в ухо: «Козлоногий» — и снова захохотал.
Произведения
Критика