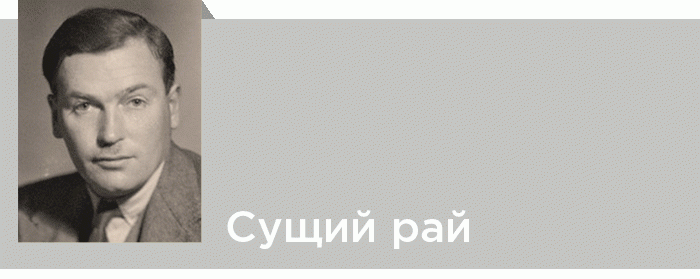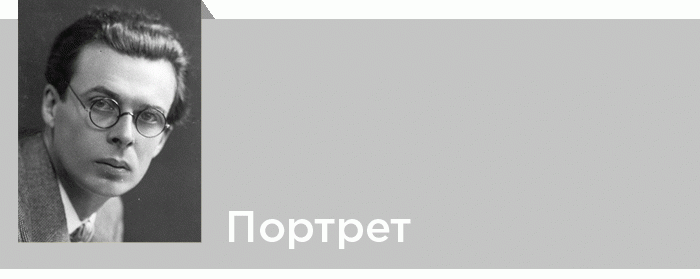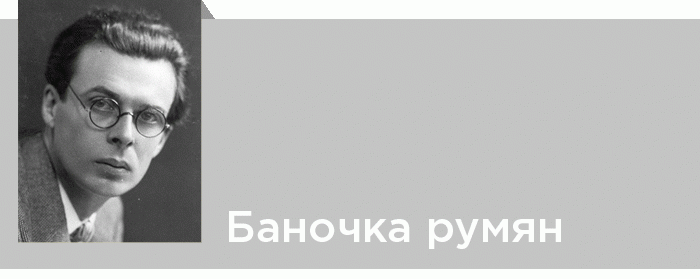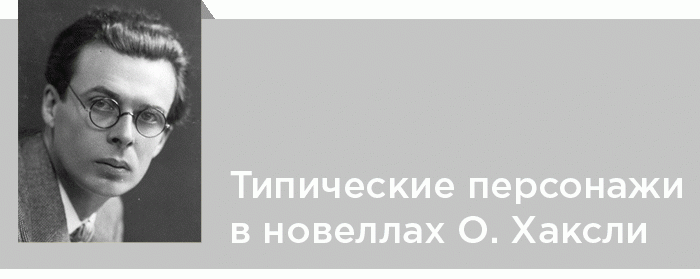Контрапункт идей

А. Ливергант
Больше пятидесяти лет назад русский читатель впервые познакомился с новым именем — Олдос Гекели, и самым тогда его последним, еще совсем недавно нашумевшим в Англии романом, по-русски вполне произвольно названным «Сквозь разные стекла». Уже в следующем переводе и имя писателя, и название романа (одного из лучших, как впоследствии оказалось) заметно приблизились к оригиналу: Гекели модернизировался в Хаксли, а «Сквозь разные стекла» — в «Контрапункт». За «Контрапунктом» почти сразу последовали русские версии второго по счету романа Хаксли «Шутовской хоровод» (1923) и пятого — знаменитой теперь антиутопии «Прекрасный новый мир» (1932). В дальнейшем, однако, специалистам, охотно склонявшим имя писателя в учебных пособиях и литературоведческих статьях, пришлось верить на слово: фамилия Хаксли надолго «выпала» из читательского обихода. И вот теперь, когда мы, если пользоваться выражением XIX века, «отстали от привычки» читать его романы, Хаксли предстал в новом качестве — на сей раз как новеллист.
Правда, даже поверхностного знакомства со сборником достаточно, чтобы заметить, что в применении к Хаксли проза малых форм — понятие довольно относительное: многие из вошедших в сборник произведений (некоторые из них уже печатались в периодике) это не столько «новеллы» в русском понимании этого слова, сколько «novel» (т. е. повесть) в ее английском значении. «Рассказы его длиннее обычных, — отмечалось уже в одной из первых рецензий на сборник «Небольшая мексиканочка» (1924), — и кажется, будто мистер Хаксли вознамерился бросить вызов всем существующим правилам: компактности, многозначительности и пр.» И в самом деле, в таких растянувшихся порой на десятки страниц «новеллах», как «Чоудрон», «Клакстоны» и особенно в завершающем сборник (малоудачной, к слову сказать) повести «После фейерверка» нет ни строгой фабулы, ни ее четкого, новеллистически сжатого выражения, ни неожиданной, курьезной развязки. Зато присутствуют и описательность, и фрагментарность, и внятный местами авторский голос, и многочисленные отступления, и открытые концовки — черты, классической новелле явно противопоказанные. Вообще Хаксли, скажем сразу, не придерживается жанровых канонов: его эссе нередко напоминают рассказы или фрагменты романов; романы, особенно поздние, — философские, религиозные либо политические трактаты, а многочисленные путевые очерки часто становятся предлогом для самых отвлеченных рассуждений. По той же причине и некоторые рассказы своей фрагментарностью и незавершенностью («Банкет в честь Тиллотсона», «Субботний вечер», «Волшебница крестная») напоминают главы из ранних романов Хаксли, с которыми их роднят сквозные сюжеты и персонажи, общие идейные и композиционные мотивы вплоть до разительного совпадения отдельных ситуаций и нюансов. В результате всем тем, кто зачитывался «Шутовским хороводом» или «Контрапунктом», предстоит испытать отрадное чувство узнавания: Хаксли остался самим собой.
На сегодняшний день многие, главным образом ранние книги Хаксли прочно вошли в классический фонд английской литературы XX века. Проявивший себя не только как прозаик, эссеист, поэт, но и как философ, социолог, искусствовед, Хаксли стимулировал своими произведениями как критиков, так и — соответственно — исследователей самого разного толка. О Хаксли высказывались и такие признанные литературные авторитеты, как Арнолд Беннет и Ричард Олдингтон, Вирджиния Вулф и Т.С. Элиот, Ивлин Во и Сомерсет Моэм, Хемингуэй и Скотт Фицжералд, Томас Манн и Андре Моруа. Одни хвалили и даже перехваливали, другие (таких, пожалуй, больше) ругали, и порой незаслуженно. При этом нельзя сказать, чтобы чисто художественная сторона необычайно разностороннего (даже по английским литературным меркам) наследия Хаксли вызывала особые споры. Как его критики, так и доброжелатели признают, что начал Хаксли «за здравие», а кончил «за упокой» — причем в буквальном смысле, если вспомнить, скажем, такие поздние романы, как «Обезьяна и сущность» или «Время должно остановиться». Что его сильные стороны: фантастическая эрудиция (чего стоят хотя бы названия его книг — сплошные цитаты, аллюзии, перифразы), необычайно живой, острый ум и непредсказуемая парадоксальность мышления в сочетании с виртуозной техникой письма, полнее всего проявились в романах, эссе и рассказах 20-х годов. Но чуть стоило Хаксли погрузиться «в нирвану» нравственного усовершенствования, начать проповедовать любовь к ближнему, пацифизм и буддизм, делиться с читателем своих поздних книг апокалиптическими прогнозами и наркотическими видениями, — как качество его литературной продукции заметно снизилось. Сходятся специалисты и на том, что увереннее всего Хаксли чувствует себя как эссеист — ведь даже в его беллетристике выведены не столько живые люди, сколько отвлеченные идеи, заранее, словно роли в театре, распределенные между персонажами, их олицетворяющими.
Многоплановость и разносторонность литературных и научных увлечений Хаксли, поистине необъятный диапазон его тематически сочетаются, как это, впрочем, часто бывает, с исключительным идейным постоянством. Выступал ли он с обличением фашизма и национализма, делился ли с читателями наблюдениями о картинах Брейгеля или о психологии любви, рассуждал ли об искусстве рекламы, стихах Эдварда Лира или прозе Вольтера, издевался ли над великосветскими болтунами, их ханжеством, позерством, лицемерием — Хаксли, как Йейтс, Честертон, многие крупные английские художники начала века, неизменно отстаивал традиционные этические и эстетические ценности. Потомственный интеллектуал (внук знаменитого биолога Томаса Гекели, внучатый племянник выдающегося критика и эссеиста Мэтью Арнолда), прямой наследник «блумсберийцев», возводивших непреодолимый барьер между «невыразительной» действительностью и насыщенной жизнью воображения; наконец, истинный сын своего века и круга, на всю жизнь зараженный скепсисом послевоенного времени, — Хаксли с первых же литературных опытов стремится противопоставить индивидуальное начало стереотипному, духовные ценности прошлого «бездушной» механической цивилизации будущего.
Нередко представляется так, будто Хаксли до середины 30-х годов был скептиком и сатириком, а позднее — пророком и резонером, в двадцатые годы реалистом, в дальнейшем — модернистом. Между тем переход от едкого сатирического обличения к весьма наивным поискам нравственного усовершенствования совершался исподволь: Хаксли-сатирика и Хаксли-пророка многое связывает. Контуры будущих трактатов и проповедей угадываются в монологах целой галереи шарлатанов, мистиков, ясновидцев, которыми плотно населены ранние романы и рассказы писателя. Эти нравственные и интеллектуальные уроды, «духовные пьявки» (по определению самого Хаксли), изобретающие «трубопроводы в бесконечность» или пневматические штаны, высказывают порой, как, скажем, скептик и рационалист Скогуен из первого романа «Желтый Кром» (1921), сокровенные авторские мысли, в которых выразилось изначально скептическое отношение писателя к научно-техническому прогрессу. Тема разрушения духовных ценностей роднит и совсем небольшой, но очень характерный ранний рассказ «В книжном магазине» (к сожалению, отсутствующий в сборнике) с фундаментальным «Прекрасным новым миром», многие идеи и мотивы которого рождались и апробировались в книгах Хаксли 20-х годов. Не только неприязнь к техническому прогрессу, ведущему, с точки зрения Хаксли, к манипулированию сознанием, к гибели искусства, но и уверенность в порочности человеческой натуры просматривается иногда уже в самых первых стихах, эссе, рассказах, романах. В одной из ранних поэм, например, Хаксли уподобляет современный мир карусели, приводимой в движение кретином. Замысел самой беспросветной антиутопии Хаксли «Обезьяна и сущность» (1949), действие которой происходит после атомной войны, вырисовывается еще в «Контрапункте», где один из персонажей представляет всемирную историю не как эволюцию от обезьяны к человеку, а наоборот — от человека к обезьяне. В этом отношении, кстати сказать, заключительные слова из предисловия к рецензируемому сборнику о том, что Хаксли «...хотел верить в потенциальные возможности личности», можно, очевидно, рассматривать лишь как дань существующему у нас негласному закону, в соответствии с которым вступительные статьи к «сложным явлениям» западной литературы заканчиваются на мажорной ноте.
Тем не менее основополагающий принцип «разговорного» интеллектуального романа, каким был, например, «Контрапункт», сохраняется и в рассказах Хаксли, многие из которых, вслед за эссе и романами, строятся на подчеркнутой антитезе — идейной и фабульной. Контрапункт иллюзии и реальности, нравственной ущербности и сентиментальных предрассудков, скептицизма и самолюбования, меланхолии и сенсуализма, пышной риторики и выхолощенных эмоций — отличительная черта таких рассказов как «Улыбка Джоконды» и «Банкет в честь Тиллотсона», «Дядя Спенсер» и «Субботний вечер».
Резкое, как правило, нарочитое противопоставление, оттеняющее основную идею, составляет композиционную основу практически любого рассказа, будь то изящная психологическая зарисовка в духе Мопассана «Баночка румян» или «Целительный отдых» — не лишенная мелодраматизма история несчастной любви и утраченных иллюзий. Маленькая лавка букиниста («В книжном магазине») зажата между огромными продовольственным и мебельным магазинами; стоит старому букинисту сесть за пианино и заиграть старинный романс, как музыка глохнет в реве пронесшегося мимо грузовика. Если, скажем, герой «Улыбки Джоконды» Генри Хаттон — беспечный и праздный повеса, с детства, по его собственному признанию, испытывающий чувство гадливости к бедным, слабым, больным, калекам, то жена его — перст судьбы — вечно жалующаяся, несчастная страдалица. Если муж Мойры Тарвин («Целительный отдых») — вечно погруженный в работу, «сугубо интеллектуальный» ученый-исследователь, то ее любовник итальянец Тонино — его социальный, характерологический и даже этнический антипод.
В этом смысле романы и рассказы Хаксли 20-х годов могут, как видно, служить своеобразной художественной иллюстрацией к его наиболее известным эссе, уже в заглавиях которых эта дихотомия обнаруживается в полной мере: «Убеждения и поступки» (1931), «Цели и средства» (1937), «Слова и поведение» (1936). В последнем эссе, между прочим, Хаксли рассуждает о том, сколь опасной для общества может оказаться тенденция к деперсонификации личности и, наоборот, персонификация абстрактной идеи. Вместе с тем именно этот принцип положен писателем в основу творчества: в жестком, подчас схематичном построении романов и рассказов постоянно ощущается примат идеи над художественным образом, Хаксли-мыслитель постоянно довлеет над Хаксли-прозаиком, отчего многие его герои не живут, но лишь перерастают в гротескно-преувеличенные, экстравагантные типажи, кочующие из книги в книгу наподобие нескончаемого «шутовского хоровода».
Действуют они и в рассказах. Вернее, бездействуют: ищут смысл жизни, увлекаются новомодными течениями, обмениваются глубокомысленными, часто, впрочем, довольно любопытными теориями, при случае любят блеснуть остроумием, недюжинной эрудицией, ввернуть — к месту и не к месту — цитату из древних или французский каламбур, их диалог постоянно балансирует между банальностью и афористичностью, их страсти — бедны и мимолетны, зато дневники (их страсть!) полны самых броских умозаключений.
Прежде чем пуститься в пространные рассуждения о достоинствах итальянских садов XIII века или — в который раз! — с жаром завести разговор о соотношении жизни, науки и искусства (сам Хаксли посвятил этой триаде немало серьезных работ), — они приветствуют друг друга словами: «Настоящее чосеровское утро!» Про женщину, которая им приглянулась, они скажут: «...ее ренессансный профиль», ту, что не понравилась, иронически сравнят с Джокондой, а глянув на небо, изрекут вслед за мистером Топсом из рассказа «Зеленые туннели»: «В этом белом облаке и впрямь есть что-то от Микеланджело».
«Его рассказы забавны, возможно, правдивы, и все же, читая их, невольно думаешь, что английское высшее общество и английская литература несовместимы», — писала в свое время Вирджиния Вулф по поводу первого сборника Хаксли «Лимб» (1920), пожелав начинающему автору «преодолеть или иначе распорядиться теми возможностями, которыми наградила его природа и фортуна».
Хотя Вирджиния Вулф и права, подметив нарочитость ситуаций, возникающих в рассказах Хаксли, искусственность его «книжных» героев, обремененных, как и он сам, непомерным, казалось бы, «культурным багажом», — ее совет «иначе распорядиться своими возможностями» выглядит несколько демагогично. Ведь Хаксли, хотя его и включают подчас в один ряд с Вулф, Джойсом, Элиотом, Лоуренсом, принадлежит совершенно иной, гораздо более давней литературной традиции. Рационалисту и просветителю в основе своей, Хаксли были совершенно чужды формальные поиски современников, такие понятия, как «момент бытия» или «сияние психологической правды». Со своей стороны и Вулф отказывалась признать проблемную прозу Хаксли, его тенденциозность, страсть к преувеличению и интеллектуальному фантазированию, восходящим к классическим английским образцам. Вслед за Свифтом, Пикоком, Батлером, Хаксли вовсе не стремится передать мельчайшие оттенки переживаний своих героев. Интеллектуальный сатирический роман (рассказ), который он представляет в 20-е годы, никогда не претендовал на психологическую достоверность. Напротив, чем банальнее ситуации, чем ходульнее персонажи, тем свободнее чувствует себя их создатель, цель которого не в том, чтобы достоверно рассказать историю, тем более «прожить» ее со своими героями, но чтобы откомментировать ее, взглянуть на события как бы со стороны, стать автором и толкователем в одном лице.
Всякий раз «устраняясь» из повествования, вводя в него либо отвлеченные описания и рассуждения, либо историю кого-нибудь из героев, Хаксли получает отличную возможность сыграть на контрастно-совмещенных планах. История о безжалостно совращенной монашке («Монашка к завтраку» — едва ли не лучший рассказ сборника) могла бы показаться довольно несуразной, чтобы не сказать примитивной, не будь она рассказана охочей до сенсаций журналисткой мисс Пенни, которая, профессионально смакует «жуткие» подробности, то и дело разражается громким смехом, звучавшим, «как лязг медных тарелок в духовом оркестре», и при этом с аппетитом уплетает имбирный пудинг. В результате, «задействованные» в историю несчастной сестры Агаты мисс Пенни и не менее ее искушенный в искусстве собеседник выдвигаются на передний план: уснащая горькую историю «словесной магией и меткими метафорами», они превращают ее в хлесткий литературный анекдот. В этой связи вскользь брошенный мисс Пенни вопрос «Вы верите в литературу? По-настоящему?» — приобретает подчеркнуто ироническое звучание.
«Люди пишут по одной или нескольким простым причинам, — заметил Хаксли в 1937 году в ответ на чисто американский вопрос «Почему пишут писатели?» — Одни пишут просто потому, что любят писать, другие потому, что зарабатывают этим себе на жизнь... Одни пишут, так как это дает им не только средства к существованию, но и славу... Другие — потому что считают, что этот процесс проясняет их мысли и чувства. И наконец, люди пишут оттого, что хотят воздействовать на мысли и поступки своих читателей». К последнему типу писателей, несомненно, относится и сам Хаксли: воздействие этого незаурядного прозаика и блестящего эссеиста на мысли и поступки своих читателей всегда оставалось для него мощным творческим импульсом. Вместе с тем — и это лишний раз подтвердили лучшие рассказы из ленинградского сборника — влияние Хаксли наиболее действенно, когда оно, в соответствии с его ярко выраженным сатирическим темпераментом, осуществляется не впрямую, а от противного, на отрицательном примере. Положительные герои, нравоучительная интонация редко удаются сатирику. Не удались они и Хаксли. Стоило ему, изменив себе, выступить в иной роли — учителя и пророка; стоило ему, поверив в свой непререкаемый авторитет у читателя, предложить ему вместо шутовского хоровода смешных и нелепых героев — Героя, вместо контрапункта идей — Идею, — и читатель откровенно заскучал, ведь разве не сам Хаксли научил его в свое время с предубеждением относиться к «приобщению», «воплощению», «самоваянию»?
Л-ра: Литературное обозрение. – 1987. – № 3. – С. 66-68.
Произведения
Критика