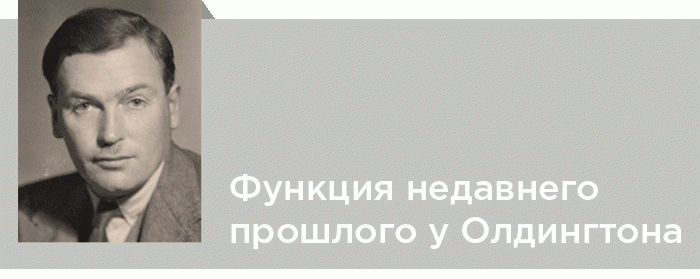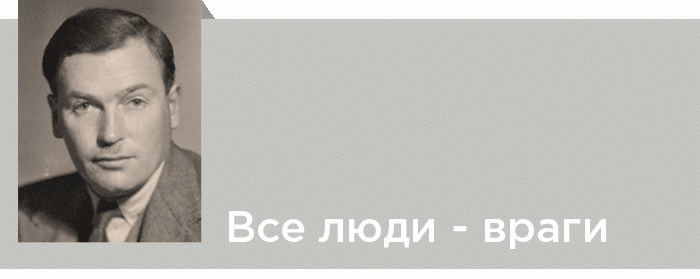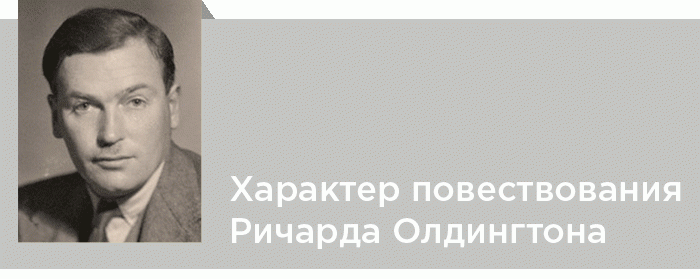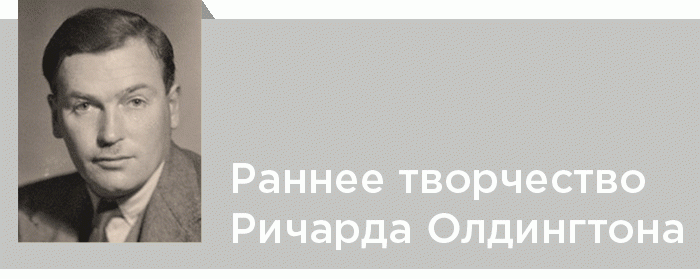Ричард Олдингтон. Сущий рай
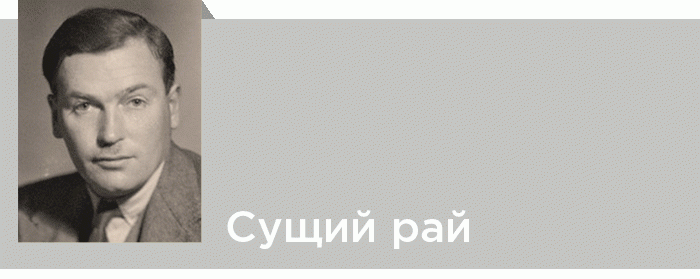
(Отрывок)
Заря такая — счастье для живых.
Для молодости сущий рай.
(Вордсворт о французской революции)
Часть I
Один
Стоя у амбразуры окна и предаваясь холостяцким размышлениям, мистер Уинтроп Чепстон — член ученого совета и преподаватель колледжа Святого Духа — с особенной тщательностью набил свою трубку Данхилл, стоимостью две гинеи, не забыв примять табак средним пальцем левой руки.
Сей сноб платил двойную цену за второсортный надушенный табак, присылавшийся ему за то в пачках в четверть фунта, обернутых в свинцовую бумагу и снабженных этикеткой «Смесь мистера Чепстона». В точности такой же продукт доставлялся двадцати тысячам других идиотов, и на этикетках каждого значилось: «Смесь мистера Смита», «мистера Брауна», «мистера Такого-то» и т. д., в зависимости от обстоятельств. Ибо всех нас стригут для прибыли Капиталиста, все мы — агнцы его возлюбленного стада.
Набив трубку, он сейчас же забыл о высоких достоинствах табака, и сознание его машинально воспринимало ощущения первых затяжек. Он смотрел через двор колледжа на заплесневелый, но исполненный достоинства боковой фасад в стиле английского барокко. К сожалению, мистер Чепстон созерцал этот вид так часто, что перестал им наслаждаться. Он даже не замечал его. Он неврастенически размышлял.
«Годы летят без толку. Скоро мне стукнет пятьдесят. Мы тратим нашу жизнь на то, чтобы изо дня в день готовиться к чему-то значительному, и только затем, чтобы убедиться, что слишком поздно, что для всего уже слишком поздно. Если бы не война, я мог бы… Что, если бы я уехал в Америку? Не выходит дело. Все предопределено. Так было предначертано в первый день творения. Этот мальчик, Крис Хейлин, что я ему скажу? Что можно сказать студенту, родители которого потеряли состояние? Неприятная случайность, не предусмотренная классиками античности. Иов разорился, но кому какое до него дело? Насколько я понимаю, никогда не известно, что нужно сказать в том или ином случае. А еще того менее, что сделать. Жизнь — мрачный фарс. Farce lugubre. Очевидно, в стиле Гюго. Тридцать лет назад я читал его. Теперь он кажется скучным. Годы летят, летят. А кажется, только вчера я сбросил с себя солдатскую шинель».
Неуклюже шагнув от окна, он плюхнулся в глубокое кресло у камина, пуская белый дымок, точно труба никому не нужной фабрики. Он почесал тот участок своей макушки, растительность которого еще не пострадала от разрушительного действия времени.
«Кристофер Хейлин. А ну-ка, что я знаю о нем? Человек, который читает все, кроме того, что полагается по программе. Усердия нет. Никогда не получал первой награды. Интересуется больше происхождением человека, чем происхождением грамматики. Плохо, совсем плохо. Знаю я его родителей? Кажется, нет. Да это и не важно. Родители — это только помеха; первородный грех всех нас in statu pupillari. Неплохо придумано. Надо запомнить. Должен ли я помочь мальчишке? Он способный малый. Жаль, если станет клерком или еще чем-нибудь в этом роде. А как, собственно говоря, помогают в таких случаях? Деньгами? Рекомендациями? Непрошеными советами, которыми пренебрегают? Что бы ни случилось, к сорока годам жизнь ему опротивеет. Farce lugubre. А тогда стоит ли?..»
Стук в дверь и возглас «войдите» вызвали появление не Хейлина, которого он ждал раньше, а слуги, которого он ждал вторым. Чай и сдобные лепешки. Подобно «Смеси Чепстона», лепешки были для него средством не быть похожим на других. Большинство профессоров не едят сдобы.
— Поставьте лепешечницу на камин, Уилдон.
Мистер Чепстон называл свое блюдо с лепешками лепешечницей. Он приподнял теплую фарфоровую крышку и обменялся маслянистой улыбкой с поблескивающими жирными дисками намазанных маслом лепешек. Часы пробили половину пятого. Хейлин опаздывает. Еще одно проявление высокомерия.
«Я не должен позволять студентам опаздывать к назначенному сроку. Мало дисциплинировано это поколение. Мы — слишком, они — недостаточно. Пора бы им знать, что мир — не соска для чешущихся ручонок рекламного младенца с плакатов искусственного вскармливания детей. Не понимаю я их. Откуда это проклятое malentendu между разными поколениями? Разве я тоже не был молодым и не сталкивался с status quo? Теперь я сам часть status quo. А ведь что такое тридцать лет? Пустяк, микромиллиметр времени, и, однако, целая пропасть на самом деле. Что я ему скажу? Мы говорим, они по всей видимости реагируют, по всей видимости вежливы и благодарны, однако же держат нас больше чем на расстоянии, скрываются от нас, как какие-то лицемерные эпикурейцы. А жаль! Но они живут совсем в другой атмосфере; мы в тени жуткого для них прошлого, они в тени пугающего нас будущего. Мы обмениваемся безгубыми улыбками, как призраки, в царстве теней. Но что же, черт возьми, я скажу ему?..»
Мистер Кристофер Хейлин, студент колледжа Снятого Духа, выбывающий из состава слушателей по причинам финансового порядка, вышел из своей квартиры на сырую улицу. Громыхающие грузовики, проносящиеся легковые машины, украшенные экзотическими консервными банками, витрины бакалейных лавок, толчем детских колясочек придавали городу, старинному очагу просвещения, характер живописного уединения и достоинство. К сожалению, Крис созерцал этот вид так часто, что перестал им наслаждаться. Он шел и предавался грустным размышлениям.
«Что я скажу этому старому педанту? Он ни черта не поймет. Они никогда не понимают. Он умастит мои раны сливочным маслом своих лепешек и пойдет дальше своей дорогой. Как он может знать, что это такое, когда рушится жизнь? Может быть, он сообщит мне, какими чертовски бравыми молодцами были они в пятнадцатом году. Но мне что делать, боже мой, мне-то что делать? Кем мне быть: шофером, лакеем, конторщиком, летчиком? Что делать: стоять у дверей, просить подаяние, заискивать или воровать?..
Дома к этому относятся весьма спокойно. „Мы потеряли почти все, дорогой, и тебе лучше было бы вернуться домой сейчас же, потому что мы не можем уделить тебе ни пенни больше“. Иными словами — найти себе работу. Помогай-ка богатым оставаться богатыми. А у меня-то был план работы на всю жизнь. Триста фунтов ренты в год и стипендия или отсутствие таковой. Со стипендией, конечно, лучше, если бы последние три семестра зубрил как сумасшедший. А теперь: вот возвращайся домой и вешайся на крюк в передней.
С ума можно сойти, как подумаешь об этом. С ума сойти. Если бы я сошел с ума, за мной бы ухаживали. Если бы я был калекой, со мной бы носились. Будь я кретином, уродом, слабоумным, слепым, умалишенным, дегенератом, больным, дряхлым стариком — общество сочло бы долгом совести поспешить ко мне на помощь. Но я лишь молод, здоров, силен, достаточно умен и не урод; поэтому никто ничего для меня поделает и никому до меня нет дела. Возлюби кретина как самого себя и поставь всевозможные препятствия на пути человека с нормальными умственными способностями. Вот путь к улучшению рода человеческого путем подлинно „естественного“ отбора.
Что я скажу Чепстону? С ним-то никогда ничего не случается. Он весь запеленут в мысли классиков, отстоит от жизни на три поколения. Будет вращаться до самой смерти вокруг оси той системы, которая его кормит. Наш университет — поистине зоопарк, в котором сидят в клетках эгоцентрики и беглецы от жизни. Не потому ли и мне хотелось попасть сюда? Мы все боимся жизни, боимся сопряженных с ней риска и трудностей. Хотим, чтобы все наши дни были, как варенье на золоченом блюде. Работа под чьим-нибудь крылышком и небольшой капиталец. Я лишился того и другого, и вот мне страшно…»
Он свернул в переулок между высокими глухими стенами университетских садов, прошел мимо хорошенькой, завитой перманентной завивкой девушки, как будто несшей флаг штампованного сексуального призыва. Крис не внял тому сигналу на международном коде пола, который послали ее веселые глаза. Потом он пожалел об этом. Почему нет? Вот уже самое почтенное из приветствий, которыми обмениваются люди. Все мы смертны, почему же нам не приветствовать женщин — носительниц новой жизни? Они ведут безнадежную борьбу за оплодотворенное лоно со смертоносным временем. А мы, отверзающие ложе сна, испуганно отстраняемся. Завтра, и завтра, и завтра…
Дожевывая намасленную лепешку, мистер Чепстон строго сказал:
— Вы опять опоздали, Хейлин.
— В таком случае прошу прощения. Мне казалось, что я, наоборот, пришел слишком рано.
Мистер Чепстон подумал о том, как трудно произносить с олимпийским достоинством внушение, когда рот набит лепешкой, а в руке держишь чашку с чаем. Он решил отменить приготовленную речь о недисциплинированности молодого поколения.
Умостившись, как два петуха на соседних насестах, они издавали резкие и разнообразные крики, свойственные их породе. Оба страдали, ибо правила хорошего тона мешали им — типичным англичанам — сказать что бы то ни было по существу того, что они считали главным. Они были распяты на кресте застенчивости.
Внутренне терзаясь, не зная, что же ему сказать, Чепстон внешне оставался таким же, как всегда: любезным, веселым педантом. Не будучи по природе талантливым чудаком, он немало ломал себе голову, чтобы найти для себя соответствующий университету стиль. Он убедился, что повизгиванье, хихиканье и пыхтенье имеет здесь достаточно большой успех. Пользовалась успехом также спазматическая порывистая манера говорить и неистово дрыгать ногами в минуты напускного веселья. Это было тем более убедительно, что ему до смерти опостылели жизнь и служба и он был подвержен отвратительным припадкам нервного отчаяния. Это придавало оскалу его всегда готовой появиться улыбки сатанинский оттенок — внушительный для робких и загадочный для тупоумных.
В муках самообуздания Чепстон прохихикал «страшно интересный анекдот». Мысленно переводя щебетанье профессора с языка штампов на нормальный английский язык, Крис понял, что профессор Косинус, величайший из живущих на земле специалистов по геометрии четырех измерений, катаясь на велосипеде, столкнулся с другим велосипедом, на котором ехал профессор Плоскость, последний фанатичный приверженец реальности Евклидовой вселенной. Покрытые грязью, в крови и ссадинах, они в ярости выбрались из-под обломков и среди обступившей их толпы восхищенных студентов и обывателей завязали оживленный спор о своих скоростях и траекториях. Плоскость утверждал, что Косинус описал противозаконную гиперболу на неправильной, или релятивистской, стороне дороги, тогда как Косинус настаивал, что Плоскость непристойное явление, возникшее во временно-пространственной конечности пустозвонства.
Восхищенный своим талантливым изложением этого замечательного события, мистер Чепстон откинулся на спинку кресла, весело дрыгая ногами, и прикрыл носовым платком лицо, сморщившееся от искусного хихиканья.
— Сегодня, однако, нам предстоит обсудить не этот вопрос, — торжественно сказал он, внезапно явив свое лицо из носового платка, словно рыдающий клоун. — Вы действительно покидаете нас?
— Да, завтра я уезжаю.
Покорность Криса судьбе обрадовала и успокоила мистера Чепстона. С той самой минуты, как он услышал о катастрофе, благожелательность вела в его душе безуспешную борьбу со скупостью и осторожностью.
— Послушай-ка, — говорила Благожелательность, — не упускай случая. Ты вечно ворчишь, что жизнь твоя пуста, что тебе никогда не удается сделать что-нибудь действительно порядочное и существенное. Ты знаешь, что это умный парень, слишком умный, чтобы вечно корпеть над одними лишь предписанными программой книгами. Из него может выйти блестящий ученый. Он даже способен мыслить. Помоги ему деньгами. Добейся для него стипендии. Тебе это не будет стоить и четырехсот фунтов. Если он выбьется в люди, он тебе вернет эти деньги. А если нет, у тебя появится интерес в жизни, и ты вполне можешь позволить себе потратить столько.
— Нет, нет, ни в коем случае! Ты не можешь себе этого позволить, — возмущалась Скупость. — Помнишь, как ты обжегся на акциях этих рудников? Помнишь жуткий крах Ривьера-Палас-Отеля? А подоходный налог? А вдруг ты заболеешь? Лишишься кафедры? Не будь сентиментальным ослом. За твоим кошельком будет охотиться половина нищих гениев Англии.
— К тому же, — добавила Осторожность, — подумал ты о том, что станут говорить другие?
Справедливость прежде всего, не так ли? Ну что ж, будем справедливы. Не вмешайся Осторожность, Скупость, может быть, сдалась бы. Но мистер Чепстон до ужаса боялся сплетен и смешных положений. Холостяк, который проводит свои долгие каникулы в отдаленных уголках Сицилии, приобщаясь к античности среди пастухов (вспомнился Вергилий), и который слишком известен своей романтической дружбой с гибкими юнцами… Довольно, довольно! Осторожность победила.
Мистер Чепстон вспомнил обо всем этом в течение какой-нибудь секунды. А жаль, жаль. Да, не может быть никакого сомнения, что Хейлин очень красивый мальчик. В нем есть что-то античное.
Мистер Чепстон почувствовал, что ему надо проявить сердечность.
— Так, так! Так, так! — Он сиял, как идиотический Пиквик. — Нам будет очень грустно потерять вас. Что же вы намереваетесь предпринять?
— Не имею ни малейшего представления, — холодно сказал Крис, думая про себя: «Вот тоже старый балбес: ржет, как пьяная кобыла. Мог бы помочь мне, если бы захотел. Так чего ж он молчит? Ведь знает, что сам я прямо спросить не могу».
— Надеюсь, вы ни при каких обстоятельствах не забросите классиков, — профессорским тоном сказал мистер Чепстон. — Запомните, что способность писать греческие стихи имеет… а… гм… большое значение.
— Я бы назвал это развлечением для сельских священников в часы досуга, — едко отпарировал Крис.
Мистер Чепстон прикрыл эту смертельную рану, нанесенную его благожелательности, и эту царапину, нанесенную его тщеславию, целой серией сложных хихиканий и повизгиваний, сопровождаемых подрыгиванием ног.
— Ах, это здорово! — воскликнул он. — В самом деле очень хорошо. Развлечение сельских священников. Я передам это декану, обязательно передам.
Но Крис отклонил этот словесный гамбит, за которым должно было следовать обычное академическое собеседование. Странная горечь овладела им. Оскорбительно это хихиканье стариков в мире, который стонет в родовых муках и задыхается в хаосе, намеренно создаваемом искателями власти.
— А вы не могли бы вместо этого поговорить с деканом обо мне? — пробормотал он, краснея от стыда и злобы. — Неужели нет возможности дать мне стипендию — колледж богат, — а потом и место ассистента. Я хотел бы заняться научной работой.
— Научной работой? — воскликнул Чепстон холодно, настороженно, но внешне сохраняя наивное выражение и улыбку. — Ну, скажите, чего ради энергичному молодому человеку совершать духовное харакири на нашем оскверненном алтаре просвещения? Пусть мы плывем в ковчеге Муз, но на какой Арарат провинциализма выбросило нас стихией! Я немного видел свет, я командовал на войне батареей, хотя мои орудия не всегда пользовались славой бьющих без промаха, ха-ха-ха! Я вернулся сюда зализывать свои раны, как свинья в Эпикуровом стаде. А каково истинное мое призвание? Стать актером. Вы никогда не видели меня в роли Ромео. У меня была возможность попасть в Голливуд. Я упустил ее, забился в эту нору ради хлеба насущного и дешевой бутылки вина. Ах, почему я не последовал за своей звездой и не стал актером?
— Все англичане прирожденные актеры, — сказал Крис. — К сожалению, слишком многие из них играют злодеев.
— Разве это такое несчастье, когда молодой человек бросается очертя голову в широкий мир? — воскликнул мистер Чепстон, пропуская мимо ушей этот выстрел Криса. — Где же традиции авантюры, где современные Рали и этот, как его там? Предоставьте академическое затворничество старикам. А молодым — действия, приключения, острый запах жизни в ноздрях. Да в вашем возрасте люди моего поколения несли весь мир на штыках…
— И посмотрите, куда они его принесли…
— Героическая жизнь сама себе награда. — Мистер Чепстон сделал попытку быть внушительным. — Возьмите, например, Руперта Брука. Его статуя на Скиросе, его рукописи в Британском музее. А где он сам, по существу говоря? Среди бессмертных!
— И тем не менее он мертв и довольно-таки скучноват.
— Не будьте циником! — взмолился мистер Чепстон. — Разрешите мне просить вас не быть циником. Диоген был самый низменный из философов.
— Да, — перебил Крис, — он был в состоянии разозлить Платона, сказав ему, что, если бы тот научился питаться сырыми овощами, как Диоген, ему не пришлось бы льстить тиранам.
— Ха! — мистер Чепстон решил пропустить намек мимо ушей. — А, так вы читали Лаэрция? Чудесно, восхитительно. К сожалению, жизнь состоит не только из классической учености, особенно для тех, у кого нет ни гроша.
— Разумеется, они имеют право на свой otium sine dignitate, — горько сказал Крис.
— На покой без почета? — Мистер Чепстон сделал паузу. — Ах! Вы имеете в виду безработных? Да, это слишком верно. Но вы не будете из их числа…
— Ведь я не имею права даже на пособие, — усмехнулся Крис.
— Мой милый мальчик! Довольно цинизма, прошу вас. Разрешите мне сказать вам два-три слова ободрения. Постараюсь не впадать в обычную ошибку людей моего возраста и не буду предлагать вам самого себя в качестве примера. Напротив, я хотел бы послужить вам предостережением. Моя жизнь началась на вершинах, но слишком скоро закончилась надгробной эпиграммой в испорченном или христианском стиле Греческой Антологии. Вы, как юный Вергилий, начинаете с того, что теряете все отцовские угодья. Ну так что ж? Боги оказывают вам честь, давая возможность начать с царапины на скачках жизни. Выше голову — и вперед! Сколько предприимчивости и талантов погибло для мира благодаря тому, что обладатели их имели несчастье унаследовать ренту. Нищета — бич, который подхлестывает талант на пути к успеху. Бойтесь довольства и изнеженности…
Невозможно сказать, как долго гудел бы еще мистер Чепстон, наставляя Криса в стиле Полония. Крис слушал с удивлением и стыдом, сознавая, что ему хитроумно заткнули рот. Он чувствовал себя в смешном и глупом положении. Смешно было бросаться в самый разгар катастрофы к Чепстону, как к милосердной Богоматери; глупо наступать человеку на любимые мозоли, когда хочешь что-нибудь получить от него. Крис сделал удивительное открытие, что шутки на чужой счет требуют подкрепления в виде независимого дохода. За отсутствием такового человек вынужден присоединиться к великой армии тех, кто лижет чужой зад явно и старается укусить его исподтишка; сплетнями мстит человеческое «я» за те унижения, на которые обрекает человека забота о собственной выгоде…
Крис вышел из задумчивости и закрыл шлюзы чепстоновского красноречия, поднявшись со словами:
— Ну, мне пора идти. Надо еще уложить вещи и повидаться с массой людей. Спасибо за все.
— Вам в самом деле пора? — воскликнул мистер Чепстон, с самым непринужденным видом вскакивая с кресла. — Может быть, вы чего-нибудь выпьете? Нет? Что ж, в таком случае…
Он принялся медленно и внушительно пожимать правую руку Криса, раскачивая ее, как ручку насоса:
— Не забывайте своего старого учителя, — пожатие, — приезжайте иногда повидаться со мной, — пожатие, — не становитесь тряпкой, — пожатие, — никогда не таите обиду за несправедливость, — пожатие, — держитесь идеалов, которые мы старались вам привить, — пожатие, — берегитесь вульгарности, — пожатие, — материализма, — пожатие, — бесчестных поступков, — пожатие, — и, превыше всего, женщин!
Выпустив руку Криса, мистер Чепстон быстро отвернулся, как бы желая скрыть душившие его чувства.
— Прощайте, — сказал он гортанным голосом. — Прощайте!
Крис направился к двери и, когда она закрылась, услышал голос мистера Чепстона, поднявшийся до прощального вопля.
— Прощайте! Держитесь — ваши идеа-алы…
Склонив голову набок, точно огромный, но уродливый певчий дрозд, мистер Чепстон слушал, как ослабевает эхо шагов Криса по деревянным ступенькам, потом по-птичьи подскочил к окну и выглянул посмотреть на голову и спину явно разочарованного молодого человека, направляющегося к воротам колледжа.
Может быть, на лице этого выдающегося специалиста по античной литературе появилось слабое подобие сатанинской улыбки?
Может быть, он сообразил, что пять процентов из четырехсот фунтов, это двадцать фунтов в год, — достаточно, чтобы оплатить годовой счет за табак каждого сколько-нибудь благоразумного человека?
Во всяком случае, он снова принялся набивать трубку, с особенным напряжением вглядываясь в сумерки.
Два
Трясясь в углу купе третьего класса, Крис мрачно созерцал катящуюся перед ним панораму пустошей, разбросанных в беспорядке птицеферм, новых желтых кирпичных особнячков, милых, старых, дымящихся от сырости полудеревянных коттеджей и облетевших остатков леса. Шпили вонзались в небо, две-три свиньи утыкались пятачками в землю, автомобили мчались по дорогам, перестроенным за огромные деньги во имя разрешения проблемы безработицы. Недавно превращенный в Дом Призрения величественный особняк объявлял на огромном плакате, что он кормит, одевает и пестует с колыбели до могилы слабоумных детей слабоумных родителей и властно требовал пожертвований на это замечательное патриотическое начинание.
Есть разница между юными англичанами вчерашнего и сегодняшнего дня. Это должно быть ясно даже им самим.
Довоенный англичанин был обычно чем-то вроде белокурой рыбы — длинный, холодный, не умевший выразить свои мысли, хищный и наглый. Вскормленный на питательном мясном экстракте воинственности, который прославляли кровожадные медицинские авторитеты, он воображал себя непобедимым властелином всего остального низшего мира. Колонна Нельсона была пупом его обширной и в значительной мере фиктивной империи. Все дороги начинались для него от Ватерлоо.
После столетия легких побед над косоглазыми и черномазыми этот чертовски замечательный спортсмен испытал неприятный сюрприз: его ударил противник, оказавшийся ему по плечу. Реагируя на сии внешние условия, рыба постепенно усвоила покровительственную окраску миролюбивого идеалиста, идеалом которого было — заинтересовать мир в сохранении своей безобидной породы. Так как это не удалось, он обиделся на мир, и дети столкнулись с унылой перспективой бесконечно долго расплачиваться за грезы отцов. Их наследие — разочарование.
Крис Хейлин был представителем этой, по-видимому, новой породы, которой по непонятной прихоти генетики суждено удовлетворять новым требованиям. Для англичанина он был мелкокостен и невысок ростом — всего пять футов шесть дюймов. Руки у него были широкие, но изящной формы; волосы довольно темные; подбородок и рот говорили о скромности, о природной застенчивости. Глаза серые и крайне сентиментальные. Но если у него и были нервы, он держал их в узде, во всяком случае, он был человеком слишком цивилизованным, чтобы дать выход своим чувствам, избивая кастетом своих политических противников.
Если бы удалось убедить его отказаться от едкого легкомыслия ради надутой серьезности и носить брыжи и эспаньолку, он был бы прекрасной имитацией молодого испанца времен Филиппа III. Меланхолия, свойственная всем, кто пробуждается от надменных грез, перешла у него в отчаянную веселость. Или веселое отчаяние. Далекий оттого, чтобы спустить свой старый флаг в знак поражения, он бесцеремонно пользуется им как носовым платком. Это может быть великолепно, но бессмысленно. И здесь также разочарование.
Крис страдал. Он был из тех людей, которые непременно должны страдать. Он заблудился в мрачном лесу, ощерившемся капканами для молодых людей. Разлука с корпоративной самоуверенностью колледжа Святого Духа унизила его «я». Он испытывал своеобразные муки человека, который в теории может делать все что угодно, тогда как в действительности все его импульсы ущемлены. Он был близок к настроению, побуждающему становиться масонами, фашистами, или объединенными лесничими, или жениться на первой попавшейся неподходящей девушке.
Он размышлял с горестной бессвязностью:
«Гнусная встреча со стариком Чепстоном вчера. Еще гнуснее встреча дома. Гнусные, гнусные дни впереди. Мы становимся пожилыми, когда перестаем надеяться в будущем на что-нибудь приятное. Я, должно быть, родился пожилым. На что я надеюсь в будущем? На встречу с домашними?
На Анну? Анна не такая. В самом деле не такая? Она сияет как звезда, и она восхитительна — иногда. И потом она сука, да, такая хорошенькая сучка. Женщины-суки теоретически бессмертны, это бессмертие пола совершенно необходимо для оправдания глупости и жадности мужчин. И все-таки Анна прелесть, хоть она и сука. Люблю я Анну? Что значит любовь? Пастырь, что такое любовь? Скажи мне, прошу тебя. „Светлых волос на запястье браслет?“
Любить — это значит пребывать в таком иррациональном состоянии, когда хочешь во что бы то ни стало заплатить чудовищную цену за ветку цветущей вишни, которую тебе должны были бы великодушно приносить в дар…
Но я хочу, хочу ее, хочу ее. Ну а какой толк в этом? Я нищий герой. Из-за отсутствия денег я не могу жить как хочу. Но хочу ли я жениться на Анне? Осесть, как говорят, точно ил в океане или осадок в бутылке вина? Столь же существенно: захочет ли Анна выйти за меня замуж? Мой годовой доход ноль фунтов, ноль шиллингов и ноль пенсов; заработок — столько же. Идеальная перспектива для брака. Но зачем брак? Я хочу Анну в здоровье, не в болезни; я предпочел бы раздевать ее, не одевать; я хочу ее иногда, не всегда; сейчас, а не на всю жизнь? Возмутительно! Такие речи доступны только господам профессорам.
Это ведь очень легко сделать самым простым шилом и, может быть, даже хорошо было бы умереть. Зачем тянуть обрывающуюся нить до позорного конца? Выпрыгнуть из жизни в припадке злой скуки или таскать ревматический костяк и негодную дряхлую плоть…»
Крис пил из чашки разочарования большими глотками — молодой человек, оказавшийся во власти близорукого мира, как молодой король перед липом угрюмой, обанкротившейся и свиноголовой нации.
В таком настроении он мрачно побрел со станции домой и тихонько вошел с черного хода через кухню, где напугал кухарку, вздремнувшую перед горящей плитой. В отместку она вылила на него скопившуюся за день сварливость.
— Ох, мистер Крис, нехорошо так пугать человека, а я-то устала и измучилась, каково это, когда нет горничной и приходится делать все по дому одной. Я сказала барыне, что это не входит в мои обязанности, но, конечно, я готова помочь, и сейчас я только-только присела на минутку, как вы тут ворвались и хлопаете дверью, и я готова на пенни спорить, что вы не вытерли ноги и пошли так по моему чистому полу. Я нынче утром сказала барыне: извините меня, барыня, постелить постели и мести пол не входит, говорю, в обязанности кухарки и никогда, говорю, не входило, хоть я, конечно, рук своих не пожалею для почтенного семейства, когда оно, говорю, аккуратно платит жалованье, и сама не хочу никому быть в тягость, особенно когда люди в нужду впали, и в этом, говорю, нет ничего удивительного, а мне, говорю, надоело каждый раз лавочникам говорить, что барин в постели и не будут ли они любезны подождать, а еще того больше, вы, барыня, говорю, меня, конечно, извините, но только я сама из приличной семьи и в мои обязанности, говорю, не входит бегать в кабак «Красного Льва» за бутылкой виски. Пусть, говорю, кто пьет, тот сам и покупает виски в кабаке, так что уж вы, говорю, будьте любезны, рассчитайте меня с предупреждением за месяц, а она как на меня заорет, да мало сказать заорет, но ведь я ей ничего дурного не сказала, мистер Крис, но только я не хочу оставаться в доме, где меня не ценят…
Эта длинная речь под стать монологу Старого моряка так заворожила Криса, что, пока она длилась, он был способен только двигаться боком через кухню к внутренней двери. Подоспевшая весьма кстати пауза, вызванная необходимостью перевести дыхание, позволила ему сделать быструю перебежку, и он очутился в передней, действительно потрясенный простодушной верой и честной преданностью старой прислуги.
Дверь из гостиной распахнулась широкой полосой света, и Крис услышал голос своей сестры Жюльетты, пропевшей ненатурально:
— Неужели это наконец ты, до-ро-гой Крис?
Кровосмесительный инстинкт любви к сестрам, присущий, как утверждают психологи, всем юным самцам, давно уже перешел у Криса в трезвую привязанность. Сказать правду, Крис даже не подозревал, что этот инстинкт у него когда-либо был. Он боялся сцены, тем более что ему самому хотелось скрыть свое волнение; последние остатки братских чувств испарились, когда Жюльетта, схватив его в объятия и укачивая его, как капризного ребенка, начала причитать:
— Ах, бедняжечка! Ах ты, наш бедняжечка! Какое грустное, грустное возвращение домой для нашего дорогого мальчика, и никто даже не встретил бедного крошку на станции! Это тебе показалось ужа-асно, должно быть!
Крис поцеловал ее, высвободился из объятий и, поправив галстук, сказал шутливым тоном:
— Какие пустяки! Я очень легко нашел дорогу.
Жюльетта преградила ему путь в освещенную комнату.
— Крис! Не будь жестоким и циничным с нами, пожалуйста, не надо! Я не переношу этого. Подумай о бедном отце, который лежит больной…
— Он серьезно болен? — тревожно спросил Крис.
— Не смертельно, мы надеемся, но он такой слабый и жалкий.
— Это я уже знаю давно, — с горечью сказал Крис, — но…
— Крис! — Жюли понизила голос до драматического шепота. — Раньше чем ты увидишься с ними, я должна сказать тебе одну вещь. Не жалуйся, не упрекай их ни в чем!
— С чего это ты взяла, что я собираюсь их упрекать? — Крис был искренне удивлен.
— Ах, не столько словами. Ты никогда не говоришь прямо. Но ты держишься как посторонний и всех нас осуждаешь, отпускаешь свои холодные издевательские замечания.
— Мне кажется, ты ошибаешься, — спокойно сказал Крис. — Просто я ненавижу сцены и шум из-за пустяков. Пользы от этого никакой, а только напрасные волнения. Дело тут чисто практическое, материальное.
— Я так и знала, что ты отнесешься к этому вот так цинично!
— Но, Жюли, будь рассудительна! Я хочу только покончить с этой дурацкой таинственностью; непонятно почему от меня что-то скрывают, я хочу рассудить, что же мне делать.
Но Жюли не слушала доводов рассудка.
— Все, что тебе нужно знать, будет сказано тебе в свое время; я тебе обещаю. И не сердись, что мы тебя не встретили.
— Как будто это имеет какое-нибудь значение!
— Мы здесь все так заняты, и — ты ведь знаешь — нам пришлось продать машину.
— Я знаю. Это было разумно. Но зачем так много говорить об этом? Вы с матерью упоминали об этом в каждом письме…
— Неужели ты ни к чему не можешь относиться по-человечески? — с дрожью в голосе вопросила Жюли. — Неужели ты не понимаешь, что единственный выход для нас — это чувствовать, что, по крайней мере, мы можем опереться друг на друга…
— И симулировать всяческие нездоровые переживания по поводу всего этого? Много удастся таким образом заплатить долгов?
— О! — Жюли попыталась выразить свое возмущение, отшатнувшись от брата.
Звук передвигаемых стульев в комнате, где до этого была полная тишина, указал на присутствие подслушивающих. По-видимому, эта маленькая сцепка была подготовлена заранее, но все вышло немножко не так, как на то рассчитывали.
Крис вошел и сразу остановился, ослепленный. Он смутно заметил большой стол, заваленный дамским шитьем в различных стадиях готовности, неожиданное присутствие Гвен Мильфесс и свою мать с зеленым защитным козырьком отсвета над глазами, которая направлялась ему навстречу. По-видимому, он попал в улей трудолюбивых пчел.
Крис наклонился поцеловать свою мать, но этому воспрепятствовал козырек, который дернулся вверх и ударил его по носу. Тогда он похлопал ее по спине, сопровождая это весьма, как ему казалось, успокоительными междометиями. Но тут она привела его в окончательное замешательство, разразившись слезами на его плече и произнося какие-то бессвязные слова о «твоем бедном отце» и «моих бедных обнищавших детках».
Он ясно ощутил исходивший от нее запах коньяка.
Полный смущения и стыда от этой сцены в присутствии миссис Мильфесс, Крис, как и следовало ожидать, сказал не то, что нужно.
— Ну, не… плачь, — неловко пробормотал он. — Все это еще не так страшно. В конце концов и хуже бывает.
Миссис Хейлин отнюдь не утешилась тем, что кому-то и хуже бывает. Она нашла — и, пожалуй, была права, — что это замечание неуместно. Во всяком случае, она продолжала плакать и произносить жалкие слова с большим воодушевлением и настойчивостью, пока наконец Гвен и Жюльетта не оттащили ее от Криса и не усадили в одно из кресел.
— Возьми коньяк и содовую, вон там, на буфете, — прошипела Жюли. — Скорее, Крис, а то она опять лишится чувств.
Крис задумчиво смотрел, как его мать маленькими глотками отпивает коньяк, уверяя всех, что коньяк им теперь не по средствам и что, во всяком случае, она терпеть его не может. Он не мог не заметить, что ее щеки и нос заметно зарумянились.
Нелюбимый алкоголь, по-видимому, все же подействовал. Миссис Хейлин оживилась и начала многословный монолог, как бы посвященный в значительной мере ей самой.
Начала она с того, что подчеркнула, какой преданной женой она всегда была для Фрэнка и каким он был для нее хорошим мужем, несмотря на все его недостатки, скрывать которые было бы, по ее мнению, лицемерием. Она, со своей стороны, поступала всегда так, как диктовала ей ее совесть, и ей не в чем себя упрекнуть. Величайшим недостатком Фрэнка — этого она не станет скрывать — была доверчивость, беспечность в делах, порожденная леностью, — так что всякий сколько-нибудь смышленый человек мог убедить его сделать все что угодно. Никогда нельзя было заставить Фрэнка понять ценность денег и то, как в наше время нужно беречь каждый пенс. Кроме того, — ей очень неприятно говорить это, по сказать это она обязана, — не было случая, чтобы бутылка виски не утешила его в чем бы то ни было. Что касается ее, они все знают, как ненавидит она эту гадость, и знают, что она никогда не притронулась бы к алкоголю, если бы не ее сердце. Если она внезапно отправится на тот свет, кто же будет думать и заботиться и трудиться для всех; что-то с ними со всеми станет. Она считает своим священным долгом поддерживать свое мужество, чтобы они все не остались…
Жюльетта наполнила опустевший стакан и передала его матери под сочувственный шепот Гвен. Крис созерцал эту сцену: миссис Хейлин, раскрасневшаяся, вся в слезах, с козырьком, нелепо торчащим у нее на лбу; Жюли и Гвен, по-видимому, сильно заинтересованные и содействующие миссис Хейлин в этом низком покушении на его лучшие чувства. К счастью, этот план был настолько очевиден, что он не обманул Криса. У него было странное чувство раздвоенности: одна часть его «я» сгорала от стыда, мучилась от каждого позорного слова и жеста его родичей; другая совершенно безучастно и невозмутимо старалась разрешить вопрос: зачем мать это делает?
Да, так о чем же она говорила, рассеянно спросила миссис Хейлин. Ах да, она хотела сказать, что, несмотря на все недостатки, Фрэнк всегда был лучшим из людей. Жюли еще дитя, Гвен никогда не была матерью, так что им не понять, что это значит — быть матерью: самое священное и прекрасное, и возвышенное, и духовное…
— Ах да, — вздохнула Гвен.
Жюльетта опустила свои прекрасные изогнутые ресницы и тоже вздохнула…
В уме Криса пронеслось описание первых родов, слышанное им от одного студента-медика, который долго не мог оправиться от произведенного ими впечатления; болевые схватки, сопровождаемые стонами и криками, добродушный циничный доктор, привязывающий простыню к стенке кровати и бодро покрикивающий: «А ну-ка, энергичнее, мамаша!», запах хлороформа, извлечение крошечной, с виду обваренной кипятком, безволосой обезьянки, сутолока, вонь… Самая внушительная реальность физического мира, если угодно, но где здесь прекрасное, духовное?
Они с Фрэнком, патетически объяснила миссис Хейлин, жили только мыслями о своих детях и ради них. Единственное, о чем они просили Бога, чтобы дети выросли здоровыми телом и душой и чтобы им довелось увидеть их Устроенными в жизни. Но теперь, в этой трагедии, которую Фрэнк, — как это ни жестоко, но она должна сказать, — навлек на всех них, что им осталось делать? Ей незачем напоминать им, какая это жуткая, какая ужасающая трагедия. Без денег невозможно жить сколько-нибудь прилично: вы спускаетесь до уровня рабочих. Она сама не дальше как сегодня столкнулась с одной из тех вещей, с которыми им теперь предстоит сталкиваться постоянно. Никогда за всю свою жизнь ей не приходилось безропотно сносить такую наглость, какую проявила эта женщина на кухне…
— Так что же, — риторически вопрошала она, — что же делать?
— Установить в точности, каково положение дел, — сказал Крис. — Спасти все, что можно. А тем временем отец и мы с Жюли будем искать работу.
При этом непрошеном вторжении здравого смысла в восхитительно эмоциональную сцену Жюли взглянула на него возмущенно, а Гвен укоризненно. Миссис Хейлин не обратила на него внимания.
Насчет Жюли, таинственно намекнула она, беспокоиться нечего. У Жюли есть характер, есть красота, есть обаяние, и она, не поступаясь ни на йоту своей чистотой и идеалами, умеет здраво смотреть на вещи и понимает что такое жизнь. И хотя ничего еще не решено окончательно, — Гвен понимает, о чем идет речь, — миссис Хейлин всем своим существом чувствует, что все будет в порядке. Согласна ли с нею Гвен?
Да, Гвен уверена, что все будет в порядке.
Но самая большая забота, продолжала миссис Хейлин, помимо этой катастрофы и состояния несчастного больного там, наверху, — это Крис. Они сами видят, насколько он отличается от Жюли. Конечно, она ни единым словом не упрекнет своего любимого мальчика, все в этом уверены. Она не скажет ничего, вот только одно слово! Разумеется, она знает, что университет — это совершенно необходимая вещь для всякого приличного молодого человека, если только он не идет на военную или гражданскую службу. Человека судят по тому, в какой школе и в каком университете он учился. Они с Фрэнком не жалели расходов, чтобы дать Крису именно то воспитание, какое нужно. Но она должна сказать, что, с ее точки зрения, университет, или как теперь полагается говорить, альма-матер, оказывает на ее сына не очень хорошее влияние. Именно там он приобрел привычку сидеть целые дни, уткнувшись в книги, и носиться с какими-то безумными идеями и невозможными теориями, вместо того чтобы обращать внимание на практическую сторону жизни и предаваться более здоровым занятиям.
— Боже милосердный! — раздраженно сказал Крис. — Что такое «здоровые занятия»? Играть на бирже, не смысля в этом ни бельмеса?
Вот, вот! Миссис Хейлин торжествовала: это замечание доказывает ее правоту. Она хотела лишь сказать, что Гвен — их лучший и единственный друг.
Гвен пробормотала что-то в знак протеста.
Да, да, когда все остальные покинули тонущий корабль их семьи, одна Гвен мужественно осталась с ними. Да разве вот хотя бы теперь она не трудится как вол, не сидит, не разгибая спины, за шитьем, к которому, кстати сказать, им пора бы вернуться? Миссис Хейлин чувствует, что Гвен могла бы посоветовать ей что-нибудь и насчет Криса…
Гвен бросила на Криса улыбку, от которой ему стало чуть-чуть не по себе. Казалось, она заключала в себе какой-то скрытый смысл, но какой именно?
Да, настаивала миссис Хейлин, она чувствует, всем своим существом она чувствует, что Гвен может помочь им в отношении Криса. Они с Фрэнком, — Гвен это прекрасно знает, — пойдут просить милостыню, лишь бы не видеть, как страдает Крис…
— Ах, ради бога! — в негодовании прервал Крис. — К чему все это?
Они уставились на него, пораженные его грубостью.
Внезапно та, вторая, невозмутимая часть его «я» нашла ответ на вопрос: зачем они это делают? Это отнюдь не было попыткой найти какой-нибудь разумный выход из неприятного положения. К этому они стремились меньше всего; это потребовало бы известного умственного напряжения и труда. Они стремились совсем к другому: насладиться волнующим состоянием смятения, — смерть, свадьба, война, революция — подействовали бы точно так же и вызвали бы такую же слезливую реакцию. Вот что они имеют в виду, когда говорят «жизнь», или «настоящие чувства», или «человечность». И это отвратительно. Под герметической крышкой их скучного существования искалеченные человеческие импульсы продолжают жить и мстят за себя такими вот плаксивыми извращениями. Подымите крышку «порядочной жизни», и какая гниль под ней обнаружится!
Крис колебался между отвращением и жалостью.
— Можете продолжать ваши рассуждения насчет меня, — сказал он, — а я пойду пока поздороваться с отцом.
— Не тревожь его, сделай милость, — проговорила миссис Хейлин жалобным голосом человека, сжившегося с горем. — Он отдыхает.
— Он заболел от потрясения, — сказала Жюльетта.
— Тогда мне тем более следует повидать его, — ответил Крис, направляясь к двери.
Крис тихонько постучал в дверь спальни и, не получив ответа, бесшумно открыл дверь. Его взгляд встретил успокоительное, хотя и несколько странное зрелище. Вглядевшись сквозь тонкую завесу едкого табачного дыма, Крис увидел дородную фигуру своего отца, обложенную подушками, в смятой, неубранной постели, заваленной романами. Мистер Хейлин был в эту минуту поглощен кроссвордом и вздрогнул, можно сказать, почти виновато, когда Крис с тревогой в голосе окликнул его:
— Ну, отец, как поживаешь?
Мистер Хейлин уронил карандаш и газету из безжизненно опустившихся рук, промямлил что-то невнятное и откинулся, по-видимому, в полном изнеможении, на подушки. Он закрыл глаза и тяжело задышал.
Присев на постель, Крис взял его руку и с беспокойством увидел, что полное, мясистое лицо отца покраснело и опухло от жара. Однако предметы, лежавшие на ночном столике, указывали на то, что мистер Хейлин лечил свою болезнь виски с содовой и папиросами.
— Как поживаешь? — мягко повторил Крис. — Мне сказали, что ты заболел. Что с тобой? И как ты — поправляешься?
Мистер Хейлин осторожно открыл глаза, эти простодушные голубые глаза, взгляд которых порой казался честным и вводил в заблуждение даже их обладателя, в особенности их обладателя.
— Паралич, — прошептал он. — Вся левая сторона.
— Паралич! — в ужасе воскликнул Крис. — Господи! Когда? Каким образом? Почему же мне не дали знать?
— Вся левая сторона. — Мистер Хейлин осторожно положил правую руку на левое предплечье, точно боясь, что оно вот-вот взорвется. — Началось после удара. Иногда проходит, а потом опять еще хуже. Не могу пошевелиться, чувствую, что теряю почву под ногами. Мне нужен полный покой, — не впускайте ко мне этих господ со счетами.
Крис был сбит с толку.
— Что говорит доктор? — с беспокойством спросил он.
— Доктора не было, — сказал мистер Хейлин. — Разорившийся человек не может звать докторов. К тому же все они шарлатаны.
— Но послушай, отец, — настаивал Крис, — ведь не можешь же ты лежать так до бесконечности без всякого ухода. Почему не вызвать доктора Вудворда?
— Ни в коем случае! — Для больного человека мистер Хейлин говорил с чрезвычайной энергией. — Не допущу, чтобы он или еще кто-нибудь пичкал меня отравой и колол этими проклятыми иголками или лишал меня моих маленьких удовольствий. — Он снова как-то вдруг сразу ослаб, обессилел и пробормотал: — Оставь меня. Все, что мне нужно, это тишина и покой после этого ада…
— Крис, милый! — В голосе миссис Хейлин звучала бархатистая нежность, — я ведь просила тебя не тревожить папу разговорами о делах, пока он болен.
— Вся левая сторона, — бормотал больной. — Я прошу только тишины и покоя.
Миссис Хейлин подняла Криса с кровати, хмурясь и качая головой. Она проворно оправила простыни и погладила лоб больного.
— Может быть, тебе прислать чего-нибудь, милый? Немножко молока с зельтерской водой или оршаду?
Мистер Хейлин покачал головой, слабо, но с отвращением. Очевидно, паралич отбил у него вкус к этим невинным напиткам.
— Если бы только я был в силах, — простонал он. — Если бы я только мог добраться до этих зазнавшихся мерзавцев…
— Ну, ну, не думай об этом, — сказала миссис Хейлин успокоительно, но с легким оттенком раздражения. — Ты — лежи — спокойно — и отдыхай. Мы сейчас пришлем тебе закусить. Идем, Крис.
— Ничего не понимаю! — воскликнул Крис, останавливая мать на верхней площадке лестницы. — В чем дело? Что с ним такое? Что это, действительно паралич? Но тогда почему он не хочет, чтоб позвали доктора? Ты-то как думаешь, — он серьезно болен?
— Это удар, — пояснила миссис Хейлин терпеливым тоном взрослого человека, втолковывающего маленькому, глупому ребенку нечто само собой очевидное. — Он со временем поправится, если ему дадут покой и отдых. Но к нему не нужно приставать ни с какими вопросами и ни в коем случае не волновать его, в особенности денежными делами.
Крис схватился за голову.
— Кто-то из нас сошел с ума, — сказал он. — По-твоему, я? Нет, это ведь не Дом отчаяния, а скорее Обитель блаженных или Приют для умалишенных. Человек лежит в параличе — и нет доктора. Запутаны денежные дела — и нет юриста. Я единственный человек, который мог бы временно взять на себя ведение дел, — а мне даже не дают узнать, каково положение, не говоря уже о том, чтобы вместе со мной обсудить его. И, в довершение всей комедии, когда моя карьера погибла, меня вызывают сюда затем, чтобы я, в сущности, ничего не делал, потому что нет денег, и я застаю здесь гостью, с которой вы развлекаетесь среди какой-то вакханалии шелков и вуалей. Кто из нас сошел с ума, мама, вы или я?
Миссис Хейлин засмеялась и поцеловала его с нежным материнским пренебрежением.
— Милый мальчик! Ты иногда бываешь таким смешным, сам того не подозревая. Иногда я начинаю громко смеяться, когда вспоминаю некоторые из твоих удивительных изречений: они такие прелестные и наивные. А теперь беги-ка вниз и поговори с Жюли и Гвен, пока я тут займусь с папой. И не волнуйся, все наладится, вот увидишь.
Крису быстро дали понять, что ни Жюли, ни Гвен в данный момент в нем не нуждаются. Они приняли величаво-безразличный вид, притворились, будто до крайности поглощены своим занятием, подчеркнуто не вовлекали его в разговор, пускали в него стрелы серебристого смеха и вообще вели себя так, как обычно ведут себя самки, когда желают показать самцу, что он лишний и что самое лучшее, если он уберется прочь. Он охотно сделал бы это, но, так как единственным выходом было бы отправиться на кухню к кухарке, ему пришлось остаться. Закурив папиросу, он принялся беспокойно ходить взад и вперед, то посматривая с недоумением на горы цветной и белой материи, которые громоздились на столе или вздымались на спинках стульев, то прислушиваясь к их разговору.
— На вашем месте, дорогая, — кокетливо сказала Гвен, — я бы сшила по крайней мере полдюжины сплошь ажурных. Они удивительно изящны и эффектны.
— Да, конечно, — ответила Жюли. — Но знаете, мама думает, что они не совсем приличны!
— Как глупо!
Обе рассмеялись и переглянулись с лукавой скромностью, которая показалась Крису особенно раздражающей.
— Может быть, они и в самом деле казались чуточку фривольными в ее время, — рассудила Гвен. — Но я бы сказала, что теперь мужчине может скорее не понравиться что-нибудь старомодное, как по-вашему?
— Ну еще бы.
Жюли вздохнула, и на ее красивом лице мелькнуло озабоченное выражение, как будто она рассчитывала что-то.
— Если это случится так скоро, как мы надеемся, — сказала она, — я боюсь, что мы не успеем кончить все к сроку.
— Нужно будет пригласить эту белошвейку…
— Но мы не можем…
— Отлично можем. Позвольте мне заплатить ей. Пусть это будет мой подарок.
— Ах, Гвен, вы душечка! Чем мне отблагодарить вас! — Больше Крис не мог сдерживаться, его прорвало:
— О чем вы все время говорите? И к чему все это шитье? Мы что, собираемся открывать модную мастерскую?
— Я думаю, можно ему сказать? — спросила Гвен.
— Почему же нет? — сказала Жюли. — Какое это имеет значение?
— Это к свадьбе Жюли, — сообщила ему Гвен.
— К свадьбе! — Удивление Криса было очень забавно. — А с кем же свадьба? Неужели ты в конце концов решилась выйти за Ронни Комптона, Жюли?
— Конечно нет, — презрительно сказала Жюли. — Неужели ты воображаешь, что я могу выйти за зубного врача, Крис?
— Так за кого же?
— Скажите ему, — сказала Жюли.
— Если все сойдет благополучно, — снисходительно объяснила ему Гвен, — Жюли ровно через месяц станет леди Хартман.
— Не может быть! — недоверчиво воскликнул Крис.
— Почему же нет? — Жюли немедленно перешла в контратаку.
— Ты же знаешь, что представляет собой Джеральд Хартман, так неужели ты серьезно собираешься выйти замуж за такого человека?
— А почему же нет? — высокомерно повторила Жюли.
Крис почувствовал, что обе женщины готовы ринуться в бой. Он посмотрел сначала на одну, потом на другую и молча вышел из комнаты. У него было смутное ощущение, что, пожалуй, действительно, кухня — самое подходящее для него место в этом доме.
Произведения
Критика