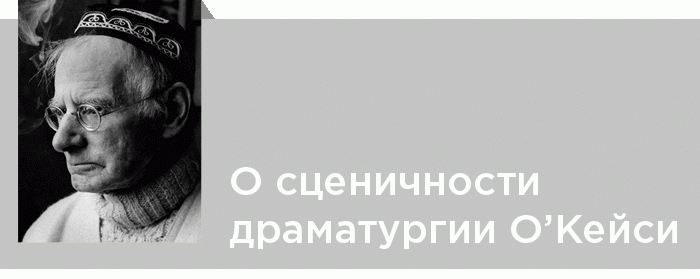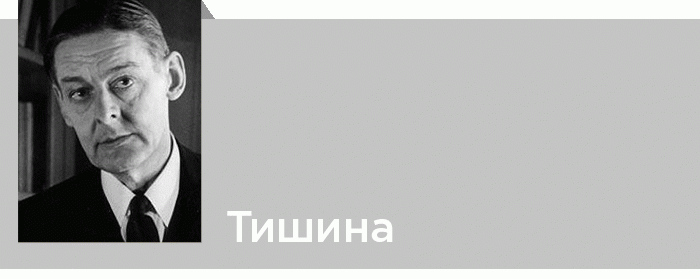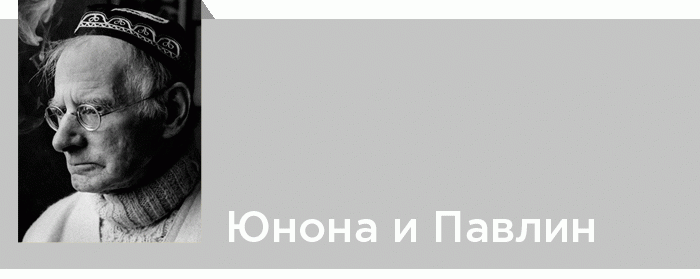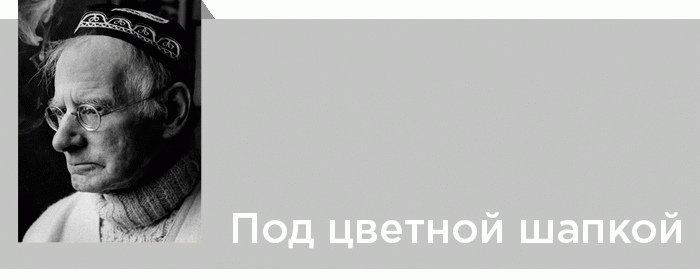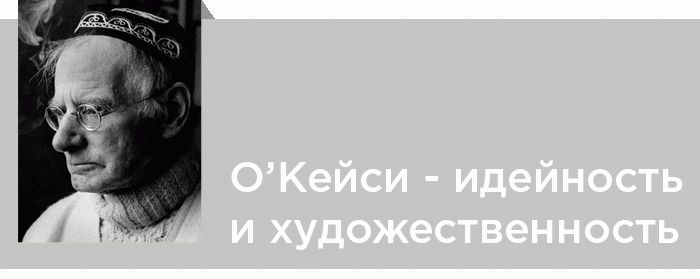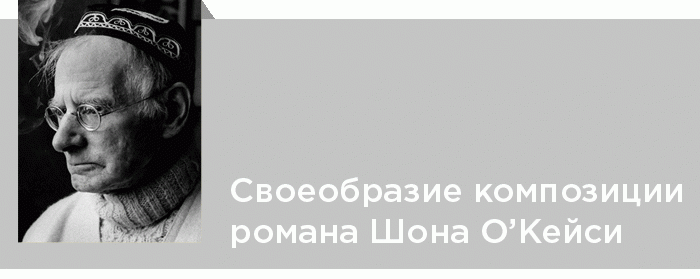Шон О’Кейси. Я стучусь в дверь

(Отрывок)
Стучите, и отворят вам
В Дублине, в начале восьмидесятых годов, в последний день месяца марта, женщина, корчась в родовых муках, стискивала зубы, упиралась ногами в кровать, обливалась потом, и задыхалась, и кряхтела, сжималась в судорожный ком страданий и потуг, и стонала, и выталкивала, стонала и выталкивала, и выталкивала младенца в мир, где белые лошади, и черные лошади, и рыжие лошади, и белые с черным, и рыжие с белым лошади — цок-цок-цок — цокая по булыжнику, горделиво мчали кареты, коляски и ландо, медленно тащили конки, покорно и понуро везли тяжелые подводы, полки и телеги и резво выплясывали впереди веселых и беззаботных шарабанов.
Где, словно заводные куклы, маршировали солдаты в красных мундирах с желтой грудью, в синих куртках с белой грудью и в плотно облегающих штанах с красными, белыми или желтыми лампасами вдоль всего шва и каждый год, в день рождения ее величества королевы Виктории, выступали к Феникс-парку на смотр и маневры, с ружьями и пиками, саблями и пушками; салютуя, проходили мимо помоста ускоренным шагом или же рысью и, наконец, галопом, в стуке копыт и грохоте подпрыгивающих пушек, и в сердцах солдат вспыхивала надежда на новую войну; а вернувшись в казармы по окончании празднества, они чистили взмыленных коней и протирали ружья, кляня про себя королевские дни рождения, из-за которых столько лишней грязи и хлопот.
Где великий поэт, по имени Теннисон, предвосхищая Голливуд, снимал на студии своей души «Мод, приди в росистый сад, день рассеял мрак ночной» и посылал своих картонных королей и воинов и неприступных дев по путям и перепутьям, туда, где раскинулись парки богачей, и мужчины низко кланялись рыцарям, во весь опор скачущим мимо оград; а девушки улыбались, и вздыхали, и манили рыцарей, гарцевавших среди розовых и мальвовых кустов, нацепив на острия своих копий восхитительные букетики из цветов розмарина и руты.
Где силы растрачивались на священные тексты, душеспасительные брошюры и псалмы; и на приторные сказочки, которые то возносили мальчиков и девочек до небес, то низвергали в ад; где небесное воинство во всеоружии выстраивалось для боя на крокетной площадке; и весь пыл, ужас, смех, слезы, вражда, мир, поражение, победа, муки и кровавый пот войны между небом и адом тонули в розовом, сиреневом и палевом пикнике для раздушенных, изящных и сладкоречивых гостей.
Где верили, что, когда дети умирают от крупа, от туберкулеза или лихорадки, они умирают не от болезни, а просто бог берет их к себе.
Где Рэскин с нежной душой и руками христианина-искусника лепил свои метафоры из глины и мишуры, а мистер Пойнтер, президент Королевской академии, призвав на помощь всю силу своего воображения и подведя итог всему, что было, есть и будет в искусстве, живописал тупик своего посещения эскулапа.
Где люди по воскресным дням уповали только на господа бога, а в будни возлагали все надежды на турнюры, теннис и тюрьмы; на файфоклоки, фениев и фисгармонию; на пюзеизм, парфюмерию и пресуществление; на мелодрамы, медали и моды; на варьете, вакцины и волшебный фонарь; на апокалипсис, акушерок и аграрные беспорядки; на соски, салфеточки и соревнования певцов; на кокетство, кружева и калейдоскопы; на мессу, мошну и на монархию.
Где в каждом богоспасаемом доме, за каждым кустом, по милости Дарвина, пряталась обезьяна; обезьяна, которая внезапно высовывала лапу и вцеплялась в кружевной подол благоухающего платья, как только какая-нибудь леди наклонялась, чтобы сорвать веточку лаванды, и бедные леди, обезумев от страха, бежали в церковь и били, и били в набат, а духовные особы опрометью кидались к своим кафедрам и вопили — тише, успокойтесь, ибо нет ничего явного, чего нельзя было бы снова сделать тайным; и королева, принц-консорт, пэры, духовенство, члены палаты общин и народ глубоко зарыли в землю эту обезьяну, кость от кости и плоть от плоти нашей, которая на тысячи и тысячи веков удаляла их и им подобных от бога, отнимая блаженное чувство близости к творцу вселенной, служившее и протестанту и католику отмычкой к вратам царства небесного.
А женщина, корчась в родовых муках, стискивала зубы, упиралась ногами в кровать, обливалась потом и задыхалась, сжималась в судорожный ком страданий и потуг, и стонала, и выталкивала, и выталкивала плод, пока младенец мужского пола не вышел из ее утробы в мир; в мир, исполненный надежд, желаний, честолюбия и невежества других его обитателей, готовых затереть пришельца, оттеснить, уничтожить его, по привилегии, дарованной им богом только потому, что они пришли в этот мир немногим раньше. Все привилегии ополчились против него, но пузатый, худосочный, головастый новорожденный забарахтался среди чужих желаний, домогательств и надежд, расчистил себе местечко, отбиваясь от топчущих ног и хватающих рук, спал, пуская слюни, и сосал грудь, прибавлял по три, четыре, а то и пять унций в неделю, набирая их у своей матери и немного у окружающей жизни; и потихоньку, мало-помалу подрастал, проникаясь человеческой силой, невежеством и честолюбием.
Сорок лет было женщине, когда мальчику шел четвертый: гладкие волосы, все еще черные, как вороново крыло, разделенные прямым ровным пробором, собранные на затылке в скромный узел и заколотые двумя-тремя шпильками; небольшой нос с широкими ноздрями; глубоко посаженные лучистые карие глаза, которые искрились, когда она смеялась, и горели суровым и скорбным огнем в часы тяжкого, безутешного горя; глаза, которые, если приглядеться, казалось, таили отблеск заветных Мечтаний, заслоненных более насущными заботами о муже, детях и доме. Но заметнее всего на ее лице был рот, потому что он выражал все стороны души этой женщины: бесстрашие, упорство, стойкость, простодушную веселость, доброту и чистосердечие. Маленькие сильные руки, которые умели и бережно промыть воспаленную рану и до блеска выскрести пол — сначала мокрой тряпкой, потом, отдирая грязь, намыленной щеткой, потом опять мокрой тряпкой и, наконец, сухой, водя ею взад и вперед ловкими круговыми движениями. Легкая, уверенная походка, несмотря на первые признаки полноты; свободное простенькое платье из черной шерсти, с узкой белой рюшью вокруг красивой и все еще гладкой шеи. Смех, который начинался звонкой трелью и завершался полнозвучным каскадом мелодичного хохота, такого заразительного, что его тотчас подхватывали все.
И все это запало мальчику в душу, но понято было не в ту пору, а много лет спустя, когда упругая сила и обаяние молодости покинули ее и она двигалась уже не так свободно и легко, но все еще проворно и неутомимо, верная памяти тех, для кого свет мира сего погас и кто дальше и дальше уходил от нее в мрак минувшего; и все это снова ожило в его душе — ярко и с щемящей тоской, — когда она спокойно прислушивалась к последним слабым ударам своего собственного умирающего сердца.
Он был последыш, и она знала, что больше у нее детей не будет. Она родила семерых до него; три мальчика и одна девочка были живы, одна девочка и два мальчика умерли. Оба эти мальчика были Джоны, и муж ее решил, что и этого, последнего мальчика они назовут Джоном. Она долго колебалась. Ей казалось дерзостью, вызовом богу назвать новорожденного Джоном. Больше у нее детей наверняка не будет, и она хотела, чтобы этот ребенок, последний, остался жив. Оба младенца, рожденные ею и названные Джонни, умерли, умерли от одной и той же болезни, умерли от крупа.
Она помнила, как умер первый, умер раньше, чем она поняла, что он умирает, умер от крупа. Спустя два года родился еще мальчик, и они назвали его Джоном. Ее муж сказал, что у них непременно должен быть мальчик по имени Джон. И они назвали его Джоном, муж — с ожесточенным упрямством, она — с тревогой и страхом. Это был крепкий ребенок, — целый год, барахтаясь и брыкаясь, он прокладывал себе дорогу в мир; но вдруг его стало лихорадить, появился кашель, заслезились глаза. И однажды вечером, когда она подходила к его кроватке, она остановилась в испуге, услышав сухой, лающий кашель. Она чуть было не выбежала из комнаты, лишь бы не слышать, потом медленно подошла к кроватке и увидела, что он мечется, стараясь сбросить с себя одеяло, руки судорожно дергаются, глаза вытаращены, лицо посинело, а дыхание вырывается частыми, сдавленными хрипами. Она помнила, как в смертельном страхе схватила шляпу, накинула на плечи шаль, завернула маленькое тельце в одеяло, выбежала на улицу, вскочила в проезжавший мимо кэб, умоляя кучера ради бога ехать скорей, скорей, скорей в Аберкорнскую больницу.
Бог может спасти его, если захочет, — шептала она всю дорогу до больницы. — Может спасти. Тот мальчик умер, но этот не умрет, нет, нет, нет, нет. Одним помыслом господь может вынуть из груди ребенка комок, который душит его, и он опять будет дышать легко и ровно.
А ребенку все трудней становилось дышать, и мучительный хрип задыхающегося ребенка причинял ей нестерпимую боль. Она взбежала по ступенькам крыльца и дергала, дергала, дергала колокольчик, потом бросилась в вестибюль мимо открывшего ей дверь швейцара.
Доктора, — сказала она, еле переводя дух, — позовите доктора, поскорей, пусть посмотрит моего ребенка, пусть поможет моему ребенку, пожалуйста, поскорей, он умирает, но его можно спасти, если доктор придет поскорей, проводите меня поскорей к нему или пусть он поскорей придет сюда, нельзя терять ни минуты, у ребенка круп, и он умирает, он сейчас умрет, если не придет доктор, ступайте позовите его, ступайте, ступайте позовите его поскорей.
И она ходила взад и вперед, взад и вперед по коридору и ждала, ждала, когда швейцар приведет доктора, не решаясь взглянуть на посиневшее личико, прикрытое шалью, стараясь не слышать хриплый, лающий кашель, от которого сотрясалось, маленькое существо, лежавшее у нее на руках.
Швейцар вернулся и сказал, что доктор занят с больным и придет, как только освободится.
Мой ребенок не может ждать, — гневно сказал она, — ему сейчас же надо помочь, пусть тот больной подождет, а мой ребенок задыхается и вот-вот умрет, слышите? Где доктор, я сама пройду к нему с ребенком.
Она подбежала к проходившей мимо сестре, прижала одной рукой ребенка к груди, а другой крепко схватила сестру за локоть.
— Доктора, ребенку нужен доктор; сестра, а то поздно будет, — просительно сказала она, — ребенок умирает от крупа. Видите, лицо посинело, он задыхается; сестра, пожалуйста, поскорей, он уже еле дышит, и если с ним что случится, больница отвечать будет; я давно, очень давно дожидаюсь, ребенок задыхается, а никому и дела нет; у него круп, и я боюсь, что он сейчас умрет.
Сестра бережно подвела ее к скамье, стоявшей у стены, и бережно усадила.
Сядьте вот тут, сядьте,— сказала сестра ласково,— а я сейчас позову доктора.
Она крикнула вслед уходившей сестре: — Скорей, скорей, а то и этот мой Джонни умрет от крупа.
И она опять молила бога, чтобы он поторопил доктора и чтобы ребенок не умер у нее на руках.
Вдруг она затаила дыхание, услышав странный, скребущий вздох, и сердце ее дрогнуло, оттого что маленькое тельце в ее руках судорожно вытянулось; тогда она поняла, что горе, которое она хотела, отвратить, постигло ее, и она прижала к груди свое сокровище, из которого ушла жизнь. Она с минуту сидела молча, не двигаясь, потом положила мертвого ребенка на скамью и взглянула в неподвижное багровое личико; закрыла остановившиеся глаза, положила по медяку на веки и привязала их носовым платком.
Немного спустя в коридоре показался доктор, а за ним шла сестра, и она крикнула им: — Вы не спешили, и бог опередил вас и взял ребенка.
Доктор подошел к ней, положил руку на сердце ребенка и сказал: — Да, он умер; но все наше искусство не спасло бы его.
И она ответила ему с горечью: — Никто из вас и пальцем не шевельнул.
Она взяла мертвого ребенка на руки и сказала, обращаясь к доктору и сестре: — Теперь откройте мне дверь, и я уйду от вас с миром.
Доктор взял ее за плечо и сказал: — Не полагается так нести домой мертвого ребенка; оставьте его пока в мертвецкой.
Она вспылила и ответила: — Я понесу его домой, и в гробик уложу дома, и на кладбище повезу из дома, где он прожил свою коротенькую жизнь, и пусть кто-нибудь попробует остановить меня.
Перед нею открыли двери, и когда она переступала порог, сестра шепнула: — У вас есть деньги на извозчика? — Но она вышла, даже не ответив сестре.
Она подозвала один из кэбов, выстроившихся на другой стороне улицы; когда кэб подъехал, она осторожно вошла, села на заднее сиденье, прижимая к себе тело ребенка, потом уложила его на сиденье напротив, выпрямила маленькиё ножки и вытянула ручки вдоль тела, а не скрестила их на груди, как принято у католиков. Она любовно придерживала рукой тело ребенка, потому что мостовая была тряская и от толчков оно съезжало с сиденья. Она не плакала, только крепко сжимала губы и приглаживала светлые кудряшки, чтобы они не падали на мертвенно' холодный лоб. Вот и еще один горестный привал в ее жизни и жизни мужа. Все будничные заботы и дела остановятся, пока это не будет пережито. Если бы она приехала в карете, в ландо или фаэтоне, вся больница с ног бы сбилась, чтобы помочь ей. Даже хлеб будет горек ей и ее мужу, пока тело ребенка не будет предано земле и они не почувствуют, что душа их маленького сына приютилась у бога.
Терзаясь тоской и горем, она старалась припомнить какие-нибудь слова из Писания, которые успокоили бы и утешили ее. На ум ей приходила только женщина-вдова, и сын ее, и пророк Илья. Но не было пророка Ильи, который взял бы сына с рук ее и, простершись над отроком, трижды воззвал к господу и возвратил ему душу живую, — был только доктор, не пожелавший прийти вовремя, и мертвецкая.
А какой понятливый был мальчуган! Все в один голос говорили, что это редкость — годовалый ребенок и такой смышленый. Глазки умные, видно было, что все понимает. И такой быстрый, подвижный. А теперь лежит и не шелохнется. В глубине души она радовалась, что ребенок крещеный, хотя католическое учение о первородном грехе казалось ей смешным и нелепым. Нужно же придумать, что такой малютка попадет в ад или в преддверие ада, или как это там называется, только потому, что его не попрыскали водой. Ужасная религия, если она заставляет верить в такие глупости!
До её слуха, не проникая в сознание, донеслись звуки оркестра, разноголосый гул и мерный топот множества ног. Кэб остановился. Звуки оркестра стали громче, а шум голосов и топот ног приблизились. Кучер слез с козел и подошел к окошку кэба.
Уж и не знаю, — сказал он, — кругом объезжать или здесь дожидаться, а только в такой толчее не то что лошади, и мухе не пролезть. Провожают Чарли-Стюарта Парнелла в Ротонду с музыкой и флагами, он будет там речь говорить в защиту гомруля. А музыка-то наяривает «Зеленое знамя»! Лучшие барабанщики во всей Ирландии. Иисусе Христе, поглядите вон на того, ишь палочками крутит! Ну и мастак!
Она услышала нарастающий гром приветствий, несколько минут воздух дрожал от криков, а кучер размахивал шляпой и тоже восторженно кричал ура.
Это прошел сам Парнелл, — объяснил он, когда крики утихли. — Величайший из сынов Ирландии. Скажи он хоть одно словечко, и я бы все отдал: и шляпу свою, и кэб с конягой, и себя самого в придачу. Души бы и той не пожалел, ей-богу. Уж он покажет ее величеству, королеве Виктории, что к чему. Завертится она небось на своем троне.
Она забилась в угол кэба и смотрела на своего мертвого ребенка, который неподвижно лежал на залитом пивом и усеянном табачными крошками сиденье. Она ждала, ни о чем не думая, когда пройдет колонна демонстрантов и можно будет доехать до дому и разделить свое горе с мужем.
Солдаты сидят по казармам, — продолжал кучер, — и хорошо делают, разбойники, что не мозолят нам глаза своими красными мундирами и кокардами с короной и розами. Парнелл поубавил англичанам власти, имя его славится по всей Ирландии, и не умолкают молитвы о том, чтобы господь бог послал ему побольше силы.
Я не против Англии, — сказала она, — я верна королеве и трону. — А какую награду я получила за это, подумала она, какую награду? Боже всемогущий, отец наш небесный, незачем было отнимать у меня сына.
Она всегда была хорошей женщиной, исполняла свои повседневные обязанности безропотно, лишь изредка разрешая себе побрюзжать; она чтила бога в духе и в истине и крепко держалась веры, некогда возвещенной святым апостолам; ее муж хорошо знал Священное писание, букву его и дух его, и всегда спорил и доказывал, что учение папистов пагубно и, противно истинному слову Писания; что каждый грешник может прямо прийти к богу, минуя святых и ангелов, ибо между человеком И богом есть только один посредник — сын человеческий, Иисус Христос. Правду сказать, на этот раз господь мог бы и не испытывать того, кого возлюбил, и не губить ее невинного, безгрешного младенца.
А уж захотел отнять у нее мальчика, так взял бы его из дому, от отца с матерью; или из больницы, но чтобы доктор старался спасти его, а сестра видел бы, что все его усилия напрасны; это все-таки было бы легче, чем чувствовать, как ребенок корчится у тебя на руках и умирает, а кругом никого из близких — ни друга, ни родни, кто пожалел бы и утешил.
Ну вот, — сказал кучер, — прошли, теперь и мы потихоньку за ними поплетемся.
Он вскочил на козлы, крикнул «но-о!» и медленно поехал за демонстрантами, останавливая лошадь каждый раз, когда что-нибудь задерживало толпу, шагавшую гордо и воинственно, а в самой гуще ее шел вождь, в котором она видела живое воплощение духа своего и помыслов своих. Тихо плелся кэб за сотнями зажженных факелов, бросавших багровый свет на взволнованные лица, и над толпой пламенел огромный дымно-золотистый круг. Тихо плелся кэб за развевающимися желто-зелеными флагами; за оркестром, который играл столь оглушительно и рьяно, что многим в звуках марша чудился трубный глас, сзывающий всех на Страшный суд.
Наконец кэб свернул в переулок, проехал еще несколько улиц и остановился у дверей ее дома. Она вышла из кэба, нагнулась, взяла на руки маленькое неподвижное тело, завернутое в шаль, и спросила кучера, сколько с нее. — Полтора шиллинга, — сказал он и добавил: — Желаю ребеночку поскорей поправиться, мэм. — Потом, увидев личико, мелькнувшее в складках шали, он вскрикнул: — Господи помилуй, ребенок-то кончился!
Он молча взял шиллинг и шесть пенсов, приподнял шляпу, влез на козлы, разобрал вожжи и быстро покатил прочь.
Она внесла ребенка в дом, положила его на кровать, потом пошла звать мужа. Он взглянул на нее и сказал шепотом: — Ему хуже? — Они вместе вошли в комнату, она сняла платок, которым было повязано лицо ребенка, и оба они долго и молча смотрели на застывшее детское личико.
Как он вытянулся, — сказала она.
Когда это случилось? — спросил он.
— В больнице, у меня на руках, и никто даже не взглянул на, него, — ответила она.
Она почувствовала его руку, с нежностью обнявшую ее за плечи.
Сью, — сказал он, — бедная моя, милая Сью.
Она задрожала и срывающимся голосом проговорила: — Вот и второй Джонни взят у нас. Должно быть, нехорошо мы сделали, что назвали его Джоном, после того как первый умер.
Рука, обнимавшая ее, крепче сжала ей плечи. Она взглянула на мужа и прочла на его лице выражение непоколебимой решимости.
Сью, — ответил он, — у нас, может быть, родится еще ребенок, и, может быть, это будет мальчик. Если. У нас родится еще ребенок и ребенок этот будет мальчик, мы назовем его Джоном.
СНАЧАЛА — ЗЕЛЕНЫЙ РОСТОК
Третий Джонни, преодолев упрямую настойчивость отца и суеверную тревогу матери, продвинулся чуть дальше по жизненному пути. Слабенький, еще не окрепший, он понемногу врастал в жизнь. — Сердце у него храброе, — говорила его мать, — всего труднее первые пять лет, и если он их переживет, слава господу богу. — Она следила за мальчиком с неослабной заботой. Ей нужно было думать и о других, но она никогда не забывала про Джонни, и редкие часы досуга, которые она урывала от хозяйства, были заполнены мыслями о том, как лучше и вернее поставить Джонни на ноги. Когда ему было всего шесть месяцев отроду, она, стиснув зубы, выхаживала его во время бронхита, но кашель прошел, и мальчик снова играл и смеялся, как другие дети; а где жизнь, там и надежда, слава господу богу. Остальные ворчали, что только и слышно — Джонни да Джонни, но мать отвечала им, что они уже подросли и оперились, а Джонни совсем еще птенчик. Но бог не забыл о нем и наконец поедал ему испытание.
Когда Джонни исполнилось пять лет, мать заметила страдальческое выражение в его глазах. Жгучая, мучительная боль заставляла его сильно тереть их, долго и недоуменно плакать в солнечные часы дня и в долгие темные часы ночи. На глазных яблоках у него появились маленькие, твердые и блестящие зернышки, похожие на жемчуг. Он начал прятаться от света, постоянно жмурился, болезненно стонал, забившись куда-нибудь в самый темный угол. На много недель жизнь стала для него беспросветным мраком, прорезанным частыми вспышками боли. Из большого белого платка, сложенного в несколько раз, ему сделали повязку, обмотали ее вокруг головы, как тюрбан, чтобы уберечь его глаза от солнца, тускло глядевшего в окна маленького домика.
Джонни не сознавал опасности, у него не было ни страха перед слепотой, ни мысли, что для него это начало многолетних мучений, упорное и неодолимое препятствие, которое останется на всю жизнь. Ему было только обидно, что он не такой, как его сверстники, не такой, каким он сам был до этого, что он не может бегать, кричать и радоваться, когда светит солнце; не может, засыпая от усталости, ложиться в постель, когда зайдет солнце, и набираться сил для новой беготни, и смеха, и радости, когда солнце опять позовет всех веселиться и играть. В те времена о глазных болезнях задумывались мало, не больше чем о других немощах, если эти немощи не приковывали человека к постели. На пенни желтой мази, цинковой мази, цинковых капель с розовой водой — вот и все, чем лечили глаза, если не считать тех случаев, когда больной глаз приходилось удалять.
Только такие бичи человечества, как оспа, тиф, дифтерит и скарлатина, заставляли докторов мчаться сломя голову, не причесавшись и без пиджака, трубить и трубить тревогу, чтобы люди накрепко запирались в домах, закрывали все окна и жгли серу, и тогда по всем комнатам плыли клубы серного дыма, словно фимиам над жертвенником в преисподней.
То было время, когда каждого ребенка раз в неделю непременно пичкали касторкой и отваром морского лука, сначала докрасна растерев ему поясницу чем-то колючим, как стальные опилки. Время, когда лишь немногие смельчаки, отринув грязь невежества, уходили куда-то и в самых заброшенных уголках земли пытались разгадать тайну жизни, болезни и смерти, не ища забвенья вместе с толпой, которая легко и приятно, гарцуя и пританцовывая, шествовала по жизненному пути под эгидой треуголок, красных мантий и черных мантий, твердивших о законах человеческих, и белоснежных стихарей, твердивших о законах божеских, и благоухающих шелковых юбок, твердивших о законах любви.
А Джонни видел все хуже и хуже, и боль в глазах становилась все сильней. Мать три раза в день промывала ему глаза тряпочкой из рюмки с цинковым раствором и розовой водой, а на ночь густо смазывала ему веки желтой мазью; но не было исцеления его недугу, и боль его не ослабевала. Братья и сестры, раздраженные его плачем, говорили матери, что от слез ему будет только хуже, и дразнили мальчика тем, что глаза у него становятся похожи на две дырки, прожженные в одеяле. По совету одной доброжелательной соседки, мать делала ему припарки из спитого чая; этим средством соседка вылечила когда-то своего ребенка; но не было исцеления его недугу, и боль его не ослабевала.
Потом один приятель его братьев сказал, что надо окунать, мальчика головой в холодную воду несколько раз в день, чтобы он под водой держал глаза открытыми минут по пяти, и от этого самые слабые глаза окрепнут. Джонни схватили и, как он ни вопил и ни отбивался, сунули его головой в ведро с ледяной водою; засовывали все глубже и глубже, пока вода не покрыла глаза, и сердито кричали: — Открой глаза! Да открой же глаза, черт тебя возьми! Неужели ты не можешь открыть глаза, чтобы вода попала в них? — Он вырывался, перепуганный и озябший, а его толкали все глубже, вода затекла ему в ноздри и, булькая, полилась в горло; чуть не захлебнувшись, он вырвался, наконец, весь мокрый и дрожащий, а его упрекали и бранили за то, что он зажмурил глаза под водой; и все разуверились в этом способе лечения, сказав, что это пустая трата времени, раз мальчишку не заставишь открыть глаза, нестоящее дело, раз он жмурит глаза под водой; сам теперь будет виноват, если ослепнет; а Джонни, заупрямившись, не двигался с места, низко опустив голову на грудь, испуганный и потрясенный, и вода с намокших волос стекала струйками на спину и на живот, а он все кричал:— Где моя повязка, где моя повязка, завяжите мне глаза, мне очень больно! — И недугу его не было исцеления, и боль его не ослабевала.
Тогда все отступились от него, говоря: — Ну и пусть его болеет, раз он не соглашается на то единственное, что могло бы помочь, не стоит его жалеть, мало мы с ним возились, что ли. — Одна только мать терзалась заботой, как бы помочь ему; только она одна с глубокой жалостью и неистощимым терпением стояли между ним и грозящей ему слепотой, которая сделала бы беззащитным перед людьми и не снискала бы ему милости у бога; только она одна неустанно била тревогу, твердя об опасности всем, с кем встречалась, и неустанно искала помощи; чтобы спасти его от вечного мрака.
Однажды она вспомнила, что сестра говорила ей о каком-то ребенке, у которого болели глаза, что его куда-то возили лечить и что он выздоровел. Она сейчас же отправилась к сестре, взяв с собой Джонни; треть пути они проехали на конке, остальное прошли пешком до белого низенького домика, стоявшего на окраине города, за Долфинс-Барном на Тентерс-филдс, где раньше белили полотно. Там их напоили вкусным чаем с разогретыми в печи домашними булочками, которые так и таяли во рту, разжевать не успеешь.
— Тут нужен доктор, — сказала тетка. — Свези-ка ты его в больницу святого Марка по глазным и ушным болезням, что на Линкольн-плейс, рядом с Тринити-колледжем. Все, кроме неимущих, платят за месячный билет полшиллинга, прием три раза в неделю. Поезжай в понедельник, среду или пятницу, тогда ты непременно попадешь к доктору Стори; это такой человек, каких на свете нет, он с глазами прямо чудеса творит. Если хочешь поскорей отделаться, лучше поезжай пораньше, к девяти: народу там с каждым днем становится больше и больше и всех пускают по очереди; бывает, что доктора очень долго возятся с больным, особенно если это что-нибудь с ушами; и самое лучшее, если ты сведешь туда Джонни; его посмотрят и скажут, можно ли его вылечить.
Мать Джонни встала, поблагодарила сестру и сказала, что ей пора домой, а Джонни она повезет в больницу в понедельник, пораньше утром. Тетка поцеловала Джонни, потихоньку сунула ему в карман новенький пенни и сказала, что бог милостив, он не допустит, чтобы Джонни ослеп.
Он простились и через Либертиз вышли на угол Мит-стрит и Томас-стрит. Здесь Джонни с матерью сели на конку и покатили по улице до вершины Корк-хилла: там была толпа, и конка остановилась.
- Это все бал, — сказал кондуктор, — бал у вице-короля, все дублинские зеваки сошлись поглядеть, как знатные господа едут пировать и веселиться в Дублинский замок. Теперь мы сто лет простоим, — сказала женщина в углу.
А почему бы и нам не полюбоваться на величие, которым держится страна, пока мистер Парнелл со своими голодранцами не вернул нас в первобытное состояние, — сказал прилично одетый господин, слюнявый и вислоусый, вставая со своего места в середине вагона и осторожно сходя на мостовую.
— Скоро придет времечко, — сказал кондуктор, — когда этот господин запоет другую песню; а не запоет, так вздернем его повыше, как Гилдероя, — и, прислонившись к дверям конки, он стал напевать:
Твоя душа, клан Оливер, мрачна, черна, как прах!
Со смертью Сарсфильда ты стал спесив, клан Сассенах!
Мы знаем; дружелюбья к нам чужды вы с давних пор,
Но берегитесь — как и встарь, ирландский меч остер.
Мать Джонни встала, сошла с конки и сняла Джонни.
Протестантским мальчикам не годится слушать фениев, — сказала она. — Если ты услышишь еще раз эту песню, шепчи про себя: «Боже, храни королеву».
Они попали в толпу и не могли выбраться, их донесло почти до самых ворот замка, и там они повстречали Эллу и Арчи, которые любовались на знатных господ, съезжавшихся на пышный ужин и веселый бал.
Стань здесь, впереди меня, — сказала Элла, подталкивая Джонни, — только стой смирно и не вертись, сейчас мы посмотрим на нарядных леди и лордов, которые едут в замок.
В понедельник утром я повезу Джонни в такую больницу, где лечат глаза и уши, — сказала мать, обращаясь к Арчи.
Куда-нибудь да надо его повезти, — сказал Арчи, — он и днем плачет и ночью плачет, сил нет никаких терпеть.
Когда я сюда шла, — сказала Элла, — кареты стояли по всей улице от ворот замка и дальше, по Дэйм-стрит, по Уэстморленд-стрит, и заворачивали на Сэквилл-стрит до самого Кавендиш-роу. Поглядите-ка, вон старый хрыч в ярко-синем мундире с золотым шитьем на груди, а с ним какая-то девчонка, чуть не на колени к нему уселась, вон в той коляске, только что проехали.
В объятьях юности бесчувственный старик, — пробормотал Арчи.
В понедельник разбужу Джонни пораньше, — сказала мать, — и повезу его в больницу, будь что будет.
У старика алмазная звезда на синей ленте, — говорила Элла, — а кругом много-много золотого шитья. Орден Подвязки, что ли?
Не Подвязки, — сказал Арчи. — Подвязку мало кому дают, кроме принцев королевской крови. Кавалеры ордена носят мантию пурпурного бархата, подбитую шелком. А ты, должно быть, видела орден святого Патрика, он на синей ленте с девизом, только не смыслят они ничего — по-настоящему надо бы зеленую ленту.
Жалко, я раньше не знала про эту больницу, — сказала мать, — если б начали лечить Джонни вовремя, не было бы у него таких ужасных болей.
Поглядите-ка на этих ребят, — крикнула Элла, — все босиком, чуть не голые. Такое торжество, — что только смотрят матери, как им не стыдно!
А людям заработок, — одобрительно сказал Арчи. — Даже фотографы попользуются: всякому лестно сняться после бала, после танцев, в свете утренней зари. Под старость каждому захочется поглядеть, каков он был во всей красе.
Полшиллинга в месяц, прием три раза в неделю — это совсем недорого, если они хоть чем-нибудь помогут Джонни, — прошептала мать.
На герцогинях-то какие платья, сотни фунтов стоят, — сказала Элла.
А если мы получим гомруль, прощай царство, и сила, и слава, — прибавил Арчи.
Ну что ж, в понедельник увидим, помогут ли они Джонни, — сказала мать, ласково кладя руку ему на голову.
Вон сколько их едет, — оживленно воскликнула Элла, — вон какое их множество, едут, едут, мчатся, мчатся, по полям, по лугам, по улицам, на Бал в Замке
Насколько можно было охватить дублинские улицы глазом или мыслью, это был сплошной поток кэбов, ландо, купе, карет и колясок, стремящихся к воротам Замка, и каждый экипаж был отягощен драгоценными телами и душами графов, баронов, епископов, посланников, судей, членов Тайного совета, знатных и полузнатных, архидьяконов, духовных пастырей, лордов и леди,
матросы в синем и белом с золотом,
солдаты в черном и алом с золотом,
суровые, под мухой, в кепи, киверах,
касках и медвежьих шапках,
с султанами и плюмажами, остриями и перьями.
Ни пылинки земного праха на лице и одежде,
все остальные в треуголках, чулках и при шпагах,
весело шли на поклон к своему господину,
с дамами в шелках и с дамами в атласах,
в поплине я блестящей парче,
в богатых кружевах из города Валансьена.
Гордясь тем, что род их живет столько веков,
они входили в замок или прогуливались,
беседуя о том, о сем, о прошлом и настоящем,
а солдаты отдавали им честь и тянулись перед ними,
тянулись изо всех сил,
проклиная всю свору неподвижными губами,
проклиная суматоху, из-за которой
им приходится стоять навытяжку,
а грузные полицейские в темно-синем, сверкая серебром,
в блестящих кожаных поясах, туго стянутых на животе,
расхаживали туда и сюда, пыхтя и обливаясь потом,
оттесняя взбудораженных представителей рода человеческого,
сортировали и провожали драгоценный сброд через двор,
сдавая их на руки видным и дальновидным лакеям,
разряженным в бархат, желтый, красный и сизый,
в ливреях вишневого атласа,
толстые икры туго облиты белейшим шелком,
а головы в париках, в облаках пудры и в лентах,
с поклонами подталкивали они пестрое стадо к пастырю,
человеку, сотворенному богом наспех, усталому,
желавшему покончить со всем этим и отделаться поскорее,
возведенному в сан и облеченному властью,
скрывающему безобразную фигуру
под отличным костюмом черного бархата,
он был в чулках, с радугой лент на белоснежной рубашке,
и шпага с алмазами на эфесе
безжизненно висела у него на боку,
бледный от гордости и важности,
он показывал примерные па вступления на парад,
ковыляя впереди с красивым жезлом в руке,
словно посланник божий, он возвращался и снова шел вперед,
кивая, жестикулируя, делая знаки
(а кто-то пел за углом),
«Сыны Тирконнела, вы доблести полны,
Пусть лживый сакс трепещет, мы будем отмщены,
О’Доннелы, вперед, за честь своей страны»,
а он то уходил вперед, то возвращался и звал за собою
посланников, несущих добрую весть из далекой страны,
гордых баронов, благочестивый епископов,
а за ними длинную вереницу архидьяконов
и соборных настоятелей
со всякими титулованными,
в волнении шествующими голова в голову, с судьями,
между рядами парадных солдат
и матросов в параде,
с супругами в поплинах, атласах и шелках,
во всеоружии вееров и оборок,
за высоким жезлом в руке фигурки,
наряженной в богатый костюм из лучшего черного бархата,
твердыми стопами
по пышному ковру малинового цвета,
вперед, о Мармион, вперед и вверх,
по лестнице, вперед, вперед, до тронной залы,
где человек в костюме лучшего черного бархата
провозглашает первые имена страны
и мужчины в низком поклоне перегибаются пополам,
а веера и оборки сгибаются в талии; сгибая колено
и пятясь назад, опускаются как можно ниже в глубочайшем реверансе
в честь королевского сана, олицетворенного вице-королем,
который стоит на троне, улыбаясь и хмурясь,
изнеженные душонки вееров и оборок дрожат от страха,
как бы не сделать промаха, не ударить лицом в грязь
но дать понять, что они
всё знают и умеют отлично держаться здесь,
перед этой петушиной ногой в синей подвязке,
чей короткий кивок поглотил все поклоны и приседанья.
Твердо заучив наизусть, что благословен
не дающий, а берущий,
мудрые посланники и праведные епископы
вместе с высокознатными баронами
и высокочестными судьями,
в сопровождении прочей крупной и мелкой знати,
присоединившись к блестящим чинам армии и флота,
спешили дальше, спешили мимо, спешили в бальный зал,
где шелка и атласы веяли веерами и вуалями,
в бальном зале с пальмами, канделябрами, чиппенделями,
где пары уже скользили по паркету в головокружительной пляске
Мы живем с женой вдвоем,
Неказист наш ветхий дом,
Ножки взлетают из-под летящих оборок, и турнюры
подскакивают на пышных задах,
Джин — жене, а мне так ром,
И не надо нам хором,
в то время как высокопреподобия, просто преподобия и прочие тому подобия угрюмо слоняются среди чиппенделей, глухие к подмывающей музыке красномундирного, золото-галунного, туго обтянутого лосинами военного оркестра, увеселяющего публику,
Ха, ха, ха, да ты да я,
стаканчик, радость ты моя,
а гости, известные своей ученостью и благочестием, чинно беседуя, прогуливаются по берегам реки веселья, богато украшенным шератонами и чиппенделями, стараясь держаться подальше от искушения, а баронеты глазеют, и судьи поглядывают, а у матросов и солдат разгораются глаза при виде голых плеч и нежных белых грудей, обнажающихся все больше и больше при каждом движении кокетливого корсажа у знатных красоток, рдеющих от удовольствия и стыда показывать кавалерам свои прелести, чтобы помнили и после того, как кончится веселье,
Хорошо бы позабавиться с девицей,
с миленькой девицей;
в темной комнате, где жарко, как в теплице,
от одежды так легко освободиться...
Ха, ха, ха, да ты да я,
стаканчик, радость ты моя.
На диване хорошо расположиться,
у Венеры разным штучкам поучиться,
будем мы вдвоем без устали резвиться,
можно так и кой-чего добиться...
Эх, да как приятно позабавиться с девицей,
ножки взлетают из-под летящих оборок, пока духовные пастыри и учители тоскливо слоняются под пальмами, склоняясь в мыслях к проверенной истине, что единственным способом удержать своих прихожан на расстоянии от преисподней было бы приложить им раскаленную докрасна кочергу к заднице, а на улицах под Млечным Путем и Плеядами ландо, купе, виктории, кареты, коляски и кэбы въезжают через ворота Замка во двор, вымощенный, подобно дороге в ад, добрыми и злыми намерениями, охраняемый конницей, пехотой и артиллерией, оплот верного Англии гарнизона, в окружении святых и ученых и чудесных круглых башен с милым, таким зеленым трилистником и лежащим волкодавом, арфой без короны и лучами ирландского солнца, — кстати сказать, ей-богу, в хорошеньком положении страна между ними, — а в это время грузные полисмены в темно-синем с серебром, в кожаных поясах, туго стянутых на животе, расхаживают взад и вперед, потея и пыхтя, провожая и сортируя пышный цвет ирландского общества по узкой красной дорожке, которая ведет их в объятия человека в пышном костюме из лучшего черного бархата, и он подводит их к трону и к тому, кто сидит на троне из ясписа и сердолика, имея радугу подножием, подобную алым рубинам, белым жемчугам и синим сапфирам, и от многих старейшин с венцами на головах, восседающих вокруг трона, исходит глас, подобный грому, воспевающий: «Много дубовых у нас кораблей, дубовые головы у наших людей, держись, ребята, держись и до конца крепись, победа за тем, кто смелей, кто смелей». Солдаты отдавали честь и тянулись перед ними, тянулись изо всех сил, проклиная неподвижными губами восхитительную суету, держащую их в строю, навытяжку, пока не забрезжит день и не рассеются тени, а теперь нам пора, последний кэб уже въехал во двор, ворота закрылись, фонари потушены, и не увидишь, как танцует эта веселая публика, и голосов их больше не слышно, а мы теперь возвратимся туда же, откуда пришли, сказал Арчи, и они повернули к дому.
Еще две ночи мучений медленно проползли мимо Джонни, который сидел в кровати, корчась и скрипя зубами, а мать, накинув на плечи старое пальто, склонялась над ним в трепетном свете свечи и прикладывала к его глазам тряпочки, намоченные в холодной воде, стараясь смягчить боль, бледнея от сострадания, когда он умолял ее сделать хоть что-нибудь, чтобы эта боль прошла, и шепча ему, что в больнице для него сделают все, что только возможно, ему надо только потерпеть каких-нибудь два денька; а когда долгие часы уползли медленно и стыдливо прочь, утомление приглушило боль и мокрая голова мальчика зарылась глубже в намокшую подушку, мать обняла его и тихонько запела молитву: «Есть друг всем малым детям на небе голубом, его любовью вечной мы на земле живем. Друзья нас могут бросить, когда пройдут года, но друг небесный с нами останется всегда», — и оба они задремали.
Произведения
Критика