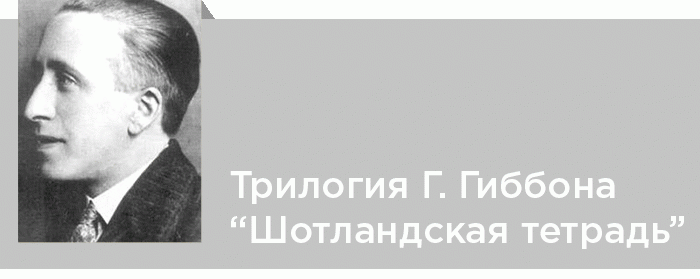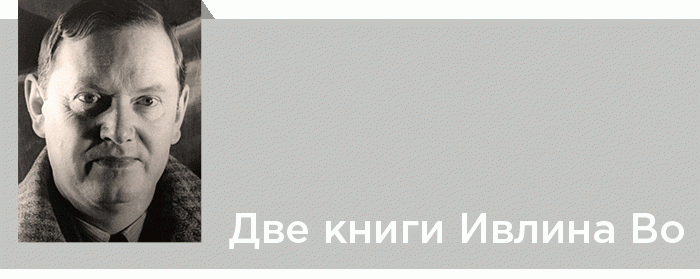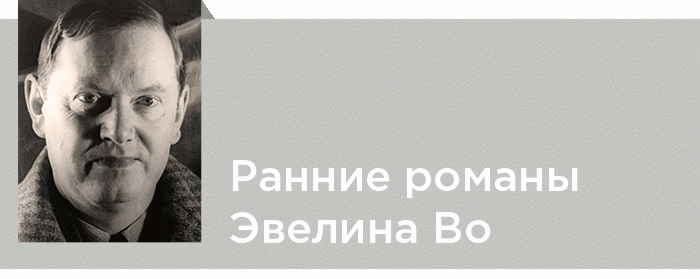Ивлин Во. Возвращение в Брайдсхед
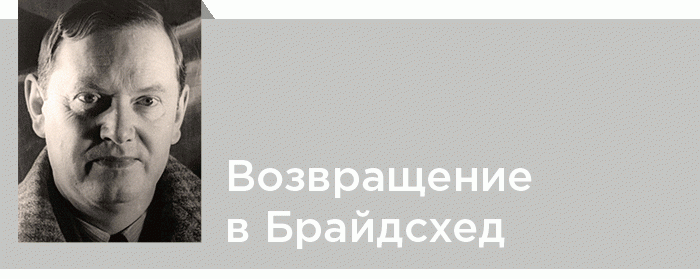
(Отрывок)
СВЯЩЕННЫЕ И БОГОХУЛЬНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ ПЕХОТНОГО КАПИТАНА ЧАРЛЬЗА РАЙДЕРА
Посвящается Лауре
Я — это не я; ты — это не он и не она;
они — не они.
И. В.
Пролог
БРАЙДСХЕД ОБРЕТЕННЫЙ
Я дошел до расположения третьей роты на вершине холма, остановился и посмотрел вниз, на наш лагерь, только теперь открывавшийся взгляду сквозь быстро поредевший утренний туман. В тот день мы его оставляли. Три месяца назад, когда мы сюда входили, всё было покрыто снегом; сегодня кругом пробивалась первая весенняя зелень. Тогда я подумал, что, какие бы ужасные картины разорения ни ждали нас впереди, плачевнее этого зрелища я ничего не увижу; теперь я думал о том, что не увезу с собой отсюда ни одного мало-мальски светлого воспоминания.
Здесь умерла любовь между мною и армией. Здесь кончались трамвайные пути, так что солдаты, в подпитии возвращающиеся из Глазго, могли спокойно спать на скамейках, покуда их не разбудят на конечной остановке. От трамвая до ворот лагеря надо было еще пройти, наверное, четверть мили, на протяжении которых успевали застегнуться на все пуговицы и выровнять фуражку на голове перед входом в караулку; четверть мили, на протяжении которых бетон на обочине уступал место траве. Здесь проходил передний край города. Одинаковые тесные жилые кварталы с кинотеатрами обрывались, и дальше начинался глубокий тыл.
На том месте, где находился наш лагерь, еще недавно были выгон и пашня; сохранился хозяйский дом в ложбине, служивший нам помещением батальонной канцелярии; кое-где, поддерживаемые плющом, еще виднелись остатки стен, некогда ограждавших плодовый сад; пол-акра захиревших старых деревьев позади душевой — вот всё, что от него осталось. Ферма была предназначена на снос еще до вторжения военных. Прошел бы еще один мирный год, и службы, ограды, яблони были бы стерты с лица земли. Уже и теперь между голыми земляными насыпями лежало полмили недостроенного бетонированного шоссе, а в поле по обе стороны от него осталась сеть незасыпанных канав — след дренажной системы, заложенной муниципальными подрядчиками. Еще один мирный год, и сюда шагнули бы соседние пригороды. Теперь и армейские бараки, в которых мы только что зимовали, тоже ждали здесь своей очереди на слом.
За шоссе, укрытый даже зимой в лоне густых деревьев, стоял городской сумасшедший дом — предмет наших постоянных шуток, — и против его чугунных оград и массивных ворот смешной и жалкой казалась наша колючая проволока. В погожие дни было видно, как на аккуратных, усыпанных гравием дорожках и живописных лужайках парка прогуливаются и резвятся сумасшедшие — счастливые коллаборационисты, отказавшиеся от неравной борьбы, люди, у которых не осталось неразрешенных сомнений, которые до конца выполнили свой долг, законные наследники века прогресса, на досуге наслаждающиеся унаследованным богатством. Когда мы маршировали мимо, солдаты кричали через забор: «Пригрей для меня местечко, приятель. Жди меня к вам, я скоро!» Но Хупер, мой взводный из недавно мобилизованных, не мог простить им их беспечной жизни. «Гитлер свез бы их в газовую камеру, — говорил он. — По мне, так и нам не грех у него кой-чему поучиться».
Сюда в разгар зимы я привел походным маршем роту бодрых, окрыленных надеждой людей; говорили, будто нас недаром перебросили из внутренних районов в предместье портового города и теперь мы наконец отправимся на Ближний Восток. Но дни проходили за днями, мы занялись расчисткой снега и разравниванием учебного плаца, и у меня на глазах их разочарование сменилось полной апатией и покорностью судьбе. Они ловили запахи портовых кабачков и прислушивались к знакомым мирным звукам заводских сирен и оркестров на танцплощадках. Получив увольнительную в город, они околачивались на перекрестках и норовили улизнуть за угол при виде приближающегося офицера, чтобы, отдавая честь, не ронять себя в глазах новых подруг. В ротной канцелярии копились докладные и рапорты об отпуске по семейным обстоятельствам; и каждый день в полусумраке рассвета начинался со скуления симулянта и настойчивой скороговорки кислолицего кляузника.
А я, который по всем инструкциям должен был поддерживать в них бодрость духа, как мог я им помочь, когда сам был так беспомощен? Отсюда наш полковник, под началом которого формировался батальон, был переведен куда-то с повышением, и вместо него пришел другой, из чужого учебного пункта; он был моложе и не так располагал к себе. Теперь в офицерской столовой не встречалось почти никого из старых добровольцев, вместе проходивших строевую подготовку в первые дни войны; все разъехались кто куда — одни списаны по состоянию здоровья, другие получили повышение и попали в чужие батальоны, кто перешел на штабную работу, кто записался в специальные части, один был убит на учениях, а один предан военно-полевому суду; их место заняли те, кто пришел по мобилизации; в казарме теперь целый день играло радио и перед обедом выпивалось море пива; всё было не так, как раньше.
Здесь в возрасте тридцати девяти лет я почувствовал себя стариком. Я стал уставать к вечеру, и мне было лень выходить в город; у меня появились собственнические пристрастия к определенным стульям и газетам; перед ужином я обязательно выпивал ровно три рюмки джина и ложился спать сразу же после девятичасового выпуска последних известий. А за час до побудки уже не спал и находился в самом дурном расположении духа.
Здесь умерла моя последняя любовь. Ее смерть произошла самым банальным образом. Однажды, сравнительно незадолго до нашего отъезда, когда я проснулся, как обычно, до побудки и лежал, глядя в темноту, и под мерный храп и сонное бормотание остальных четырех обитателей военного домика перебирал в мыслях заботы предстоящего дня — не забыл ли я назначить двух капралов на стрелковую подготовку, не окажется ли у меня сегодня опять самое большое число невозвращенцев из отпуска, можно ли доверить Хуперу занятия по топографии с допризывниками, — лежа так в предрассветной тьме, я вдруг с ужасом осознал, что привычное, наболевшее успело тихо умереть в моей душе; при этом я почувствовал себя так же, как чувствует себя муж, который на четвертом году брака вдруг понял, что не испытывает больше ни страсти, ни нежности, ни уважения к еще недавно любимой жене; не радуется ее присутствию и не стремится радовать ее и совершенно не интересуется тем, что она подумает, сделает или скажет; и нет у него надежды ничего исправить, и не в чем упрекнуть себя за то, что случилось. Я познал до конца весь унылый ход супружеского разочарования; мы прошли, армия и я, через все стадии — от первых жадных восторгов до этого конца, когда из всего, что нас связывало, остались только хладные узы закона, долга и привычки. Сыграны уже все сцены домашней трагедии — прежние легкие размолвки постепенно участились, слезы перестали трогать, примирения утратили сладость, и родились отчужденность, и холодное неодобрение, и всё растущая уверенность, что всему виною не я, а она, предмет моей любви. Я различил в ее голосе неискренние ноты и теперь ловил их в каждой фразе; увидел у нее пустой, подозрительный взгляд непонимания и эгоистические, жесткие складки в углах ее рта. Я изучил ее, как изучают женщину, с которой живут одним домом, день за днем, в продолжении трех с половиной лет, и я знал все ее неряшливые привычки, все искусственные, затверженные приемы ее очарования, ее зависть, и корысть, и манеру нервно потирать пальцы, говоря ложь. Лишенная обаяния, она теперь предстала передо мной как чужой и чуждый мне человек, с которым я нерасторжимо связал себя в минуту неразумия.
И потому в то утро, когда нам предстояло сняться с лагеря, меня нисколько не интересовало место нашего назначения. Я продолжал делать свое дело, но теперь не вкладывал в него ничего, кроме покорности. Приказ был в 09:15 погрузиться в поезд на близлежащей железнодорожной ветке и иметь с собою в вещмешках неиспользованную часть суточного довольствия; и больше мне ни до чего не было дела. Мой помкомроты с передовым отрядом уже выехал на место. Ротное имущество было упаковано накануне. Хупера я назначил произвести осмотр строя. В 07:30 роте было предписано построиться на плацу, сложив вещмешки у входа в казарму. Нас уже много раз перебрасывали с места на место после того случая, когда в одно прекрасное многообещающее утро 1940 года мы почему-то возомнили, будто нас отправляют на оборону Кале. С тех пор мы по меньшей мере трижды в году меняли свое местоположение; на этот раз наш новый полковник поднял необычайную шумиху насчет «военной тайны» и даже настоял на том, чтобы с наших машин и обмундирования были сняты все опознавательные значки. «Это будет прекрасной проверкой готовности к боевым действиям, — сказал батальонный. — Если я по прибытии к месту назначения обнаружу там кого-нибудь из гражданских лиц женского пола, обретающихся здесь при лагере, я буду знать, что произошла утечка секретной информации».
Дым от полковых кухонь разошелся вместе с туманом, обнажив всю территорию лагеря в виде лабиринта дорожек и тропинок, проложенных напрямик поверх контуров бывшей здесь когда-то усадьбы. Похоже было, что этот лагерь раскопали через столетия трудолюбивые археологи.
«Находки Поллока дают нам ценное звено, связывающее рабовладельческо-гражданские общества двадцатого столетия со сменившей их племенной анархией. Здесь перед нами народ — обладатель развитой культуры, знавший сложные дренажные системы и долговечные дороги, завоеванный расой самого примитивного типа».
Так, быть может, напишут мудрецы будущего, подумал я и, отвернувшись, обратился к старшине:
— Мистера Хупера не было здесь?
— Пока не показывался, сэр.
Мы с ним вошли в пустое помещение ротной канцелярии, и я обнаружил свежеразбитое окно, которое не значилось в описи поврежденного барачного имущества, составленной накануне.
— Сильный ветер ночью, сэр, — скороговоркой пояснил старшина. (Все разбитые окна проходили по этой статье или же по статье «Саперное учение, сэр».)
Появился Хупер; это был молодой человек с нездоровым цветом лица, прямыми, зачесанными со лба назад волосам и провинциальным выговором. В нашей роте он служил третий месяц.
Солдаты не любили Хупера за то, что он плохо знал своё дело, и за то, что во время перекуров он всех без разбора называл «Джонами»; но я испытывал к нему чувство почти любовное из-за одной истории, случившейся с ним в нашей офицерской столовой в день его прибытия в часть.
Новый командир батальона тогда только с неделю как у нас появился, и мы еще не знали, что он собой представляет. В то вечер он успел поставить офицерам по рюмке-другой джина и сам был слегка на взводе, когда взгляд его упал на Хупера.
— Вон тот молодой офицер — это ваш, Райдер? — обратился он ко мне. — Ему надо постричься.
— Да, сэр, — ответил я. Он был прав. — Я прослежу, чтоб это было сделано.
Полковник выпил ещё и, не в силах отвести от Хупера глаз, стал бормотать вполголоса, но вполне отчетливо: — Бог мой, ну и офицеров теперь присылают!
Образ Хупера, по-видимому, преследовал его весь вечер. После ужина он вдруг громко произнес, ни к кому не обращаясь:
— В моем прежнем батальоне, если бы молодой офицер позволил себе появиться в таком виде, остальные младшие офицеры обкорнали бы его сами, будьте уверены.
Никто не выказал интереса к такому развлечению, и подобная неотзывчивость воспламенила командира батальона.
— Вы! — рявкнул он, обращаясь к одному нашему товарищу из первой роты. — Подите принесите ножницы и обстригите этого офицера.
— Это приказ, сэр?
— Это желание вашего командира, и какой вам еще приказ нужен, я не знаю.
— Очень хорошо, сэр.
Среди всеобщего хмурого смущения Хупера усадили в кресло и два-три раза щелкнули ножницами у него на затылке. Я вышел из буфетной до начала экзекуции и позднее извинился перед Хупером за оказанный ему прием.
— Не думайте, пожалуйста, что у нас в батальоне такие развлечения в порядке вещей, — заверил я его.
— Да я не обиделся, — ответил Хупер. — Разве я шуток не понимаю?
У Хупера не было иллюзий касательно армии — вернее, не было на этот счет отдельных ошибочных понятий, выделяющихся из общего тумана, сквозь который он воспринимал вселенную. Он попал в армию против воли, по принуждению, употребив все свои тщедушные усилия на то, чтобы получить отсрочку. Для него армия была неизбежным злом — «как корь», по его собственному выражению. Хупер не был романтиком. Он не скакал мальчиком с конницей принца Руперта и не сидел у лагерных костров на берегу Ксанфа; в том возрасте, когда глаза мои оставались сухи ко всему, кроме поэзии — во время краткой стоической предзимней интерлюдии, которую вводят наши школы, отделяя легкие детские слезы от мужских, — Хупер много плакал, но не над речью Генриха в день святого Криспина и не над Фермопильской эпитафией. В истории, которой его обучали, было мало битв, зато изобиловали подробности о демократических законах и новейшем промышленном прогрессе. Галлиполи, Балаклава, Квебек, Лепанто, Бан-нокберн, Ронсеваль и Марафон, а также битва на холмах Запада, где пал Артур, и еще сотня таких же трубных имен, которые и ныне, в мои преклонные неправедные лета, звучали мне через всю прошедшую жизнь властным, чистым голосом отрочества, для Хупера оставались немы.
Он редко жаловался. Сам такой человек, которому опасно доверить простейшую работу, он питал безграничное уважение к хорошей организации дела и, оглядываясь на свой скромный коммерческий опыт; часто говорил про армейские порядки в снабжении, выплате жалованья и в использовании рабочей силы: «Не-ет, в бизнесе бы им такое с рук не сошло». Он крепко спал, когда я лежал без сна. За то недолгое время, что мы провели вместе, Хупер стал для меня воплощением Молодой Англии, так что, встречая в газетах рассуждения о том, чего ждет Молодежь от Будущего и в чем долг человечества перед Молодежью, я всегда проверял эти общие положения, подставляя на место «Молодежи» «Хупера» и наблюдая, не утратили ли они от этого убедительность. Так, в темные часы перед побудкой я размышлял о «Прогрессивном движении Хупера» и об «Общежитиях для Хупера», о «Солидарности Хуперов во всем мире» и о «Хупере и религии». Он был кислотной пробой для всех этих сплавов.
Если он в чем и изменился со дня выхода из офицерской школы, то разве только стал за эти месяцы еще меньше похож на бравого вояку. В то утро, сгибаясь под полной выкладкой, он показался мне вообще утратившим облик человеческий. По-танцорски шаркнув подошвой, он замер в стойке «смирно» и растопырил у лба пятерню в шерстяной перчатке.
— Старшина, мне нужно поговорить с мистером Хупером… Ну, где вас черти носят? Я же приказал вам провести осмотр личного состава.
— А что, я опоздал? Извините. Укладывался как проклятый.
— Для этого у вас есть денщик.
— Так-то оно так, строго говоря. Да ведь знаете, как получается. Ему свои вещи надо было укладывать. Если с этими людьми раз не поладишь, они потом в чем-нибудь на тебе да отыграются.
— Ну хорошо, ступайте теперь и проведите осмотр.
— Есть. Железно.
— И бога ради не говорите «железно».
— Извините. Я всё стараюсь не забывать, да из головы выскакивает.
Хупер отошел, и возвратился старшина.
— Батальонный идет сюда, сэр, — сообщил он мне.
Я зашагал навстречу.
На рыжей свиной щетине его усиков осели капельки тумана.
— Как у вас здесь? Всё в порядке?
— Думаю, что в порядке, сэр.
— Думаете? Должны знать.
Его взгляд упал на разбитое окно.
— Внесено в опись поврежденного имущества?
— Нет еще, сэр.
— Нет еще? Интересно, когда бы вы собрались его внести, не попадись оно мне на глаза.
Он чувствовал себя со мной неловко и шумел главным образом из робости, но мне от этого приятнее не стал.
Он повел меня на зады, где проволочное заграждение отделяло мою территорию от владений пулеметного взвода, лихо перепрыгнул через проволоку и направился к полузасыпанной канаве, некогда служившей на ферме межой. Здесь он принялся копаться офицерской тростью в земле, точно боров на огороде, и вскоре издал торжествующий возглас: ему удалось обнаружить свалку, столь милую аккуратной солдатской душе. В бурьяне валялись коробки из-под сигарет, старые консервные банки, швабра без палки, печная вьюшка, проржавленное ведро, носок, буханка хлеба.
— Вот взгляните-ка, — сказал командир батальона. — Хорошенькое впечатление это произведет на тех, кто разместится здесь после нас.
— Да, ужасное, — ответил я.
— Позор. Распорядитесь, чтобы всё было сожжено, прежде чем покинете лагерь.
— Слушаюсь, сэр. Старшина, пошлите солдата к пулеметчикам, пусть передаст капитану Брауну, что командир батальона приказал очистить эту канаву.
Как примет полковник мою отповедь, мне было неясно; ему самому, очевидно, тоже. С минуту он постоял в нерешительности, ковыряя тросточкой отбросы в канаве, затем повернулся на каблуках и ушел.
— Напрасно вы это, сэр, — сказал старшина, мой наставник и хранитель с первого дня, как я прибыл в роту. — Ей-богу, напрасно.
— Это не наша свалка.
— Так-то оно так, сэр, да ведь знаете, как получается. Если со старшим офицером раз не поладишь, он потом в чем-нибудь да на тебе отыграется.
Когда мы проходили маршем мимо сумасшедшего дома, три старика стояли за решеткой забора и бормотали что-то доброжелательное.
— Эгей, приятель, до скорой встречи!
— Ждите нас!
— Не скучайте, ребята, скоро увидимся! — кричали им солдаты.
Я шагал вместе с Хупером впереди головного взвода.
— Имеете представление, куда нас?
— Ни малейшего.
— Может, наконец, туда?
— Нет.
— Опять, значит, ложная тревога?
— Да.
— А все говорят, туда едем. Сам не знаю, что и подумать. Глупо вроде как-то, вся эта муштра и волынка, если мы так никогда и не повоюем.
— Не волнуйтесь, время придет, на каждого с лихвой хватит.
— Да мне особенно-то много и не надо. Чтоб только можно было сказать, что был в деле.
На запасных путях нас дожидался состав из допотопных пассажирских вагонов; погрузкой распоряжался какой-то железнодорожный начальник; рабочая команда сносила последние вещмешки из грузовиков в багажные вагоны. Через полчаса мы были готовы и через час тронулись.
Трое моих взводных и я заняли отдельное купе. Они ели бутерброды и шоколад, курили, спали. Книги не нашлось ни у одного. Первые три или четыре часа они прочитывали названия городов, через которые мы проезжали, и высовывались из окна, когда поезд — что случалось довольно часто — останавливался в чистом поле. Потом и этот интерес у них пропал. В полдень и второй раз, когда стемнело, давали чуть теплое какао, его разливали из бидонов нам в кружки большим черпаком. Эшелон медленно тащился южной магистралью по плоской, унылой местности.
Основным событием дня была «оперативка» у батальонного командира. Приглашение мы получили через вестового и собрались у полковника в купе, где застали его самого и его адъютанта в касках и полной амуниции. Первыми его словами были:
— Здесь у нас оперативное совещание, и каждый обязан быть одет по всей форме. То обстоятельство, что в данный момент мы в поезде, значения не имеет. — Я подумал, что нас выгонят, но он обвел всех свирепым взглядом и заключил: — Прошу сесть.
— Лагерь оставлен в позорном состоянии. Повсюду, куда я ни заглядывал, обнаруживались доказательства дурного исполнения офицерами своего долга. Состояние, в каком оставляется лагерь, — это лучшая проверка деятельности ротных офицеров. Именно от этого зависит добрая слава батальона и его командира. И я, — действительно ли он сказал это или я просто передаю словами то возмущение, которое выражали его голос и взгляд? Наверное, он всё-таки этого не сказал, — я не допущу, чтобы моя профессиональная репутация пострадала из-за расхлябанности отдельных временно служащих офицеров.
Мы держали на коленях блокноты, дожидаясь, когда надо будет записывать распоряжения. Более чуткий человек понял бы, что не сумел произвести желаемый эффект; а может быть, он это и понял, потому что заключил тоном обиженного учителя:
— Я прошу всего только добросовестного отношения.
Затем, развернув свои заметки, стал читать:
— «Приказ. Обстановка. В настоящее время батальон перебрасывается из пункта А в пункт В. Переброска производится по крупной железнодорожной магистрали, представляющей опасность в отношении воздушных бомбардировок и химических атак со стороны противника. Задача. Моя задача — прибыть в пункт В. Средства. Эшелон прибывает к месту назначения около 23 часов 15 минут».
И так далее.
Самое неприятное содержалось в конце под рубрикой «Предписания». Третьей роте предписывалось по прибытии эшелона на место приступить двумя взводами к выгрузке батальонного имущества и переброске его на трех грузовиках, имеющих ожидать в пункте прибытия, в район нового расположения части; работу производить до завершения; третьему взводу обеспечить охрану временного полевого склада, а также выставить часовых по периметру нового лагеря.
— Вопросы есть?
— Можно будет получить дополнительно какао для рабочей команды?
— Нет. Еще вопросы?
Когда я рассказал о полученных распоряжениях своему старшине, он вздохнул;
— Бедная третья рота, опять нам досталось.
И я услышал в этих словах укор за то, что настроил против себя батальонного командира.
Я сообщил новость взводным.
— Н-да, — растерялся Хупер. — Перед ребятами неловко. Они жутко разозлятся. Что это он, где грязная работа, так обязательно нас назначает?
— Вы пойдете в охрану.
— Так-то оно так. Да как я найду в темноте периметр?
Наступил час затемнения, и вскоре нас опять побеспокоил вестовой, уныло пробиравшийся вдоль вагонов с трещоткой в руке. «Deuxieme service!», — сострил кто-то из сержантов пообтесаннее.
— Нас обрызгивают жидким горчичным газом, — объявил я. — Немедленно закрыть все окна.
Затем я сел и написал аккуратненький рапорт о том, что жертв нет и ничего из ротного имущества не заражено и что мною выделены люди для проведения перед выгрузкой из эшелона наружной дегазации вагона. Как видно, батальонного это удовлетворило, потому что больше он нас не дергал. Когда совсем стемнело, мы уснули.
Наконец, с большим опозданием, мы прибыли на наш разъезд. Ради соблюдения военной тайны и в целях лучшей боевой подготовки нам надлежало сторониться платформ и вокзалов. Прыжки в темноте с подножки вагона на шлаковую насыпь повлекли за собой неизбежные беспорядки и увечья.
— Построиться на дороге под откосом! Капитан Райдер, третья рота, как всегда, не торопится.
— Да, сэр, у нас там кое-какие сложности с известью.
— С известью?
— Для наружной дегазации вагонов, сэр.
— О, какая добросовестность. Можете этим ограничиться и приступайте к делу.
Мои хмурые полусонные солдаты, бренча снаряжением, строились на дороге. Скоро взвод Хупера ушел, маршируя, во тьму; я разыскал трехтонки, расставил солдат цепочкой по крутому откосу, чтобы передавать грузы из рук в руки; и вот уже, занятые какой-то осмысленной деятельностью, все приободрились. Первые полчаса я работал вместе с ними, потом вышел из цепочки, потому что появился мой помкомроты, выехавший к нам навстречу с первым разгруженным грузовиком.
— Лагерь недурен, — доложил он. — Большой барский дом, и даже пруды есть. Еще постреляем уток, если повезет. Рядом деревня с одним питейным заведением и почтой. Никаких городов на много миль вокруг. Я занял на нас двоих отдельный домик.
К четырем часам утра работа была кончена. Я ехал последним грузовиком по извилистой проселочной дороге, и свисающие ветви деревьев хлестали по ветровому стеклу; в каком-то месте мы свернули с дороги и поехали по подъездной аллее; потом в каком-то месте выехали на открытое пространство, где сходились две аллеи; здесь, в кольце зажженных керосиновых фонарей, грудой лежало наше снаряжение. Мы разгрузили последний грузовик и наконец-то под низким черным небом, из которого начал сеяться мелкий дождь, пошли за провожатыми на свои квартиры.
Я спал, пока денщик не разбудил меня, а тогда устало поднялся, молча побрился и, только уходя, обернулся с порога и спросил своего помкомроты;
— А как эта местность называется?
Он ответил; и в ту же секунду словно кто-то выключил радио и голос, бубнивший у меня над ухом беспрестанно, бессмысленно день за днем, вдруг пресекся; наступила великая тишина, сначала пустая, но постепенно, по мере того как возвращались ко мне потрясенные чувства, наполнившаяся сладостными, простыми, давно забытыми звуками, — ибо он назвал имя, которое было мне хорошо знакомо, волшебное имя такой древней силы, что при одном только его звуке призраки всех этих последних тощих лет чредой понеслись прочь.
Я вышел и в смятении и трепете остановился за порогом. Дождь кончился, облака низко и тяжело висели над головой. Было тихое утро, дым лагерной кухни столбом поднимался к свинцовому небу. По склону холма, скрываясь из глаз за поворотом, тянулась дорога, некогда засыпанная щебнем, затем заросшая травой, теперь же раскатанная и разбитая в жидкую грязь, а по обе стороны от нее стояло и лежало железо, и оттуда доносился стук, и шум, и свист, и крики — все звуки зверинца, какие издает батальон, начиная новый день. А дальше вокруг нас, еще более знакомый, расстилался изумительный искусственный ландшафт. Мы находились в замкнутой, отгороженной от мира неширокой долине. Наш лагерь был разбит на одном ее отлогом склоне; еще не тронутый противоположный склон поднимался прямо перед нами к близкому дружественному горизонту, а между нами протекала речка. Она называлась Брайд и брала начало всего в каких-нибудь двух милях отсюда, возле живописной фермы, носившей название Брайдспринг, куда мы нередко ходили пешком после обеда; ниже, перед тем как слиться с Эвоном, она становилась внушительной рекой, а здесь, перегороженная плотинами, разливалась, образуя три пруда, один — как мокрая сланцевая плитка в камышах, зато два других широко и свободно вмещали в себя отражения облаков и могучих прибрежных буков. В лесу росли одни дубы и буки: дубы — черные, голые, буки — чуть припорошенные зеленью лопнувших почек; купы деревьев живописно и просто обступали то маленькую зеленую прогалину, то широкую зеленую поляну — паслись ли еще на них пятнистые олени? — а у воды, чтобы взгляд не блуждал бесцельно, был построен дорический храм и последний водослив венчала увитая плющом арка. Всё это было распланировано, выстроено и посажено полтора столетия тому назад, чтобы примерно к нашему времени достигнуть расцвета.
С того места, где я стоял, дом был не виден за зеленым бугром, но я и без того знал, где и как он расположен, укрытый кронами лип, точно спящая лань папоротниками.
Подошел откуда-то взявшийся Хупер и откозырял мне на свой неподражаемый — хотя подражать пытались многие, — особый лад. Лицо его было серо после ночного бдения, и побриться он еще не успел.
— Нас сменила вторая рота. Я послал ребят привести себя в порядок.
— Хорошо.
— Дом вон там, за поворотом.
— Да, — ответил я.
— На будущей неделе в нем разместится штаб бригады. Ничего квартира. Просторная. Я только оттуда — осматривал. Очень живописно, я бы сказал. Интересно, там пристроена вроде католическая часовня, так в ней, когда я заглянул, по-моему, шла служба — один только падре и еще какой-то старикан. А я влез как дурак. Мне это ни с какого боку, скорее по вашей части.
Вероятно, ему показалось, что я не слушаю. И в последней попытке возбудить мой интерес он добавил:
— И еще там здоровенный фонтанище перед главным входом, — камни, камни и разное зверье высечено. Вы такого в жизни не видели.
— Видел, Хупер. Я бывал здесь раньше.
Эти слова отдались у меня в ушах, повторенные громким эхом в подземельях моей темницы,
— Ну, тогда вы сами всё здесь знаете. Я пошел, надо привести себя в порядок.
Я бывал здесь раньше, я сам всё здесь знал.
Книга первая.
ET IN ARCADIA EGO
Глава первая
Я бывал здесь раньше, сказал я; и я действительно уже бывал здесь; первый раз — с Себастьяном, больше двадцати лет назад, в безоблачный июньский день, когда канавы пенились цветущей таволгой и медуницей, а воздух был густо напоен ароматами лета; то был один из редких у нас роскошных летних дней, и, хотя после этого я приезжал сюда еще множество раз при самых различных обстоятельствах, о том, первом дне вспомнил я теперь, в мой последний приезд.
В тот день я тоже не подозревал, куда еду. Была Гребная неделя. Оксфорд — теперь похороненный в памяти и утраченный невозвратимо, как земля Лион, ибо с такой бедственной быстротой нахлынули перемены, — Оксфорд был еще в те времена городом старой гравюры. По его широким тихим улицам люди ходили, беседуя, как при Джоне Ньюмене; осенние туманы, серые весны и редкая прелесть ясных летних дней — подобных этому дню, когда каштаны в цвету и колокола звонко и чисто вызванивают над шпилями и куполами, — всё мирно дышало там столетиями юности. Здесь, в этой монастырской тиши, особенно звонко раздавался наш веселый смех и далеко разносился над гудением жизни. И вот сюда, в строгий монашеский Оксфорд, на гребную неделю хлынула толпа представительниц женского пола числом в несколько сот человек; они щебетали и семенили по булыжнику мостовых и по ступеням старинных лестниц, осматривали красоты архитектуры и требовали развлечений, пили крюшон, ели сандвичи с огурцом, катались на лодках и стайками шли с берега на факультетские баржи и вызывали в «Изиде» и Студенческом союзе взрывы неумеренного и неуместного опереточного веселья, а под церковными сводами — непривычное высокоголосое эхо. Эхо вторжения проникало во все закоулки, в моем же колледже было не эхо, а самый источник неприличия: мы давали бал. На внутреннем дворике, куда выходили мои окна, натянули тент и сколотили дощатый настил, вокруг привратницкой расставили горшки с пальмами и азалиями, да еще в довершение всего один преподаватель на втором этаже, мышеподобный человек, имевший отношение к естественному факультету, уступил свои комнаты под женскую гардеробную, о чем саженными буквами провозглашало возмутительное объявление, прибитое в нескольких дюймах от моего порога. Больше всех негодовал по этому поводу мой университетский служитель.
— Джентльмены без дам в течение ближайших нескольких дней приглашаются по возможности принимать пищу на стороне, — сокрушенно объявил он. — Будете обедать дома?
— Нет, Лант.
— Это, они говорят, нужно, чтобы разгрузить служителей. И впрямь до зарезу необходимо. Мне, например, поручено купить подушечку для булавок в дамскую гардеробную. С чего это они затеяли танцы? Никак в толк не возьму. Раньше на Гребную неделю никогда не было никаких танцев. На Память основателей — другое дело, потому на каникулы приходится, но на Гребную — никогда. Как будто мало им чая и катания на реке. Если спросите меня, сэр, так это всё из-за войны. Ничего бы такого не случилось, когда б не война. — Был 1923 год, и для Ланта, как и для тысяч других, после четырнадцатого года всё безнадежно изменилось к худшему. — Ежели примерно вино к ужину, — продолжал он, по своей всегдашней привычке то появляясь в дверях, то вновь выходя из комнаты, — или там два-три джентльмена в гости к обеду, это уж как положено. Но не танцы. Это всё завелось, как джентльмены вернулись с войны. Возраст их уже вышел, а они не разбираются, что да как, и учиться не хотят. Истинная правда. Есть такие, что ходят на танцы с городскими в Масонский дом, ну, до этих прокторы скоро доберутся, помяните мое слово… А вот и лорд Себастьян, сэр. Ну, мне недосуг тут стоять и разговаривать, надо идти за подушечками для булавок.
Вошел Себастьян — серебристо-серая фланель, белый крепдешин, яркий галстук — мой, между прочим, — с узором из почтовых марок.
— Чарльз, что это, скажите на милость, происходит у вас в колледже? Цирк? Я видел всё, кроме слонов. Признаюсь, весь Оксфорд вдруг весьма неприятно преобразился. Вчера вечером он кишмя кишел Женщинами. Идемте немедленно, я должен вас спасти. У меня есть автомобиль, корзинка земляники и бутылка «Шато-Перигей», которого вы никогда не пробовали, потому не притворяйтесь. С земляникой оно восхитительно.
— Куда мы едем?
— Навестить одного человека.
— По имени?
— Хокинс. Захватите денег, на случай если нам вздумается что-нибудь купить. Автомобиль принадлежит некоему лицу по фамилии Хардкасл. Вернете ему обломки, если я разобьюсь и погибну — я не очень-то умею водить машины.
За оранжереей, в которую обращена была наша привратницкая, по выходе из ворот нас ждал открытый двухместный «моррис-каули». За рулем сидел Себастьянов плюшевый медведь. Мы посадили его посередине: «Позаботьтесь, чтобы его не укачало», — и тронулись в путь. Колокола Святой Марии вызванивали девять; мы удачно избегли столкновения со священником при черной шляпе и белой бороде, задумчиво катившим на велосипеде прямо нам навстречу по правой стороне улицы, пересекли Карфакс, миновали вокзал и вскоре уже ехали по дороге на Ботли среди полей и лугов; в те дни поля и луга начинались совсем близко.
— Не правда ли, как еще рано! — сказал Себастьян. — Женщины еще заняты тем, что там они с собой делают, прежде чем спуститься к завтраку. Лень их сгубила. Мы успели удрать. Да здравствует Хардкасл!
— Кто бы он ни был.
— Он думал, что едет с нами. Лень и его сгубила. Я ему ясно сказал: в десять. Это один очень мрачный человек из нашего колледжа. Он живет двойной жизнью. По крайней мере так я предполагаю. Нельзя же всегда, днем и ночью, оставаться Хардкаслом, верно? Он бы давно умер. Он говорит, что знает моего отца, а этого не может быть.
— Почему?
— Папу никто не знает. Он отверженный. Разве вы не слышали?
— Как жаль, что ни вы, ни я не умеем петь, — сказал я. В Суиндоне мы свернули с шоссе и некоторое время ехали между коттеджами из тесаного камня, стоявшими за низкими оградами из светлого песчаника. Солнце поднималось всё выше. Часов в одиннадцать Себастьян неожиданно съехал с дороги на какую-то тропу и затормозил. Уже припекало настолько, что самое время было укрыться в тени. На ощипанном овцами пригорке под сенью раскидистых вязов мы съели землянику и выпили вино — которое, как и сулил Себастьян, с земляникой оказалось восхитительным, — раскурили толстые турецкие сигареты и лежали навзничь — Себастьян глядя вверх в густую листву, а я вбок, на его профиль, между тем как голубовато-серый дым подымался над нами, не колеблемый ни единым дуновением, и терялся в голубовато-зеленой тени древесной кроны, и сладкий аромат табака смешивался с ароматами лета, а пары душистого золотого вина словно приподнимали нас на палец над землей, и мы парили в воздухе, не касаясь травы.
— Самое подходящее место, чтобы зарыть горшок золотых монет, — сказал Себастьян. — Хорошо бы всюду, где был счастлив, зарывать в землю что-нибудь ценное, а потом в старости, когда станешь безобразным и жалким, возвращаться, откапывать и вспоминать.
Я был студентом уже третий семестр, но свою жизнь в Оксфорде я датирую со времени моего знакомства с Себастьяном, происшедшего случайно в середине предыдущего семестра. Мы числились в разных колледжах и были выпускниками разных школ. Я вполне мог провести в университете все три или четыре года и никогда с ним не встретиться, если бы не случайное стечение обстоятельств: однажды вечером он сильно напился в моем колледже, а я жил на первом этаже, и мои окна выходили на внутренний дворик.
Об опасностях этого жилища меня специально предупреждал мой кузен Джаспер; когда я обосновался в Оксфорде, он один — из всех наших родственников — счел меня достойным объектом для своего руководства. Отец никаких советов мне не давал. Он, как всегда, уклонился от серьезного разговора. Единственный раз он завел речь на эту тему, когда до моего отъезда в университет оставалось каких-нибудь две недели, заметив как бы вскользь и не без ехидства;
— Я говорил о тебе. Встретил в «Атенеуме» твоего будущего ректора. Мне хотелось говорить об идее бессмертия у этрусков, а ему — о популярных лекциях для рабочих, вот мы и пошли на компромисс и разговаривали о тебе. Я спросил его, какое содержание тебе назначить. Он ответил: «Три сотни в год, и ни в коем случае не давайте ему ничего сверх этого. Столько получает большинство». Но я подумал, что его совет едва ли хорош. Я в свое время получал больше, чем многие, и, насколько помню, нигде и никогда эта разница в несколько сотен фунтов не имела такого уж значения для популярности и веса в обществе. У меня была сначала мысль определить тебе шестьсот фунтов, — сказал мой отец, слегка посапывая, как он делал всегда, когда что-то казалось ему забавным, — но я подумал, что, если ректор случайно об этом узнает, он может усмотреть здесь нарочитую невежливость. Поэтому даю тебе пятьсот пятьдесят.
Я поблагодарил его.
— Да-да, конечно, я тебя слишком балую, но это всё деньги из капитала, так что… А теперь я, видимо, должен дать тебе наставления. Мне самому никто наставлений не давал, не считая твоего дяди Элфрида. Вообрази себе, летом перед моим поступлением в университет твой дядя Элфрид специально приехал в Боутон, чтобы дать мне совет. И знаешь, что это был за совет? «Нед, — сказал он мне, — об одном я тебя настоятельно прошу. Всегда носи по воскресеньям цилиндр. Именно по цилиндру судят о человеке». И ты знаешь, — продолжал мой отец, всё явственнее сопя носом, — я так и делал. Одни носили цилиндры, другие нет. И я никогда не замечал, чтобы между теми и этими существовала разница. Но сам я всегда носил по воскресеньям цилиндр. Это показывает, какую пользу может принести разумный совет, умело и вовремя преподанный. Хотелось бы и мне дать тебе столь же полезный совет, но мне тебе нечего посоветовать.
Зато кузен Джаспер восполнил этот пробел с лихвой; он был сыном старшего брата моего отца, которого отец нередко называл — наполовину в шутку, наполовину всерьез — «главой рода»; Джаспер учился в Оксфорде четвертый год и в прошлом семестре едва не сподобился быть включенным в университетскую восьмерку. Он был секретарем клуба «Кеннинг» и председателем ораторского кружка — фигура в колледже довольно значительная. В первую же неделю моего пребывания в Оксфорде он нанес мне официальный визит и остался к чаю. Воздав должное медовым плюшкам, гренкам с анчоусами и щедро отведав орехового торта от Фуллера, он закурил трубку и, откинувшись в соломенном кресле, стал излагать правила поведения, кажется, на все случаи жизни; я и сегодня могу повторить слово в слово едва ли не все его наставления.
— …Ты на историческом? Вполне солидный факультет. Самый трудный экзамен — английская литература, за ней идет современная филология. Сдавать надо на высший балл или на низший. Всё, что в промежутке, не стоит труда. Время, потраченное на получение заслуженной двойки, потрачено впустую. Ходить надо на самые лучшие лекции, например на аркрайтовский курс по Демосфену, независимо от того, на каком факультете они читаются… Теперь платье. Одевайся, как в загородном доме. Никогда не носи твидовый пиджак с фланелевыми брюками, а только костюмы. И шей у лондонского портного — там и крой лучше, и кредит долгосрочнее… Клубы. Поступить теперь в «Карлтон», а в начале второго курса — в «Грид». Если захочешь выдвинуть свою кандидатуру в Союз — затея вовсе не бессмысленная, — составь себе сначала репутацию в «Чэтеме» или, скажем, в «Кеннинге» и начни с выступлений по поводу газеты… Кабаний холм обходи стороной… — Небо над крутоверхими крышами напротив моих окон зарделось, потом погасло; я подсыпал угля в камин, зажег лампу, осветив во всей красе его безупречные брюки гольф от лондонского портного и леандровский галстук… — Не обращайся с ассистентами, как с учителями, держись с ними, как дома с приходским священником… На втором курсе тебе придется употребить львиную долю своего времени на то, чтобы избавиться от нежелательных знакомств, которые приобрел на первом… Остерегайся англокатоликов, они все содомиты и говорят с неприятным акцентом. Вообще держись в стороне от всяких религиозных групп: от них один вред.
В заключение, уже прощаясь, он сказал:
— И последнее. Смени комнаты. — Это были просторные комнаты с глубокими нишами окон и крашеными деревянными панелями XVIII века; редко кому из первокурсников доставались такие. — Мне известно немало случаев, когда человек погибал оттого, что занимал комнаты в нижнем этаже окнами на внутренний дворик, — продолжал мой кузен в тоне сурового предостережения. — Сюда станут заходить люди. Оставлять свои мантии, потом брать их по дороге в столовую; ты начнешь угощать их хересом. И так, не успеешь оглянуться, а у тебя уже не квартира, а бесплатный бар для всех нежелательных лиц из твоего колледжа.
Ни одному из этих советов я, по-моему, не последовал. Комнаты я, во всяком случае, не сменил; там под окнами цвели белые левкои, даря мне летними ночами свой восхитительный аромат.
Задним числом несложно приписать себе в юности разум не по годам и неиспорченность вкусов, которой не было; несложно подтасовать даты, прослеживая свой рост по отметкам на дверном косяке. Мне приятно думать — и я иногда в самом деле думаю, — будто я украсил тогда свои комнаты гравюрами Морриса и слепками из Арунделевской коллекции и будто книжные полки у меня были уставлены фолиантами XVII века и французскими романами времен Второй империи, в переплетах из сафьяна и муарового шелка. Но это было не так. В первый же день я гордо повесил над камином репродукцию ван-гоговских «Подсолнухов» и поставил экран с провансальским пейзажем Роджера Фрая, который я купил по дешевке на распродаже в мастерских «Омеги». Еще у меня висела афиша работы Мак-Найта Кауффера и гравированные листы со стихами из книжного магазина «Поэзия», но хуже всего была фарфоровая статуэтка Полли Пичем, стоявшая на камине между двумя черными подсвечниками. Книги мои были немногочисленны и неоригинальны: «Вид и план» Роджера Фрая, иллюстрированное издание «Шропширского парня», «Выдающиеся викторианцы», несколько томиков «Поэзии георгианской эпохи», «Унылая улица» и «Южный ветер»; и мои первые знакомые вполне соответствовали такой обстановке. Это были: Коллинз, выпускник Винчестера и будущий университетский преподаватель, обладавший изрядной начитанностью и младенческим чувством юмора; и небольшой кружок факультетских интеллектуалов, державшихся среднего курса между ослепительными «эстетами» и усердными «пролетариями», которые самозабвенно и кропотливо овладевали фактами, засев у себя в меблированных комнатах на Иффли-роуд и Веллингтон-сквер. В этот кружок был я принят с первых дней, и здесь нашел ту же компанию, к какой привык в школе, к какой школа меня заранее подготовила; но уже в первые дни, когда самая жизнь в Оксфорде, и собственная квартира, и собственная чековая книжка были источником радости, я в глубине души чувствовал, что это еще не всё, что этим не исчерпываются прелести оксфордской жизни.
При появлении Себастьяна серые фигуры моих университетских знакомых отошли на задний план и затерялись в окружающем ландшафте, словно овцы в туманном вереске взгорий. Коллинз опровергал передо мной положения новой эстетики:
— Идею «значимой формы» следует либо принять, либо отвергнуть in toto. Если признать третье измерение на двухмерном полотне Сезанна, тогда приходится признать и преданный блеск в глазу лэндсировского спаниеля…
Но истина открылась мне только в тот день, когда Себастьян, листая от нечего делать «Искусство» Клайва Белла, прочел вслух: «Разве кто-нибудь испытывает при виде цветка или бабочки те же чувства, что и при виде собора или картины?» — и сам ответил: «Разумеется. Я испытываю».
Я знал Себастьяна в лицо задолго до того, как мы познакомились. Это было неизбежно, так как с первого дня он сделался самым заметным студентом на курсе благодаря своей красоте, которая привлекала внимание, и своим чудачествам, которые, казалось, не знали границ. Впервые я увидел его, столкнувшись с ним на пороге парикмахерской Джермера, и был потрясен не столько его внешностью, сколько тем обстоятельством, что он держал в руках большого плюшевого медведя.
— Это был лорд Себастьян Флайт, — объяснил мне брадобрей, когда я уселся в кресло. — Весьма занятный молодой джентльмен.
— Несомненно, — холодно согласился я.
— Второй сын маркиза Марчмейна. Его брат, граф Брайдсхед, окончил курс в прошлом семестре. Вот он был совсем другой, на редкость тихий, уравновешенный джентльмен, просто как старичок. Знаете, зачем лорд Себастьян приходил? Ему нужна была щетка для его плюшевого мишки, непременно с очень жесткой щетиной, но, сказал лорд Себастьян, не для того, чтобы его причесывать, а чтобы грозить ему, когда он раскапризничается. Он купил очень хорошую щетку из слоновой кости и отдал выгравировать на ней «Алоизиус» — так зовут медведя.
Этот человек, которому за столько лет вполне могли бы уже прискучить студенческие фантазии, был явно пленен. Я, однако, отнесся к молодому лорду неодобрительно и в дальнейшем, видя его мельком на извозчике или за столиком у «Джорджа», обедающим в накладных бакенбардах, не изменил своего отношения, хотя Коллинз, штудировавший в это время Фрейда, объяснил мне всё в самых научных терминах.
Да и обстоятельства нашего знакомства, когда оно наконец состоялось, были не слишком благоприятны. Дело было в начале марта, незадолго до полуночи; я угощал у себя факультетских интеллектуалов разогретым вином с пряностями; комната была жарко натоплена, в воздухе густо стоял табачный дым и запах специй, и голова моя шла кругом от умных разговоров. Я распахнул окно, и с университетского дворика ко мне донесся довольно обычный здесь пьяный смех и нетвердый звук шагов.
— Постойте-ка, — проговорил один голос. Другой буркнул: — Ладно, идемте.
— Полно времени… — не очень внятно возразил третий. — Пока Том не пробьет последний раз…
И тут еще один голос, более звонкий и чистый, чем остальные, произнес:
— Знаете, я ощущаю совершенно непонятную дурноту. Простите, принужден покинуть вас на минуту.
Через мгновенье в моем окне появилось лицо, в котором я узнал лицо Себастьяна, но не такое, каким я видел его раньше, оживленное и светлое; он мгновение смотрел на меня невидящими глазами, затем перегнулся через подоконник поглубже в комнату, и его стошнило.
Подобные завершения дружеских ужинов не были у нас в диковину; на такие случаи существовал даже определенный тариф вознаграждения служителей; мы все методом проб и ошибок учились пить и знать меру. И была какая-то трогательная чистоплотность наизнанку в том, как Себастьян в своей крайности поспешил к открытому окну. Но все-таки, что там ни говори, знакомство было не из приятных.
Товарищи выволокли его из ворот, и через несколько минут студент, задававший пирушку, приветливый итонец с моего курса, вернулся, чтобы принести извинения. Он тоже был сильно пьян, и речи его носили характер повторяющийся, а под конец еще и слезливый.
— Беда в том, что вина были слишком разные, — объяснял он — ни количество, ни качество тут ни при чем. Всё дело в смеси. Уразумейте это, и вы постигнете корень зла. Понять — значит простить.
— Да-да, — ответил я, однако на следующее утро, выслушивая упреки Ланта, всё еще испытывал досаду.
— Кувшин-другой подогретого вина на пятерых, — ворчал Лапт, — и вот, пожалуйста. Не успели даже до окна добежать. Кто не умеет пить, пусть не берется, я так считаю.
— Это не мы, Лант. Это один человек не из нашего колледжа.
— Мне от этого не легче вывозить всю эту мерзость.
— Там для вас пять шиллингов на буфете.
— Видел и благодарю, но по мне лучше уж не надо денег и чтоб не было этого безобразия.
Я надел университетскую мантию и оставил его в одиночестве делать свое дело. В те дни я еще посещал лекции и домой вернулся незадолго до полудня. Моя гостиная была завалена цветами: во всех углах, на всех столах, полках и подоконниках, во всех мыслимых сосудах стояло столько цветов, что казалось — и в действительности так и было, — сюда перекочевало содержимое целого цветочного магазина. Когда я вошел, Лант как раз заворачивал в бумагу последний букет, который собирался унести с собой.
— Что это всё означает, Лант?
— Вчерашний джентльмен, сэр. Он оставил вам записку.
Записка была написана цветным карандашом поперек целого листа моего лучшего ватмана: «Я жестоко раскаиваюсь. Алоизиус не хочет со мной разговаривать, пока не убедится, что я прощен, поэтому, пожалуйста, приходите ко мне сегодня обедать. Себастьян Флайт».
Как это на него похоже, подумал я, считать, что я знаю, где он живет; впрочем, я и в самом деле знал.
— Занятный молодой джентльмен, и убирать за ним одно удовольствие. Я так понимаю, вас сегодня к обеду дома не будет, сэр? Я предупредил мистера Коллинза и мистера Партриджа — они хотели прийти сегодня к нам обедать.
— Да, Лант, сегодня я к обеду не буду.
Этот званый обед — ибо там оказалось еще несколько гостей — знаменовал начало новой эры в моей жизни. Но подробности его стерлись в моей памяти, на него наслоились воспоминания о многих ему подобных, которые следовали друг за другом весь этот и следующий семестры, точно хоровод купидончиков на ренессансном фризе.
Я шел туда не без колебания, ибо то была чужая территория, и какой-то вздорный внутренний голос предостерегающе нашептывал мне на ухо с характерной интонацией Коллинза, что достойней было бы воздержаться. Но я в ту пору искал любви, и я пошел, охваченный любопытством и смутным, неосознанным предчувствием, что здесь наконец я найду ту низенькую дверь в стене, которую, как я знал, и до меня уже находили другие и которая вела в таинственный, очарованный сад, куда не выходят ничьи окна, хоть он и расположен в самом сердце этого серого города.
Себастьян жил в колледже Христовой церкви, на верхнем этаже Медоу-Билдингс. Я застал его одного, он стоял и обколупывал бекасиное яйцо, которое вынул из большого, выложенного мохом гнезда, украшавшего середину стола.
— Я их пересчитал, — объяснил он, — и вышло по пять на каждого и два лишние. Эти два я взял себе. Умираю с голоду. Я безоговорочно отдался в руки господ Долбера и Гудолла и теперь чувствую себя так упоительно, словно всё вчерашнее было лишь сном. Умоляю, не будите меня.
Он был волшебно красив той бесполой красотой, которая в ранней юности, словно звонкая песня, зовет к себе любовь, но вянет при первом же дыхании холодного ветра.
В его гостиной были собраны самые неуместные предметы — фисгармония в готическом ящике, корзина для бумаг в виде слоновьей ноги, груда восковых плодов, две несуразно огромные севрские вазы, рисунки Домье в рамках, — и всё это выглядело особенно странно рядом с простой университетской мебелью и большим обеденным столом. На камине толстым слоем лежали пригласительные карточки от хозяек лондонских салонов.
— Этот злодей Хобсон запер Алоизиуса в спальне, — сказал он. — Впрочем, наверное, и к лучшему, потому что бекасиных яиц на него не хватит. Знаете, Хобсон питает вражду к Алоизиусу. Я вам завидую — у вас прекрасный служитель. Сегодня утром он был со мною очень добр, когда другие могли бы выказать строгость.
Собрались гости. Это были три итонских выпускника, ныне первокурсники, элегантные, слегка рассеянные, томные юноши; накануне они все вместе побывали на каком-то балу в Лондоне и сегодня говорили о нем, словно о похоронах близкого, но нелюбимого родственника. Каждый, входя, прежде всего бросался к бекасиным яйцам, потом замечал Себастьяна и наконец меня — со светским отсутствием какого-либо интереса, словно говоря: «У нас и в мыслях нет оскорбить вас хотя бы намеком на то, что вы с нами незнакомы».
— Первые в этом году, — говорили они. — Где вы их достаете?
— Мама присылает из Брайдсхеда. Они для нее всегда рано несутся.
Когда с яйцами было покончено и мы приступили к ракам под ньюбургским соусом, появился последний гость.
— Мой милый, — протянул он. — Я не мог вырваться раньше. Я обедал со своим н-н-немыслимым н-н-наста-вником. Он нашел весьма странным, что я ухожу. Я сказал, что должен переодеться перед ф-ф-футболом.
Он был высок, тонок, довольно смугл, с огромными влажными глазами. Мы все носили грубошерстные костюмы и башмаки на толстой подошве. На нем был облегающий шоколадный в яркую белую полоску пиджак, замшевые туфли, большой галстук-бабочка, и, входя, он стягивал ярко-желтые замшевые перчатки; полугалл, полуянки, еще, быть может, полуеврей; личность полностью экзотическая.
Это был — мне не нужно было его представлять — Антони Бланш, главный оксфордский эстет, притча во языцех от Чаруэлла до Сомервилла. Мне много раз на улице показывали его, когда он вышагивал своей павлиньей поступью; мне приходилось слышать у «Джорджа» его голос, бросающий вызов условностям, и теперь, встретив его в очарованном кругу Себастьяна, я с жадностью поглощал его, точно вкусное, изысканное блюдо.
После обеда он вышел на балкон и над толпой студентов в свитерах и теплых кашне, спешащих мимо на реку, в рупор, странным образом оказавшийся среди безделушек Себастьяна, завывающим голосом декламировал отрывки из «Бесплодной земли».
— А я, Тиресий, знаю наперед, — рыдал он над ними из-под сводов венецианской галереи, —
Всё, что бывает при таком визите,
Я у фиванских восседал ворот
И брел среди отверженных в Аиде.
И тут же, возвратясь в комнату, весело:
— Как я их удивил! Для меня каждый гребец — это еще одна доблестная Грейс Дарлинг.
Мы еще долго сидели за столом, попивая восхитительный куантро, и самый томный и рассеянный из итонцев распевал: «И павшего воина к ней принесли…», аккомпанируя себе на фисгармонии.
Разошлись мы в пятом часу.
Первым поднялся Антони Бланш. Он галантно и сердечно простился с каждым по очереди. Себастьяну он сказал:
— М-мой милый, я хотел бы утыкать вас стрелами, как подушечку для булавок.
А меня заверил:
— Это просто изумительно, что Себастьян вас откопал. Где вы таитесь? Вот я доберусь до вашей норы и выкурю вас оттуда, как с-с-старого г-г-горностая.
Вскоре после него ушли и остальные. Я хотел было раскланяться вместе с ними, но Себастьян сказал:
— Выпьем еще немного куантро. — И я остался. Позже он объявил:
— Я должен идти в Ботанический сад.
— Зачем?
— Посмотреть плющ.
Дело показалось мне достаточно важным, и я пошел вместе с ним. Под стенами Мертона он взял меня под руку.
— Я ни разу не был в Ботаническом саду, — признался я.
— О, Чарльз, сколько вам еще предстоит увидеть! Там красивая арка и так много разных сортов плюща, я даже не подозревал, что их столько существует. Не знаю, что бы я делал без Ботанического сада.
Когда я в конце концов очутился опять у себя и нашел свою квартиру точно такой же, какой оставил ее утром, я ощутил в ней странную безжизненность, которой не замечал прежде. В чем дело? Всё, кроме желтых нарциссов, казалось ненастоящим. Может быть, причина в экране? Я повернул его к стене. Стало немного лучше.
Это был конец экрана. Лант всегда его недолюбливал и через день или два отнес в какую-то таинственную каморку под лестницей, где у него хранились тряпки и ведра.
Тот день положил начало моей дружбе с Себастьяном — вот как получилось, что роскошным июньским утром я лежал рядом с ним в тени высоких вязов и провожал взглядом облачко дыма, срывающееся с его губ и тающее вверху среди ветвей.
Произведения
Критика