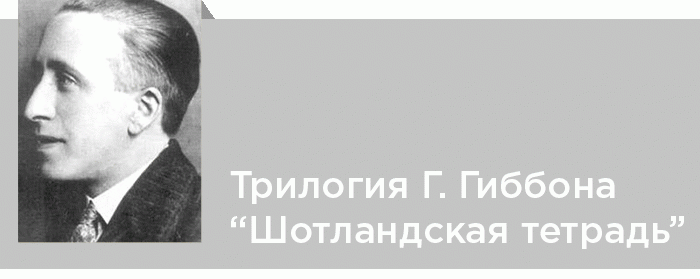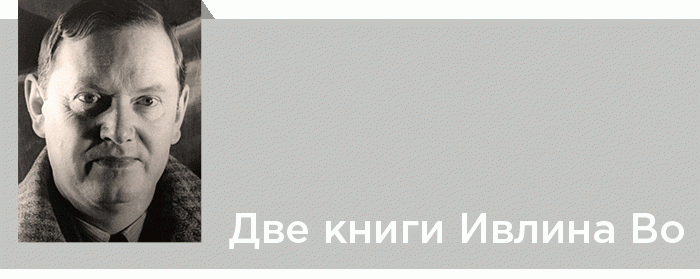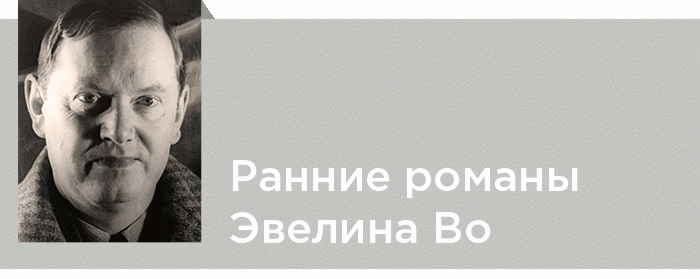Ивлин Во. Испытание Гилберта Пинфолда
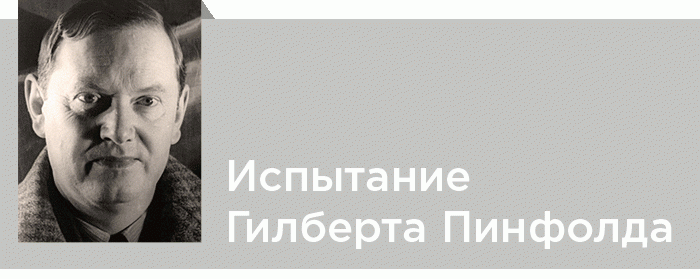
(Отрывок)
1. Портрет художника в зрелые годы
Может случиться, что в следующем столетии нынешними романистами придется так же дорожить, как мы дорожим сегодня художниками и искусниками конца восемнадцатого века. Зачинатели, эти кипучие натуры, все вывелись, и вместо них подвизается и скромно процветает поколение, замечательное гладкописью и выдумкой. Вполне может так случиться, что впереди нас ждут неурожайные годы, и оголодавшими глазами оглянется потомство на наше время, когда желания и умения доставить удовольствие было предостаточно.
Среди этих романистов весьма выделялся мистер Гилберт Пинфолд. Во время случившегося с ним приключения, в свои пятьдесят лет, он был автором дюжины книг, которые еще покупались и читались. Их перевели на многие языки, а в Соединенных Штатах им периодически платили дань восхищения, и платили недурно. Их часто брали предметом своих диссертаций иностранные студенты; однако охотников обнаружить космический смысл в творчестве мистера Пинфолда, связать с ним философские поветрия, социальные драмы или психологические травмы обескураживали его простые, краткие ответы. Выбрав более сосредоточенных на себе писателей, их однокашники по Английской литературной школе часто облегчали свою задачу. Мистер Пинфолд ничем не делился с читателем. Не то чтобы он был скрытен или прижимист: просто ему нечем было поделиться с этими студентами. Книги, считал он, это сделанное дело: они существуют отдельно от него на суд и потребу других. Сделаны они, думал он, хорошо, получше многих прославленных творений, однако достоинствами их он не кичился, а своей славе и вовсе не придавал значения. Ничего из написанного ему не хотелось уничтожить, но он бы охотно это переработал, и он завидовал художникам, которым можно снова и снова возвращаться к старой теме, проясняя и обогащая ее, покуда они совсем не выдохнутся на ней. А романист обречен раз за разом выдавать новое – заново придумывать героям имена, заново выдумывать сюжет и обстановку; между тем, по убеждению мистера Пинфолда, большинство пишущих беременны всего одной-двумя книгами, а все дальнейшее это профессиональное надувательство, коим непростительно злоупотребили гениальнейшие мастера – Диккенс и даже Бальзак.
Разменяв шестой десяток, мистер Пинфолд являл миру только что не полный образчик благоденствия. Ласковый, суматошный мальчик; рассеянный, частенько понурый юноша; собранный, преуспевающий молодой человек, в зрелые годы он сдал гораздо меньше своих сверстников. Это свое преимущество он относил за счет долгих, одиноких, покойных дней в Личполе, глухой деревушке в сотне-другой миль от Лондона.
Годясь ей в отцы, он был предан жене, неутомимо копавшейся на их клочке земли. У них было много детей – здоровых, красивых, воспитанных, и его заработков вполне хватало на их образование. Когда-то он много ездил; теперь же почти круглый год проводил под крышей ветшающего дома, который за многие годы набил картинами, книгами и обстановкой на свой вкус. Он благодушно претерпел большие неудобства и известную опасность солдатской службы. После войны он весь ушел в частную жизнь. У себя в деревне он легко возлагал на себя обязанности, которые мог посчитать обязательными для себя. Он жертвовал полагающиеся суммы на местные дела, зато не интересовался спортом и местным самоуправлением и не испытывал никакого желания вести кого-то за собой или отдавать кому-то команды. Он никогда не голосовал на выборах, исповедуя нетерпимый торизм, среди политических партий его времени не нашедший себе места и, в глазах его соседей, едва ли не смыкавшийся с другим кошмаром – социализмом.
Эти соседи составляли типичную для того времени картину сельской Англии. Некоторые богатели, с размахом и прибыльно занимались сельским хозяйством; другие вели свои дела в другом месте, а домой наезжали поохотиться; большинство же были старики в стесненных обстоятельствах: они еще не могли обходиться без слуг и лошадей, когда Пинфолды обосновались в Личполе, а теперь доживали в куда более скромных домах и встречались в рыбной лавке. Многие доводились друг другу родней и составляли маленький сплоченный клан. В округе десяти миль от Личпола все они и обретались: полковник Багнолд с женой, мистер и миссис Грейвз, миссис и мисс Фодл, полковник Гарбетт с дочерью, леди Фодл-Аптон и мисс Кларисса Багнолд. Так или иначе все они были породненные. В первые годы после женитьбы мистер и миссис Пинфолд переобедали у них всех, и всех, в свою очередь, принимали. Однако послевоенный упадок состояний, еще милосердный к Пинфолдам, умерил их встречи. Пинфолды были пересмешниками, и за каждым из этих семейств в Личполе закрепилась своя, совершенно неожиданная кличка, не ругательская, а ради смеха, обязанная своим возникновением какому-нибудь полузабытому случаю. Ближайшим их соседом, с кем они чаще всего виделись, был Реджиналд Грейвз-Аптон, дядя Грейвз-Аптонов из АпперМьюлинг в десятимильной удаленности, – старый холостяк, добряк и пчеловод, чей коттедж, крытый соло мой, примерно в миле от барского дома замыкал собой тропу. В воскресенье он обыкновенно шел к заутрене лугами Пинфолдов и оставлял у них в конюшне своего терьера. Забирая его, он на четверть часа задерживался у хозяев, выпивал стаканчик хереса и пересказывал радиопрограммы, выслушанные за прошедшую неделю. Этот рафинированный пожилой джентльмен носил мудреную кличку Сундук, с вариантами Рундук, Ларь и Шкап, при исходной Коробке, ибо в последнее время он ввел в круг своих немногих интересов предмет, упоминаемый с придыханием: Ящик.
В разных концах страны действовало много таких Ящиков. Над упомянутым склонились однажды в Аппер-Мьюлинге скептические носы племянника и племянницы Реджиналда Грейвз-Аптона. Миссис Пинфолд, которую тоже взяли посмотреть, сказала, что это смахивает на самодельный радиоприемник. Сундук и другие апологеты Ящика утверждали, что тот обладает диагностическим и лечебным свойствами. Какая-либо частица заболевшего человека или животного – волос, а лучше капля крови – помещается перед Ящиком и оператор, настроив его на «жизненные волны», определяет природу заболевания и предписывает лечение.
Мистер Пинфолд разделял скептицизм молодых Грейвз-Аптонов. Миссис Пинфолд отчасти верила в Ящик, поскольку его действию подвергли, ничего ей не сказав, леди Фодл-Аптон на предмет крапивницы, и сразу наступило облегчение.
– Это просто внушение, – сказала младшая миссис Грейвз-Антон.
– Откуда внушение, если она ничего не знала, – сказал мистер Пинфолд.
– Да нет, просто правильно настраиваются Жизненные Волны, – сказала миссис Пинфолд.
– Крайне опасное оружие в преступных руках, – сказал мистер Пинфолд.
– Да нет, самое интересное, что он неспособен нанести вред. Он просто передает жизненные силы. Фанни Грейвз испытала его на своем спаниеле против глистов, так они выросли как не знаю что, столько они приняли Жизненной Силы. Стали как змеи, говорит Фанни.
– Мне удобнее думать, что этот ящик волшебный, – сказал мистер Пинфолд жене, когда они остались вдвоем. – Согласись, что я прав.
– Ты правда так думаешь?
– Нет, конечно. Обычная чепуха на постном масле.
Религия Пинфолдов несильно, но ощутимо разводила их с этими соседями, чья жизнь в основном вертелась вокруг их приходских церквей. Пинфолды были католиками – миссис Пинфолд с младых ногтей, мистер Пинфолд созрел постепенно. Его спокойное приятие вероисповедных запросов не было «обращением», за которым стоит резкий духовный слом, в лоно церкви он был принят сложившимся человеком, и это в то самое время, когда английские гуманитарии в большинстве своем свихнулись на коммунизме. Мистер Пинфолд, не в пример им, устоял. За ним, впрочем, признавали скорее фанатизм, нежели благочестие. По самой своей сути, его профессия заведомо осуждалась духовенством как, в лучшем случае, легкомысленная, а то и просто безнравственная. Жил он, подхватывала узколобая мораль, в свое удовольствие, речи вел неосторожные. В то время, как пастыри его церкви побуждали народ выйти из катакомб на форум, оказать свое влияние на народовластную политику и полагать служение Господу, скорее, совокупным, нежели частным деянием, мистер Пинфолд только глубже зарывался в скалу. Будучи в отъезде, он отлынивал от обедни; дома держался в стороне от всевозможных организаций, воспрявших на призывы иерархов искупить наше грешное время.
Впрочем, друзьями мистер Пинфолд не был обижен, и он дорожил ими. Эти люди состарились вместе с ним, в двадцатые и тридцатые годы они все были неразлучны, в рассеянные же сороковые и пятидесятые общались совсем мало: мужчины – в клубе Беллами, женщины – в полудюжине тесных, симпатичных домишек Вестминстера и Белгрейвии, куда из более счастливых времен перекатился уголек гостеприимства.
Поздние годы не доставили ему новых друзей. Порою ему казалось, что среди старых он замечает признаки охлаждения. Получалось, что первым о встрече всегда заговаривал он. А уходили первыми – они. Тут прежде всего имелся в виду Роджер Стиллигфлит, некогда ближайший друг, теперь, похоже, избегавший его. Роджер Стиллингфлит был писателем, которого среди немногих мистер Пинфолд искренне любил. Он не мог придумать, что было причиной их разрыва, и, наведя справки, узнал, что в последнее время Роджер стал весьма странноват. Говорили, что в Беллами он теперь заходит только взять письма или поболтать с заезжим американцем.
Иногда мистеру Пинфолду приходила мысль, что сам он превращается в зануду. Предугадать его реакцию не составляло труда.
В нем был силен дух неприятия. Он ненавидел пластмассу, Пикассо, солнечные ванны и джаз, а в сущности говоря, все, что сталось на его веку. Трепетный огонек милосердия, возженный в нем религией, кое-как смягчил его омерзение и претворил его в скуку. В тридцатые годы, пугая себя, говорили: – Часы не спешат – спешит время. – У мистера Пинфолда ничто не спешило. Днем ли, ночью, взглянув на часы, он с неудовольствием отмечал, как мало жизни прошло – и сколько ее еще осталось. Он никому не желал зла, взирал на мир sub specie aeternitatis и видел только пресную географическую карту; но совсем другая была картина, когда его лично что-то задевало. Тогда он кубарем сваливался со своей наблюдательной верхотуры. Оскорбившись бутылкой скисшего вина, нахалом-прохожим или грамматической ошибкой, его дух, подобно накатившей тележке с кинокамерой, брал обидчика крупным планом, сверкая объективами; так сержант-муштровик сверлит глазами незадачливый взвод, закипая наигранным гневом и словно не в силах поверить увиденному; и как над тем сержантом, многие посмеивались над ним, но на кого-то это весьма сильно действовало.
Все это в свое время находили забавным. Из уст в уста передавались его язвительные оценки, ему приписывали дерзкие выходки под девизом «Пинфолд в своем репертуаре». Сейчас он сознавал, что в глазах многих его оригинальность потускнела, но обновлять программу было уже поздновато.
Половозрелым мальчиком, когда почти все его однокашники огрубели, он был субтилен, как Сундук, и ранний успех сделал его обаятельным. Затянувшееся преуспевание принесло перемены. Впечатлительные мужчины, видел он, усваивали себе защитную маску от хамства и обид взрослого мира. Их мало выпало на долю мистера Пинфолда; он получил нежное воспитание, а в качестве писателя его рано приветили и захвалили. Если что и нуждалось в защите, гак это его застенчивость, и с этой целью, действуя, скорее, наобум, он постепенно усвоил эту бурлескную роль. Он не изображал собой ученого или кадрового военного; он выбрал для себя гибрид эксцентрического преподавателя с брюзгливым полковником, и он усердно играл свою роль перед детьми в Личполе, перед друзьями в Лондоне, покуда эта роль не стала определять все проявления его личности. Когда он прерывал свое одиночество и забегал в клуб либо с топотом поднимался в детскую, половину себя он оставлял за порогом, и наличная половина раздувалась за счет отсутствующей. Он являл миру помпезный фасад неотесанной выделки, прочный, глянцевый, первозданный, как панцирь.
Няня мистера Пинфолда говаривала: – Своя воля доведет до неволи; и еще: – Слово не палка, больно не ударит. – Мистеру Пинфолду было безразлично, что говорят о нем в деревне. Мальчиком он остро переживал насмешки. Его взрослая оболочка была невосприимчива к ним. Он давно оградил себя от репортеров, а молодежь, сочинявшая «портреты в профиль», собирала материал, где могла. Еженедельно его агент по печати доставлял ему к завтраку две-три весьма неприятных газетных вырезки. Его не слишком огорчало, какую оценку выставляет ему общество. За уединение надо платить. Еще приходили письма от незнакомых людей – как ругательные, так и похвальные. С точки зрения вкуса или силы выражения, и те и другие корреспонденты не пользовались признанием мистера Пинфолда. Он всем отправлял отпечатанные уведомления о получении.
Он проводил дни в писании, чтении и малых хлопотах. Он никогда не пользовался услугами секретаря, и последние два года обходился без слуги. И мистеру Пинфолду это не было в тягость. Ему хватало умения отвечать на письма, оплачивать свои счета, увязывать пакеты и складывать одежду. Ночами ему чаще всего снилось, как он разгадывает кроссворд в «Таймс»; когда снилось, что он вслух читает семейству скучную книгу, он просыпался в кошмаре.
К пятидесяти годам он обленился. В свое время он охотился с собаками, помногу ходил, копал огород, валил деревца. Теперь он днями просиживал в кресле. Он стал меньше есть, больше пить и его разнесло. Недуги крайне редко укладывали его в постель на целый день. Он периодически страдал от приступов боли в суставах и мышцах – артрит, ревматизм, фиброз; научные названия их не украшали. Мистер Пинфолд редко обращался к врачу, а если обращался, то «в частном порядке». Его дети пользовались государственной медицинской помощью, а мистер Пинфолд не пожелал ломать отношения, сложившиеся в его первые личполские годы. Наблюдавший мистера Пинфолда доктор Дрейк наследовал практику своего отца и был старожилом Личпола, когда Пинфолды только приехали. Худой, поджарый, загорелый, он имел глубокие корни и широкие связи в округе, поскольку доводился братом местному аукционисту, зятем – поверенному и кузеном сразу троим приходским священникам. Развлечения его тяготели к спорту. В профессии он не хватал звезд с неба, но мистера Пинфолда вполне устраивал. Он страдал теми же недугами, что мистер Пинфолд, причем даже в более острой форме, и, когда тот обращался к нему, объяснял, что в их возрасте это обычная вещь, что весь их район подвержен этим хворям и что Личпол самое гибельное место здесь.
Еще мистер Пинфолд скверно спал. Это была застарелая беда. Двадцать пять лет он принимал всевозможные успокоительные средства, а последние десять лет пил совершенно особый препарат, хлоралбромид, втайне от доктора Дрейка покупаемый в Лондоне по старому рецепту. Бывали такие минуты в его сочинительстве, когда написанные днем фразы начинали прокручиваться в голове, слова сновали и резко меняли цвет, и в эти минуты он вставал с постели, неслышно спускался в библиотеку, что-то незначительно поправлял, возвращался к себе и лежал в темноте, покуда сверкающий узор словес не гнал его обратно к рукописи. Однако в году их выпадало немного, таких одержимых дней и ночей, которые без ложной скромности можно назвать «творческим зудом». В большинстве своем ночи проходили без волнений и озарений. Просто-напросто донимала скука. Даже пробездельничав день, он нуждался в шести-семи часах бесчувственного состояния. Получив эту передышку и рассчитывая на следующую, можно было худо-бедно протрубить очередной пустой день; принимаемые дозы всегда давали такую передышку.
* * *
В канун его пятидесятилетия произошли два события, поначалу даже незначительные, но в позднейших его приключениях сыгравшие свою роль.
Первое касалось, собственно говоря, миссис Пинфолд. В войну Личпол арендовался: дом взяли монашенки, земля досталась животноводу. За счет и вокруг прихода этот человек, Хилл, набрал клочки пастбищных угодий, где выпасал что-то вроде стада как бы молочного скота. Корм был обильный, изгороди – ветхие. Когда в 1945-м Пинфолды вернулись к себе и захотели получить обратно свою землю, Военная аграрная комиссия, как водится, настроенная в пользу оседлого арендатора, непременно должна была решить дело в интересах миссис Пинфолд. Примись она тогда же действовать, Хилл, получив компенсацию, убрался бы уже к Михайлову дню, но миссис Пинфолд была добрячка, а Хилл пройдоха. Он сразу подал в суд бумагу и, заявив свои права, в дальнейшем отстаивал их. За Михайловым днем пришло Благовещение, и еще четыре года эти праздники следовали один за другим. Хилл отступал, сдавая луг за лугом. Комиссия, все еще называемая в народе «Вагой», приехала и снова обошла владения – и снова решила в пользу миссис Пинфолд. У Хилла теперь был адвокат, и он обжаловал решение. Дело тянулось. Мистер Пинфолд держался в стороне, огорчаясь переживаниями жены. И только на Михайлов день 1949-го Хилл таки уехал. Он еще пошумел в деревенской пивной насчет своей смекалки и с немалым барышом подался в другие края.
Вскоре за этим произошел и другой случай. Мистер Пинфолд получил от Би-би-си предложение записать с ним «интервью». Таких предложений за прошедшие двадцать лет было множество, и он всегда отвечал отказом. На сей раз гонорар был более приемлемым, а условия – более терпимыми. Ему не надо будет ехать к ним в Лондон. Электрики сами приедут к нему со своей аппаратурой. Не надо заранее оговаривать текст; вообще не нужно никаких приготовлений; вся процедура займет час времени. От нечего делать мистер Пинфолд согласился и тут же пожалел об этом. Назначенный день пришелся на конец летних каникул. Вскоре после завтрака прибыли легковой автомобиль и мгновенно облепленный детворой фургон, каким в армии пользуются разве что связисты специальной службы. Из машины вышли трое седеющих моложавых мужчин в роговых овальных очках, в кордовых брюках и твидовых пиджаках другими мистер Пинфолд их себе и не представлял. Главного звали Ангелом. Его начальственный статус подчеркивала аккуратная густая борода. Он и его коллеги, объяснил он, ночевали в этих местах, у него тут тетка. Уехать им надо до ленча. Работу кончат в первой половине дня. Электрики принялись быстро разматывать провода и устанавливать микрофоны в библиотеке, а мистер Пинфолд привлек внимание Ангела и его команды к наиболее примечательным произведениям искусства из своего собрания. Они не стали утруждать себя отзывом и только заметили, что в последний раз им показывали гуашь Руо.
– Я не знал, что он писал гуашью, – сказал мистер Пинфолд. – Как бы то ни было, он мерзкий художник.
– А-а! – сказал Ангел. – Прелестно. Очень прелестно. Обязательно надо будет записать.
Когда электрики все наладили, мистер Пинфолд сел за стол перед тремя незнакомцами, имея в центре микрофон. Приезжие явно ориентировались на передачи, толково сделанные в Париже с разными французскими знаменитостями, когда непринужденная, непосредственная беседа провоцировала испытуемых делать ненужные признания.
Они по очереди расспрашивали мистера Пинфолда о его вкусах и привычках. Тон задавал Ангел, и поэтому мистер Пинфолд смотрел на него. Заурядное лицо в местах, свободных от бороды, омрачилось, в невыразительном, нарочито простонародном голосе зазвучали угрожающие ноты. Вопросы ставились вполне корректные, но мистеру Пинфолду чудилась зловредная подковырка. Похоже, Ангел был убежден, что всякая знаменитость, удостоенная собеседования с ним, непременно что-нибудь утаивает, что она самозванка, и его дело загнать ее в угол и развенчать, точными вопросами обозначив заведомо известное позорное пятно. Это смахивало на скулеж неудачника, который слышался мистеру Пинфолду в газетных вырезках про него.
С нахалами, вольными или невольными, он умел управляться, он давал краткие и резкие ответы, по пунктам сбивая спесь с противников, если они таковыми были. Когда все кончилось, мистер Пинфолд предложил гостям херес. Напряжение спало. Он из вежливости спросил, к кому они поедут дальше.
– Мы едем в Стратфорд, – сказал Ангел, – у нас интервью с Седриком Торном.
– Вы очевидно, не видели утреннюю газету, – сказал мистер Пинфолд.
– Нет, мы уехали рано.
– Седрик Торн ускользнул от вас. Он повесился вчера днем в своей гардеробной.
– Боже мой, вы уверены?
– Об этом было в «Таймс».
– Можно взглянуть?
Профессиональная выдержка покинула Ангела. Мистер Пинфолд принес газету, и тот, волнуясь, прочитал сообщение.
– Да, это он. Я почти ждал этого. Мы были приятелями. Надо ехать к его жене. Можно позвонить?
Попросив прощения за легкомысленный тон, каким он объявил эту новость, мистер Пинфолд провел Ангела в рабочую комнату. Он снова налил всем херес и постарался выказать радушие. Скоро вернулся Ангел и сказал: – Не могу дозвониться. Попробую позже.
Мистер Пинфолд повторно принес свои извинения.
– Да-да, ужасно, хотя не то, чтобы я этого не ожидал.
В утренний диссонанс добавилась мрачная нота.
Простились; машины развернулись на гравии и укатили.
Когда они пропали за поворотом дороги, кто-то из детей, слушавший разговоры в фургоне, сказал: – Они тебе не очень понравились – да, пап?
Они ему совсем не понравились, и еще оставили неприятный осадок, раздражавший его несколько недель до выхода передачи в эфир. Он предавался грустным размышлениям. На его уединение, мнилось ему, покусились, и он не был уверен, достаточно ли хорошо он защитился. Он напряженно припоминал, что именно он говорил, и память раз за разом перевирала его ответы. И вот наступил вечер, когда представление обнародовалось. Мистер Пинфолд перенес в гостиную радиоприемник своего повара. Он слушал вдвоем с миссис Пинфолд. Собственный голос показался ему почему-то старым и зычным, однако по существу сказанного возражений не было. – Они старались выставить меня ослом, – сказал он. – Не думаю, что им это удалось.
На время мистер Пинфолд выбросил из головы Ангела.
В ту солнечную осень донимали только скука и ригидность суставов. Вопреки возрасту и опасной профессии, самому себе и окружающим мистер Пинфолд казался счастливо избавленным от новомодных мук Angst'a.
2. Упадок сил в преклонном возрасте.
Лень мистера Пинфолда уже отмечалась. Он продвинулся до середины романа и в начале лета прервал работу. Законченные главы были перепечатаны на машинке, переписаны, снова перепечатаны и положены в ящик стола. Он был совершенно удовлетворен ими. У него было общее представление о том, чем надо кончить книгу, и он был уверен, что в любой момент сможет завершить работу. Денежных затруднений он не испытывал. Распродажа его ранних книг уже обеспечила ему на тот год скромный достаток, дозволенный законами его страны. Дальнейшее усилие было чревато резким падением доходов, и у него не было желания делать это усилие. Герои, в которых он вдохнул жизнь, словно прилегли соснуть, и он великодушно предоставил их самим себе. Их ждали трудные испытания. Пусть поспят, пока есть возможность. Всю жизнь он работал приступами. В молодости он отдавал развлечениям долгие передышки. Теперь он их отставил, чем, собственно, и отличался пятидесятилетний Пинфолд от тридцатилетнего.
Зима нагрянула уже в конце октября. Отопительная система в Личполе была старой и прожорливой. Ею не пользовались со времени перебоев с топливом. Поскольку большая часть детей училась, мистер и миссис Пинфолд обходились двумя комнатами, топили углем, сколько могли его достать, и защищались от сквозняков ширмами и мешками с песком. Мистер Пинфолд приуныл, стал поговаривать об островах Вест-Индии и ощутил потребность в более продолжительном сне.
В приготовлении снотворного главная роль изначально отводилась воде. Он условился с аптекарем, что ему удобнее иметь полный набор компонентов, а разбавит он сам. На вкус они все были горечь и, поэкспериментировав, он нашел, что более всего они приемлемы с créme de menthe. Он не скрупулезничал, отмеряя дозу, плескал в стакан сколько заблагорассудится, и если получалось слабо и он просыпался ни свет ни заря, он выбирался из постели, нетвердо брел к своим склянкам и делал еще один глоток. Так он проводил много часов в приятном беспамятстве.
Но приключилась беда. То ли лекарство было слишком сильное, то ли еще почему, но к середине ноября он совсем расклеился. Он безобразно налился кровью, особенно багровея после своей обычной, весьма основательной порции вина и бренди. На тыльной стороне рук высыпали темно-красные пятна.
Он пригласил доктора Дрейка, тот сказал: – Как бы это у вас не аллергия.
– Аллергия на что?
– Трудно сказать. Нынче почти все может вызвать аллергию. Может, вы не то носите или не то дерево растет во дворе. Тут единственное лечение – сменить обстановку.
– Я, может быть, уеду за границу после Рождества.
– Лучше не придумать. В любом случае не тревожьтесь. От аллергии не умирают. Она сродни сенной лихорадке, – сказал он по-ученому, – и астме.
Другая беда, в которой он скоро стал винить лекарство, была расстроившаяся память. Она подводила его. Не то, чтобы это была забывчивость. Он все помнил четко и ясно, но помнил невпопад. Вот он категорическим тоном констатирует, иногда даже в печати, нечто непреложное (дата, имя, цитата), ему возражают, он ищет подтверждение в книгах и сокрушенно убеждается в ошибке.
Два события в этом роде встревожили его. Желая его подбодрить, миссис Пинфолд пригласила на конец недели гостей. В воскресенье днем он предложил пройтись недалеко в церковь и посмотреть замечательное надгробие. Сам он не был там с войны, но сохранил в памяти отчетливый образ, каковой и описал им, входя в технические подробности: простертая фигура из позолоченной бронзы, середина шестнадцатого века. Они без труда нашли церковь, и памятник был на месте, только фигура была из крашеного алебастра. Все посмеялись, и он посмеялся, хотя ему было не до смеха.
Второй эпизод был еще обиднее. Лондонский друг Джеймс Ланс, с которым у него были общие вкусы, разыскал и предложил ему в дар совершенно замечательный предмет обстановки: сложнейшего устройства умывальный столик, вышедший из рук английского архитектора 1860-х годов, чье имя не останется в веках, но было в большой чести у мистера Пинфолда и его друзей. Этот тяжеловесный произвол фантазии украшали накладной металл и мозаика и несколько панно, в угарной юности расписанных вполне безумным художником, позднее президентом Королевской Академии. Лучшей добычи мистеру Пинфолду нельзя было пожелать. Он поспешил в Лондон, исследовал, заходясь от восторга, изделие, распорядился о доставке и стал нетерпеливо считать дни. Через две недели вещь прибыла в Личпол, была внесена наверх и поставлена на место, подготовленное заранее. И тут мистер Пинфолд с ужасом обнаружил отсутствие главнейшей части. Где горделиво выступающий, радующий глаз медный кран, апофеоз всей конструкции? Вместо него торчал какой-то сосок. Мистер Пинфолд потерял голову от горя. Рабочие божились, что приняли груз в таком состоянии. Мистер Пинфолд послал их обыскать фургон. Поиски ничего не дали. На расписке в получении мистер Пинфолд написал «некомплект» и немедленно направил в фирму подробный рисунок утраченной детали и распоряжение со всей строгостью обыскать склад, где умывальник содержался en route. Завязалась оживленная переписка, грузчики отрицали свою вину. Как ни стеснялся мистер Пинфолд вовлекать в спор о подарке самого дарителя, пришлось обратиться к Джеймсу Лансу за подтверждением. Джеймс Ланс ответил: такого крана, как его описывает мистер Пинфолд, никогда не существовало.
– Последнее время ты иногда просто заговариваешься, – сказала миссис Пинфолд, когда муж показал ей это письмо, – и у тебя очень странный цвет лица. Либо ты много пьешь, либо оглушаешь себя лекарствами, либо то и другое вместе.
– Не удивлюсь, если ты права, – сказал мистер Пинфолд. – Наверное, надо будет сбавить шаг после Рождества…
В детские каникулы мистер Пинфолд как никогда нуждался в ночном беспамятстве и разогретом состоянии в течение дня. Тяжелее всего давались рождественские каникулы. В течение этой страшной недели он особенно налегал на вино и наркотики и его воспаленное лицо могло потягаться с глянцевым румянцем открыточных сквайров, наводнивших весь дом. Поймав как-то в зеркале свое багровое отражение, увенчанное бумажной короной, он ужаснулся увиденному.
– Я должен уехать, – сказал потом мистер Пинфолд жене. – Уехать куда-нибудь к солнцу и кончить книгу.
– Надо бы и мне с тобой поехать. Но когда управиться и образить землю после Хилла? Знаешь, я за тебя волнуюсь. За тобой нужен присмотр.
– Со мной все наладится. Один я лучше работаю. Совсем похолодало. Мистер Пинфолд коротал дни в библиотеке, скорчившись перед камином. Выбираясь в ледяные коридоры, полуокоченевший, он дрожал и спотыкался; снаружи под невидимым солнцем металлически стыл пейзаж – свинцовый, железный, стальной. И только вечерами мистер Пинфолд с грехом пополам веселел, играя с семейством в шарады или «руки на стол» [5], дурачась на потеху младшим и на забаву старшим детям, пока те, счастливые, не разбредутся в порядке старшинства по своим комнатам а он останется наедине со своей темнотой и тишиной.
Но кончились и каникулы. Монахи и монашенкм получили деньги на обратную дорогу, и Личпол утих если не считать редких набегов из детской. И едва мистер Пинфолд, что называется, собрался с силам для решительного переустройства своей жизни, как его сразил невиданный приступ знакомой хвори. Ломило во всех суставах, особенно же в ступнях, лодыжка и коленях. Снова доктор Дрейк посоветовал теплый климат и прописал пилюли, рекомендуя их как «нечто новенькое и весьма сильное». Это были большие, грязновато-желтые таблетки, напомнившие мистеру Пинфолду школьные катыши из промокашки. Мистер Пинфолд подключил их к бромиду и хлоралу с creme d' menthe, к вину, джину и бренди и новому снотворному которым снабдил его доктор, не ведавший о существовании уже имевшегося.
Душа его алкала изгнанничества. Одна могучая мысль вытеснила все остальные: бежать. Даже в крайних обстоятельствах не подходивший к телефону, он телеграфировал в бюро путешествий, с которым имел дело: Благоволите распорядиться скорейшем рейс Вест-Индию, Ост-Индию, Африку, Индию, любое жаркое место, условия люкс, отдельная ванна, безусловно отдельная каюта верхней палубе, – после чего стал тревожно ожидать ответа. Полученный большой конверт содержал праздничного вида брошюры и записка с просьбой о дальнейших распоряжениях.
Мистер Пинфолд пришел в неистовство. Он знал одного из директоров фирмы. С другими, ему казалось он шапочно знаком. Потеряв голову от гнева, он ошибочно вообразил, что одна его знакомая дама вошла в правление, о чем он совсем недавно где-то прочел. Им всем, по домашним адресам, он направил ультимативную телеграмму: Благоволите разобраться безответственной небрежности вашей службы. Пинфолд.
Директор, которого он действительно знал, принял меры. В настоящий момент выбирать было не из чего. Мистеру Пинфолду повезло заказать билет на пароход первого класса «Калибан», через три дня уходивший на Цейлон.
На время ожидания мистер Пинфолд присмирел. Он периодически входил в коматозное состояние. В светлые промежутки его мучили боли.
Миссис Пинфолд, не боясь повториться, сказала.
– Милый, ты буквально напичкан наркотиками.
– Да, да. Это пилюли от ревматизма. Дрейк сказал, они очень сильные.
Обычно довольно ловкий, теперь мистер Пинфолд стал совершенный увалень. Он ронял вещи. Он не справлялся с пуговицами и шнурками, в вынужденных предотъездных письмах его почерк был неразборчив, а орфография, в которой он вообще был нетверд, совсем отбилась от рук.
Как-то, в минуту просветления, он сказал миссис Пинфолд: – Наверное, ты права. Как только выйдем в море, я откажусь от снотворного. В море у меня всегда хороший сон. И еще сокращусь с питьем. Когда кончатся эти чертовы боли, я сразу сяду за работу. Мне всегда работается в море. Вернусь с законченной книгой.
Эта решимость не оставляла его; через несколько дней начнется трезвая трудовая жизнь. Нужно как-то продержаться до нее. Очень скоро все наладится.
Миссис Пинфолд разделяла эти надежды. Ей хватало хозяйственных забот, которых еще прибавили возвращенные территории. Поехать она не могла. Она, впрочем, и не думала, что ее присутствие необходимо. Только бы муж добрался до парохода, а уж там все образуется.
Она помогала ему собраться. Сам он мог только, сидя на стуле, давать путаные указания. Нужно, говорил он, взять писчую бумагу, и побольше; также чернила: иностранные никуда не годятся. И ручки. Однажды он намучался в Нью-Йорке без перьев; спасибо, нашлась лавочка, поставлявшая канцелярские товары в суды. Все иностранцы, по его теперешнему убеждению, используют какое-то особое стило. Итак, ручки и перья. О гардеробе вообще не надо думать. Выбравшись из Европы, сказал мистер Пинфолд, на любом углу найдешь китайца, который за полдня сошьет костюм.
В то воскресное утро мистер Пинфолд не пошел к обедне. До полудня он пролежал в постели, потом спустился, прихромал к окну в гостиной и устремил взгляд в голый, ледяной парк, думая о приветливых тропиках. Потом он сказал: – Боже мой, Сундук идет.
– Спрячься.
– В библиотеке нетоплено.
– Я скажу, что тебе нездоровится.
– Не надо. Он мне нравится. Тем более, если ты скажешь, что я нездоров, он еще настроит на меня свой чертов Ящик.
Во время этого недолгого визита мистер Пинфолд был старательно приветлив.
– Вы скверно выглядете, Гилберт, – сказал Сундук.
– Да ничего страшного. Приступ ревматизма. Послезавтра утром отплываю на Цейлон.
– Что так срочно?
– Погода. Надо менять обстановку. Он опустился в кресло, а когда Сундук собрался уходить, с трудом выбрался из него.
– Не надо, не провожайте, – сказал Сундук. Миссис Пинфолд ушла с ним отвязывать собаку и, вернувшись, застала мистера Пинфолда в гневе.
– Я знаю, о чем вы там говорили.
– Правда? Он рассказывал про спор Фодлов с приходским советом насчет их права на проход.
– Ты дала ему мой волос для Ящика.
– Не глупи, Гилберт.
– Когда он приглядывался ко мне, я понял, что он измеряет мои Жизненные волны.
Миссис Пинфолд остановила на нем грустные глаза. – Ты действительно нездоров, милый.
«Калибан» был не настолько большой пароход, чтобы к нему подавался специальный поезд – на регулярных рейсах из Лондона бронировались специальные вагоны. Сюда, за день до отплытия, миссис Пинфолд доставила своего мужа. Нужно было забрать в бюро билеты, но в Лондоне им овладела такая апатия, что в отеле он сразу лег в постель, распорядившись, чтобы билеты принес курьер. Очень скоро явился вежливый молодой человек. При нем была папка с документами: проездные билеты на поезд, пароход и обратные самолетом, багажные квитанции, посадочные карты, копии брони и прочее. Мистер Пинфолд с трудом понимал, что ему говорили. Он запутался собственной чековой книжке. Молодой человек смотрел на него с любопытством сверх обычного. Возможно он был его читателем. Но скорее всего его поразила необычность картины: стеная и бормоча, мистер Пинфолд возлежал, подоткнутый подушками, багрянолицый, с открытой бутылкой шампанского под боком. Мистер Пинфолд предложил ему бокал. Тот отказался. Когда он ушел, мистер Пинфолд сказал: – Мне совсем не приглянулся этот молодой человек.
– Да нет, он славный, – сказала миссис Пинфолд.
– Не внушает доверия, – сказал мистер Пинфолд. – Он глядел на меня так, словно измерял мои жизненные волны.
И он снова задремал. Миссис Пинфолд в одиночестве съела ленч внизу и вернулась к мужу, встретившему ее словами: – Надо ехать попрощаться с мамой. Закажи машину.
– Милый, тебе ведь нездоровится.
– Я всегда прощаюсь с ней перед заграницей. Я уже сказал ей, что мы приедем.
– Я позвоню и все объясню. Или, хочешь, я одна съезжу?
– Нет, я поеду. Пусть нездоровится, но я поеду. Скажи швейцару вызвать машину через полчаса.
Вдовая матушка мистера Пинфолда жила в прелестном домике в Кью. В свои восемьдесят два года она сохранила остроту зрения и слуха, но с недавних пор туговато соображала. В детстве мистер Пинфолд любил ее безудержно. Теперь осталась только надежная pietas [6]. Он уже не испытывал радости от ее общества и не стремился видеться. Его отец оставил ее в довольно трудном положении. Мистер Пинфолд пополнил ее доходы выплатами по соглашению, так что теперь она была неплохо устроена, с единственной старухой-горничной для надзора над ней, в окружении сохранившихся от старого дома вещей. Младшая миссис Пинфолд, обожавшая поговорить о детях, больше устраивала его мать, но, исполненный чувства долга, мистер Пинфолд несколько раз в году навещал ее, а перед сколько-нибудь долгим отъездом приходил всенепременно.
Похоронный лимузин отвез их в Кью. Мистер Пинфолд сидел закутанный в пледы. Опираясь на две трости, терновую и из ротанга, он прохромал в воротца и ступил на садовую дорожку. Час спустя он появился снова и, стеная, забрался на заднее сидение автомобиля. Визит нельзя было назвать удачным.
– Неудачно сходили, да? – сказал мистер Пинфолд.
– Нужно было остаться на чай.
– Она знает, что я не пью чай.
– Но я-то пью, и миссис Йеркум все приготовила. Я видела на тележке пирожные, сандвичи, оладьи.
– Беда в том, что моей матери нож острый, когда люди моложе ее хворают сильнее – за исключением, детей, конечно.
– Ты безобразно придирался к детям.
– Знаю. Проклятье. Проклятье. Я напишу ей с парохода. Дам телеграмму. Почему всем так просто быть внимательным, а я не умею?
Вернувшись в отель, он лег в кровать и заказал еще бутылку шампанского. Он снова задремал. Миссис Пинфолд мирно читала детектив в мягкой обложке. Он проснулся и весьма обдуманно заказал обед, но когда его принесли, у него пропал аппетит. Приунывшая миссис Пинфолд поела охотно. Когда столик укатили, мистер Пинфолд прохромал в ванную комнату и принял голубовато-серую пилюлю. Всего полагалось принимать три пилюли в день. Оставалась еще дюжина. Он сделал большой глоток снотворного. Бутылка была наполовину пустая.
– Я слишком налегаю, – сказал он уже не в первый раз. – Допью, что осталось, и больше не буду заказывать. – Он погляделся в зеркало. Поглядел на тыльные стороны ладоней, где опять высыпали крупные малиновые пятна. – Не на пользу все это, – сказал он и побрел к постели, рухнул там и тяжело уснул.
Назавтра его поезд был в десять часов утра. Снова заказали похоронный лимузин. Мистер Пинфолд через силу оделся и, не побрившись, отправился на вокзал. Миссис Пинфолд провожала его. Один он не нашел бы носильщика, не нашел бы своего места. Он уронил на платформу билет и обе трости.
– По-моему, тебе не надо ехать одному, – сказала миссис Пинфолд. – Подожди другого парохода, поедем вместе.
– Нет, нет. Со мной все будет хорошо.
Но несколько часов спустя, добравшись до пристани, мистер Пинфолд был настроен уже не столь оптимистически. Большую часть пути он спал, то и дело просыпаясь, чтобы раскурить сигару и уронить ее после нескольких затяжек. Когда он выбирался из вагона, боли обострились как никогда. Шел снег. Пути от поезда до парохода не было видно конца. Другие пассажиры поспешали. Мистер Пинфолд еле полз. На набережной мальчик-телеграфист принимал телеграммы. К этому времени миссис Пинфолд должна была вернуться в Личпол. Мистер Пинфолд с великим трудом написал: «Благополучно сел. С любовью». Затем он направился к сходням и с трудом поднялся на борт.
Цветной стюард проводил его в каюту. Опустившись на койку, он невидяще огляделся. Вот еще что надо сделать: дать телеграмму матери. На столике лежала писчая бумага с названием корабля и флагом компании сверху страницы. Мистер Пинфолд попытался составить и записать текст. Это оказалось непосильной задачей. Он бросил в корзину испорченный лист бумаги и продолжал сидеть на койке, как был в шляпе и пальто, с палками по бокам. Вскоре прибы– ли оба его чемодана. Некоторое время он смотрел на них, потом начал распаковываться. Это тоже оказалось трудным делом. Он позвонил и появился тот цветной стюард, кланяясь и улыбаясь.
– Я не очень хорошо себя чувствую. Вы не могли бы помочь мне распаковаться?
– Обед в семь тридцать, сэр.
– Я говорю, вы не могли бы разобрать мои вещи?
– Нет, сэр, в порту бар закрыт, сэр.
Человек улыбнулся, поклонился и покинул мистера Пинфолда.
Мистер Пинфолд продолжал сидеть в шляпе и пальто, с тростью и палкой в руках. Вскоре появился стюард-англичанин со списком пассажиров, с какими-то бумагами и сообщением: – Капитан свидетельствует вам свое почтение, сэр, и имеет честь пригласить вас за свой стол в кают-компании.
– Как – сейчас?
– Нет, сэр. Обед в 7.30. Я не думаю, что сегодня капитан будет обедать в кают-компании.
– Не думаю, что я тоже буду обедать сегодня, – сказал мистер Пинфолд. – Поблагодарите капитана от моего имени. Очень любезно с его стороны. В следующий раз. Тут сказали, что бар закрыт. Вы можете принести мне бренди?
– Конечно, сэр. Думаю, что смогу, сэр. Какой марки?
– Бренди, – сказал мистер Пинфолд. – Большой бокал.
Бренди собственноручно принес старший стюард.
– Спокойной ночи, – сказал мистер Пинфолд. В чемодане сверху он нашел все, что требовалось ему на ночь. Среди прочего, пилюли и бутылку со снотворным. Бренди встряхнуло его. Нужно отправить телеграмму матери. Держась за стены, он выбрался в коридор и прошел к судовому кассиру. Тот был на месте, за решеткой, хлопотливо разбирался с бумагами.
– Я хочу отправить телеграмму.
– Рады служить, сэр. На сходнях дежурит мальчик.
– Я не очень хорошо себя чувствую. Вы не будете так любезны записать ее своей рукой?
Кассир поднял на него тяжелый взгляд, отметил небритые щеки, учуял запах бренди и, умудренный опытом, смирился.
– Сочувствую вам, сэр. Буду рад помочь. Мистер Пинфолд продиктовал «На пароходе всяческое понимание. С любовью. Гилберт», брякнул на стол пригоршню серебра и пробрался обратно к себе в каюту. Там он принял большие серые пилюли и глотнул снотворное. После чего, не помолившись, улегся в постель.
Произведения
Критика