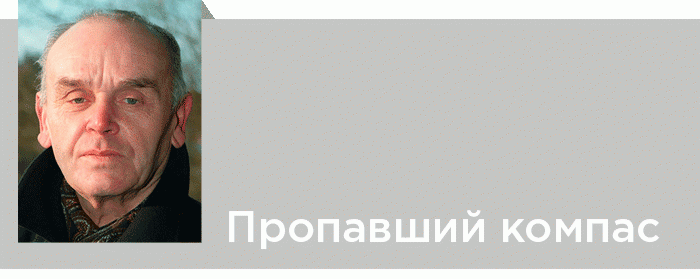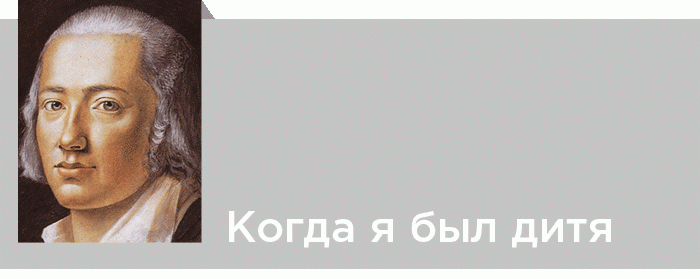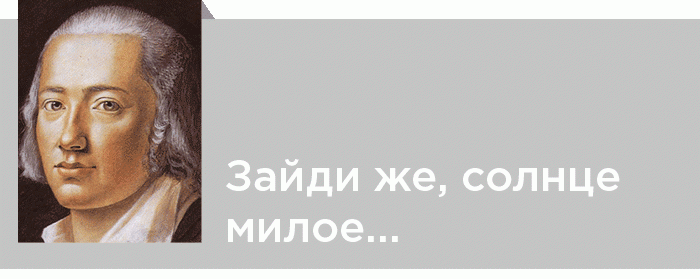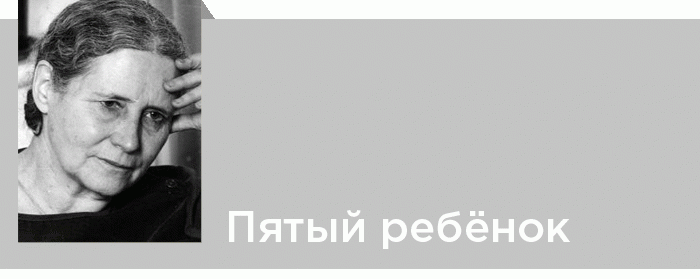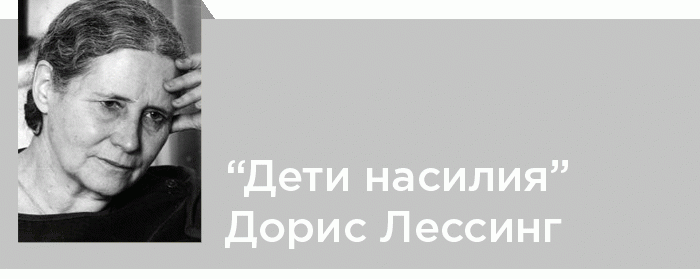Дорис Лессинг. Марта Квест

(Отрывок)
Этот роман я посвящаю моей матери, которая оказывала мне такую великодушную и всестороннюю помощь, когда я его писала
Часть первая
Мне все так опротивело — даже будущее, хотя оно еще не наступило.
Олив Шрейнер
1
Две немолодые женщины вязали на веранде, защищенной от солнца завесой золотистого вьюнка; его тугие стебли были так густо усыпаны цветами, что оранжевые гроздья сдерживали, точно плотина, потоки слепящего полуденного света, который едва пробивался сквозь них. За этим пестрым барьером был затененный уголок, образованный с двух сторон стенами из глины, смешанной с навозом, а с третьей — скамейкой, уставленной раскрашенными жестянками из-под керосина, в которых росла красная и белая герань. Проникающие сквозь листву лучи солнца осыпали своими золотыми брызгами красный цементный пол и сидящих женщин. Они расположились тут с самого утра и будут сидеть до заката и болтать, болтать, благо язык без костей. Зовут их миссис Квест и миссис ван Ренсберг. На ступеньках веранды, на самом солнцепеке, примостилась Марта Квест, девочка лет пятнадцати, угловатая и неловкая: она то и дело меняла позу, стараясь, чтобы яркий свет не падал на лежащую на коленях книгу.
Марта хмурилась и время от времени кидала на женщин раздраженный взгляд: трещат без устали, никак не сосредоточишься. Но ведь ничто не мешало ей пересесть на другое место, поэтому злость, которая вспыхивала в ее душе всякий раз, когда к ней обращались с вопросом или когда в связи с тем или иным семейным событием упоминалось ее имя, была просто нелепа. А женщины нет-нет да и останавливали на девочке рассеянный, невидящий взор и даже понижали голос; тогда она поднимала голову и бросала на них взгляд, исполненный откровенного презрения, ибо она читала книгу Хэвелока Эллиса о проблеме пола и приняла все меры к тому, чтобы это дошло до сознания миссис Квест и ее гостьи: и зачем они так глупо переходят на шепот всякий раз, когда, сдабривая жвачку унылых пересудов о своей жизни, прислуге, детях, стряпне, заводят речь о чьих-нибудь родах или каком-нибудь скандале. По правде говоря, Марта читала вовсе не Хэвелока Эллиса, а совсем другую книгу, которую ей дали братья Коэн со станции; творение же Эллиса лежало на верхней ступеньке заглавием кверху, главным образом для того, чтобы позлить взрослых. Но ведь беседы между матерями семейств следуют определенному ритуалу, и Марте, которая большую часть своей жизни провела в атмосфере таких разговоров, пора бы знать, что у собеседниц и в мыслях нет кого-либо оскорбить. Просто, когда они входили в свои роли, им хотелось и Марту видеть в соответствующей роли «молоденькой девушки».
А на другом конце веранды в двух шезлонгах, поставленных рядом, сидели, глядя на буйные заросли кустарников и маисовые поля, мистер Коэн и мистер ван Ренсберг и беседовали об урожае, о погоде, о проблеме взаимоотношений с цветными. Оба джентльмена решительно повернулись спинами к женщинам, словно хотели подчеркнуть, что мужчинам, живущим неделями в накаленной атмосфере своего семейства и вне дома знающим только полевые работы, просто необходимо иной раз потолковать на отвлеченные темы. То, о чем они говорили, было так же хорошо знакомо Марте, как и то, о чем говорили женщины; обе беседы двумя струями неторопливо вливались в ее сознание и проходили через него подобно току крови, который она ощущала, лишь когда с раздражением вытягивала длинные, голые, загорелые ноги, затекавшие от неудобного положения. Услышав навязшую в зубах фразу: «Правительство рассчитывает, что фермеры…» и в ответ: «Кафры совсем распустились, ведь они…», Марта резким движением выпрямилась, и ее раздражение перешло в чувство неприязни к родителям. Просто невыносимо слушать все одно и то же: с тех пор как она себя помнит, они ни о чем другом не говорят, — и Марта перевела взгляд на раскинувшийся до самого горизонта вельд.
В книгах, которые читала Марта, под словом «ферма» разумелся небольшой, аккуратный, тщательно возделанный участок с чистеньким домиком, а вокруг — поля. Перед Мартой же на целую милю раскинулись заросли, и лишь за ними виднелась полоска красной распаханной земли; потом опять заросли — мрачные, темно-зеленые, они взбирались по склону холма, окружая другой клочок земли; а за ним снова заросли — покрывая гряду за грядой, впадину за впадиной, они катили свои волны до самого горизонта, где вставала цепь голубоватых холмов. Видневшиеся, вдалеке поля были только робкой попыткой изменить почти нетронутый человеком ландшафт. И если бы, скажем, ястреб, широкими кругами чертивший небо над головой Марты, посмотрел вниз, он увидел бы под собой дом, торчавший на верхушке пологого холма, кучку камышовых хижин — селение туземцев, сгрудившееся на полмили ниже, — с десяток обработанных участков и больше ничего, что могло бы привлечь его взгляд, издревле устремленный вниз, ничего, что не было бы известно тысячам поколений предков этого ястреба.
Дом Квестов стоял на холме, в центре обширной, опоясанной горами котловины, и словно врезался в синеву небес, открытый всем ветрам. Прямо перед ним были Дамфризовы холмы, от которых его отделяло семь миль; семь миль было и до Оксфордской цепи, которая постепенно переходила на западе в покатые холмы; семь миль и до длинной горбатой горы на востоке, называвшейся Джейкобс-Бург. Позади не было ни гор, ни холмов — необъятная, бескрайняя равнина тянулась на север, сливаясь с голубоватым маревом и словно уводя в страну мечты, без которой немыслима жизнь.
А над всем этим, подобно опрокинутой чаше, лежало безоблачное африканское небо, так ослепительно сверкавшее, что у Марты резало глаза и она вынуждена была смотреть вдаль, а не вверх. Эти привычные безбрежные просторы вызывали у девочки лишь неприятное ощущение, какое, вероятно, бывает у птицы, попавшей в клетку.
Она перевела взгляд на книгу. Читать ей не хотелось: это был научно-популярный труд, самое название которого вызывало в Марте легкое, но безусловное раздражение. Если бы Марта умела выразить свои чувства словами, она, быть может, сказала бы, что спокойная деловитая манера изложения просто не соответствует ее смятенному душевному состоянию; а быть может, девочку настолько раздражали окружающая среда и собственные родители, что раздражение это распространялось на все, что попадало в ее поле зрения. Она отложила книгу и взяла Эллиса. Вообще говоря, пятнадцатилетнему подростку едва ли может показаться скучной книга, посвященная проблеме пола, но Марта никак не могла ею увлечься: интересные факты, которые были в ней подобраны, казалось, не имели никакого отношения к тем проблемам, которые девочка пыталась для себя решить. Она подняла глаза и испытующе посмотрела на миссис ван Ренсберг, мать одиннадцати детей.
Это была толстая, добродушная и в общем приятная женщина, в аккуратном цветастом ситцевом платье, свободном и длинном, с белым платочком, повязанным вокруг шеи, что придавало ей сходство с портретом ее бабушки. Длинные юбки и свободно повязанные вокруг шеи косынки были тогда в моде, но на миссис ван Ренсберг такой костюм производил впечатление чего-то старомодного. Марте это даже нравилось, но тут взгляд ее упал на ноги гостьи. Большие, бесформенные, мозолистые, с лиловыми венами, проступавшими сквозь покров загара, они беззастенчиво вылезали из зеленых сандалий, ища удобного положения. И Марта вдруг подумала с отвращением: ведь у миссис ван Ренсберг такие ноги потому, что у нее много детей.
Миссис ван Ренсберг была, что называется, женщина необразованная и (при случае, если того требовали приличия) могла посокрушаться о своем невежестве, хотя, глядя на нее, нельзя было сказать, что она жалеет об этом, — да она и не жалела. И все-таки сокрушалась, когда, скажем, миссис Квест вызывающе утверждала, что Марта — умница и уж конечно выбьется в люди. То, что голландка умудрялась сохранять при этом полнейшее спокойствие и добродушие, служило лишь доказательством ее силы воли, ибо выражение «выбьется в люди» миссис Квест употребляла вовсе не в том смысле, что Марта, скажем, станет врачом или юристом, — нет, это утверждение имело целью поразить мир и означало: «Моя дочь будет человеком, а ваша — просто чьей-нибудь женой». В свое время миссис Квест была типичной английской девушкой, хорошенькой, с мальчишеской фигурой, светло-каштановыми косами и голубыми, ясными, как весенний солнечный день, глазами; теперь же это была усталая, разочарованная в жизни, но решительная матрона, питающая честолюбивые планы относительно будущего своих детей, — впрочем, она стала бы такой, если бы и не покидала Англии.
Обе женщины уже много лет жили в этой сельской глуши, в семидесяти милях от ближайшего городка, который и сам-то был изрядным захолустьем; но в наши дни нет такого места на свете, которое было бы отрезанным от мира: у обоих семейств имелось радио, и они регулярно получали газеты «из дому» — консервативные газеты из Англии для Квестов и националистические листки из Южно-Африканского союза для ван Ренсбергов. Обе женщины были достаточно хорошо знакомы с духом времени и отдавали себе отчет в том, что кое-что в поведении детей может их шокировать — взять хотя бы эту самую книгу, которую Марта держит сейчас в руках; для них ее название отдавало клиникой, они о таких вещах и не задумывались. Вообще-то поведение Марты не вызвало бы ничего, кроме традиционного добродушно-сокрушенного вздоха, если бы ее упорное сидение на ступеньках не было само по себе вызывающим. И миссис Квест, считая необходимым каждые полчаса напоминать Марте, что она дождется солнечного удара, если не уйдет в тень, полагала равно необходимым время от времени вставлять сентенцию о том, что такое чтение едва ли может принести девушкам особый вред; услышав это, Марта бросала на кумушек взгляд, исполненный глубочайшего презрения, — взгляд человека несчастного и отчаявшегося, ибо в глубине души она сознавала, что взялась за эту книгу им назло, из чувства самоутверждения, а теперь это надежное оружие вдруг потеряло свой смысл и всю свою остроту.
Три месяца назад ее мать гневно заявила, что Эпштейн и Хэвелок Эллис омерзительны:
— Если через тысячу лет ученые займутся раскопками нашей цивилизации и найдут статуи Эпштейна и писания этого самого Эллиса, они решат, что мы были настоящими дикарями.
В эту пору жители колонии — без всякого желания с их стороны — были приобщены (по причинам дипломатического и финансового порядка) к так называемому «модернистскому искусству», что вызвало у них такую реакцию, словно им — каждому порознь и всем вместе — нанесено величайшее оскорбление. Статуи Эпштейна, уверяли они, даже условно нельзя признать изображением человека. Миссис Квест заимствовала эту точку зрения из передовой статьи «Замбези ньюс» — это было, пожалуй, первое суждение об искусстве и литературе, которое она высказала за последние двадцать лет. Марта же немедленно отправилась на станцию и взяла у братьев Коэн книжку об Эпштейне. Тут-то и выявилось одно из преимуществ человека, чьи вкусы не были сформированы под влиянием той или иной школьной способен смотреть на работы какого-нибудь Эпштейна с тем же глубоким интересом, что и на творения Микеланджело. Именно так и получилось с Мартой. Она была озадачена тем, что увидела, и решила показать матери книгу с репродукциями работ Эпштейна. Но миссис Квест в ту минуту была очень занята, да и впоследствии так и не выкроила времени, чтобы объяснить Марте, почему эти творения так непристойны и отвратительны, равно как и писания Хэвелока Эллиса.
И Марте казалось, что она совсем дура и всеми отринута. К тому же она знала, что у нее дурной характер и что она груба. Каждый день она принимала решение, что «отныне» будет совсем другой. Но сидевший в ней бесенок роковым образом всегда брал верх, вынуждая ее настораживаться при малейшем замечании матери, взвешивать его и, принимая вызов, огрызаться, хотя противника к этому времени уже и след простыл, ибо миссис Квест вся эта полемика просто не интересовала.
— Ах, — сказала миссис ван Ренсберг, помолчав, — важно не то, что человек читает, а как он себя ведет. — И она с искренним расположением посмотрела на Марту, ставшую пунцовой от злости и долгого пребывания на солнцепеке. — У тебя разболится голова, девочка, — машинально добавила она.
Но Марта даже не шевельнулась, упрямо склонившись над книгой, только глаза ее наполнились слезами.
Кумушки же, естественно, принялись болтать о том, как они вели себя, когда были молоды, опуская, впрочем, некоторые подробности, ибо миссис ван Ренсберг понимала, что многое в ее жизни могло бы смутить англичанку; поэтому они обменивались не воспоминаниями, а фразами, подсказанными им традициями, которые в общем мало чем отличались друг от друга, хотя миссис ван Ренсберг принадлежала к голландской реформистской церкви, а Квесты — к англиканской. Политических проблем они никогда не обсуждали, как не обсуждали и… Но что же они, собственно, обсуждали? Марта часто думала о том, что их многолетняя дружба, в сущности, устояла потому, что они о многом умалчивали — точнее, обо всем сколько-нибудь важном; эта мысль вызывала в девочке возрастающую неприязнь ко всему, что ее окружало, — неприязнь, постепенно ставшую в ней преобладающим чувством. С другой стороны, поскольку одна из приятельниц была закоренелой англичанкой, а вторая — закоренелой африкандеркой,[2] их дружбу можно было рассматривать как победу такта и добросердечия над почти непреодолимыми препятствиями, ибо в силу традиций они должны были ненавидеть друг друга. Марте подобные взаимоотношения казались, конечно, недопустимыми, ибо ее представления о дружбе были совсем иными и она до сих пор ждала появления настоящего, идеального друга.
«Друг, — переписала она чью-то мысль себе в дневник, — это прекрасный плавучий остров, поросший пальмами, который вечно ускользает от морехода, скитающегося по волнам Тихого океана…» — и так далее, до следующей подчеркнутой фразы: «Прошел слух, что земля эта обитаема, но потерпевший крушение мореход не видел на берегу следа человеческой ноги». И ниже: «Наши настоящие друзья — лишь отдаленное подобие тех, кому мы отдали свою душу».
Но неужели можно считать миссис ван Ренсберг хотя бы таким «отдаленным подобием»? Конечно нет. Это было бы осквернением священного понятия дружбы.
Марта слушала (уже не в первый раз) нескончаемый рассказ миссис ван Ренсберг о том, как за нею ухаживая мистер ван Ренсберг, — рассказ, до смешного лишенный всего, что хоть в какой-то мере могло быть названо романтическим (только не Мартой, инстинктивно разделявшей взгляды своего времени и отрицавшей романтику). Затем миссис Квест — в той же смешной манере, хоть и гораздо суше — рассказала о том, как выходила замуж она. Окончив свои повествования, подвергшиеся пусть непроизвольной, но тщательной цензуре, обе женщины посмотрели на Марту и одновременно сокрушенно вздохнули. Традиция требовала, чтобы они проповедовали осторожную мораль, которая помогала бы молодежи, была бы основой их разумной и достойной жизни; но, взглянув на лицо Марты, обе женщины растерялись. Миссис ван Ренсберг нерешительно помолчала, затем твердо заявила (твердость эта была направлена на то, чтоб подавить свою же собственную нерешительность):
— Девушка должна вести себя так, чтобы мужчины уважали ее.
Марта взглянула на нее с такой ненавистью и презрением, что почтенная матрона даже вздрогнула и поспешно повернулась к миссис Квест, как бы ища у нее поддержки.
— Конечно, — довольно неуверенно согласилась миссис Квест. — Мужчина ни за что не женится на девушке, которую он не уважает.
Марта медленно выпрямилась, захлопнула книгу, точно больше в ней не нуждалась, и, поджав губы, вся побелев от усилий, которых ей стоило сдержать свою ненависть, в упор посмотрела на обеих женщин. Затем поднялась и сказала тихим, сдавленным голосом:
— Какие вы гнусные: все взвешиваете, рассчитываете… — Тут она вынуждена была умолкнуть: от возмущения у нее перехватило дыхание. — Вы отвратительны, — дрожащими губами выговорила наконец она. И, повернувшись, бегом пересекла садик и исчезла в зарослях.
Обе женщины молча смотрели ей вслед. Миссис Квест была огорчена: она не понимала, почему дочь считает ее отвратительной; а миссис ван Ренсберг силилась найти подобающие сочувственные слова.
— Трудный ребенок, — виновато пробормотала миссис Квест.
А миссис ван Ренсберг сказала:
— Такой уж возраст; моя Марни ничуть не лучше.
Она и не предполагала, что слова ее были совершенно не к месту: миссис Квест никогда не поставила бы свою дочь на одну доску с Марни, которую она считала девушкой дурного тона — в пятнадцать лет красит губы, одевается как взрослая, и только и разговору, что о «мальчиках». Но миссис ван Ренсберг и не догадывалась, что задела самое больное место миссис Квест. Строгость, с какой воспитывали Марту, миссис ван Ренсберг относила за счет чисто английской придури своей приятельницы; что же касается Марни, то миссис ван Ренсберг была вполне уверена, что из нее выйдет разумная женщина, хорошая жена и мать. Итак, она продолжала разглагольствовать о Марни, а миссис Квест, не зная, как прервать свою бестактную собеседницу, внимала ей, время от времени вставляя: «Конечно», «Совершенно верно», про себя же думала: «Вся беда в том, что Марте приходится общаться с неподходящими девушками», разумея ту же Марни. Но голландка продолжала гнуть свою линию, ибо чувство национальной гордости было у нее развито не менее сильно, чем чувство превосходства у англичанки; тем не менее скоро их беседа снова перешла на служанок и стряпню. А вечером каждая принималась жаловаться мужу — одна с присущим англичанам неумением разбираться в классовых проблемах говорила, что миссис ван Ренсберг «ужасно нудная», а другая напрямик заявляла, что эти английские выродки когда-нибудь ее доконают: все на один манер, вообразили, будто им принадлежит вся земля, по которой они ступают. Но можно было предсказать заранее, что через некоторое время, смутно чувствуя себя виноватыми, приятельницы схватятся за трубку местного телефона, позвонят друг другу и проболтают с полчаса о слугах и стряпне. И все пойдет обычным чередом.
Тем временем Марта в припадке девичьей тоски лежала в высокой траве под деревом, повторяя про себя, что ее мать — отвратительное существо и что вообще «все эти старухи» отвратительны, а все знакомые, с их ложью, увертками, компромиссами, просто мерзки. Тоска эта — особая, и свойственна она молодым людям: им кажется, что обстоятельства мешают им наслаждаться всей полнотой жизни, которой так жаждет каждый их нерв, все их чувства.
Марта успокоилась довольно быстро. В ней пробудился инстинкт самосохранения, и она вся сразу как-то собралась и ожесточилась. Суровым и удивленным взором смотрела она на раскинувшиеся у ее ног, залитые солнцем, сверкающие заросли — она не видела их, она видела лишь себя, а видеть себя она могла только сквозь призму литературы. Если читать романы из жизни прошедших времен и считать, что они правильно отражают — как мы надеемся и верим — жизнь описываемой эпохи, то волей-неволей приходишь к убеждению, что жить молодым людям в те времена было куда легче, чем теперь. Разве X, Y и Z, эти жизнерадостные герои и героини, ненавидели школу, презирали не понимавших их родителей и учителей, вели всю жизнь борьбу за то, чтобы вырваться из среды, которую они считали неизмеримо ниже себя? Нет, конечно; а вот когда через сотню лет будут читать романы о нашем времени, то придут к выводу, что для всех без исключения юность была своего рода болезнью, ибо трудно найти хотя бы один роман, в котором не говорилось бы об этом. Ну а дальше что? Марта металась и не видела выхода.
Быть может, думала она (обращаясь к горькому юмору — ее прибежищу в такие минуты), нужно просто поставить крест на периоде, скажем, с четырнадцати до двадцати лет, как на чем-то предопределенном, и ждать наступления более счастливых времен, когда молодое существо — в полном сознании своей правоты — сможет опять наслаждаться жизнью? Какие счастливцы писатели будущего! Они смогут с легким сердцем писать о чем угодно, не испытывая чувства, что уклоняются от решения каких-то проблем: такая же вот Марта пойдет, как все дети, в школу, будет уважать своих учителей и любить родителей, будет уверенно смотреть в будущее, зная, что ее ждет счастливая и разумная жизнь! Но в таком случае (и тут Марта почувствовала, как ее всю передернуло от злости на этих холодных, равнодушных менторов, назойливо и упорно анализирующих в многотомных трудах состояние ее духа) о чем же они станут писать?
После вспышки злости, в которой Марта искала выход для обуревавших ее чувств, ей стало легче, она опять поверила в свои силы и, улегшись на спину, принялась раздумывать о себе. Хотя она часто с обидой сознавала, что на нее возложено бремя, о котором молодежь былых времен и понятия не имела, она не менее ясно сознавала и то, что выковывает оружие, которое поможет ей нести это бремя. Правда, она чувствовала себя несчастной, но в то же время обладала способностью бесстрастным оком взирать на свое несчастье. Этой способностью наблюдать себя со стороны — как если бы в мозгу ее, сразу за лобной костью, оживало крошечное ярко освещенное пространство — она была обязана братьям Коэн со станции, которые последние два года давали ей читать разные книжки. Джосс Коэн интересовался экономикой и социологией; книги на эти темы Марта читала, но они не волновали ее. Солли Коэн был прямо влюблен (другого слова не подберешь) в психологию: он страстно защищал все, что имело к ней хоть какое-то отношение, даже если взгляды любимых им героев противоречили друг другу. Вот из этих-то книг Марта и уяснила себе, что она такое, если смотреть со стороны. Она — подросток, и потому самой судьбой ей суждено быть несчастной; англичанка — и потому должна чувствовать себя неловко, всю жизнь обороняться от нападок; живет в четвертом десятилетии двадцатого века — и потому не может не сталкиваться с проблемами рас и классов; женщина — и потому вынуждена протестовать против закабаления женщин, существовавшего в прошлом. Ее мучило чувство вины, ответственности, стыда, но она не стремилась избавиться от этих мучений, хотя временами понимала, что братья Коэн, благодаря которым она увидела себя такой, испытывают от этого некое злобное удовольствие — вполне, впрочем, естественное. Порой она их ненавидела.
Но они, пожалуй, не ожидали, что умение объективно смотреть на себя со стороны приведет Марту к такому весьма неразумному выводу: «Ну хорошо, если обо всем этом уже давно сказано ясно и отчетливо, то зачем же мне мучиться? Раз нам это известно, почему мы еще и сами непременно должны пройти через это?» Она чувствовала, правда довольно смутно, что настало время сделать шаг вперед, к чему-то новому: уже недостаточно только называть вещи своими именами.
Главное же, что и сами эксперты, казалось, не знали, как она должна смотреть на себя. Одна группа утверждала, что ее участь была уже предопределена, когда она — слепой комочек — еще ворочалась в утробе миссис Квест. Она прошла через все стадии — рыбы, ящерицы, обезьяны, ее баюкали воды древних морей, в ушах отдавался гул прилива. Но этот прилив — ток крови миссис Квест — пел Марте не о чем-то далеком и неведомом — то были песни гнева, любви, страха, возмущения, оседавшие в податливом мозгу младенца, как веления рока.
Другие эксперты считали, что самый процесс рождения определил дальнейший путь Марты. В ту долгую ужасную ночь, в ночь тяжелых родов, когда все внутренности миссис Квест конвульсивно сжимались, стремясь освободиться от бремени, протолкнуть его сквозь неподатливые ворота костей (ибо миссис Квест была уже немолода для первого ребенка), в то самое время, когда Марта появилась на свет, вконец обессиленная, с багрово-красными следами от щипцов на лице, — и сложился ее характер, предопределивший всю ее дальнейшую жизнь.
А сколько было еще всяких школ и группок, сходившихся только в том, что в первые пять лет жизни закладывается основа всего последующего. Именно в эти годы (хотя Марта не помнила их), оказывается, происходили какие-то события, которые навсегда наложили на нее свой роковой отпечаток. О роке, предопределении твердили все. Марте, во всем несогласной со своими родителями, постоянно внушали, что ей не освободиться от их влияния и что слишком поздно себя переделывать. Она дошла до того, что чтение любой книги на эту тему вызывало у нее ощущение опустошенности и усталости, совсем как после долгих препирательств с матерью. Когда туземец-носильщик, чуть не бегом бежавший через вельд, приносил ей новую пачку книг от братьев Коэн, один вид этих книг уже приводил Марту в бешенство: на нее вдруг нападала усталость, и, лишь преодолев внутреннее сопротивление, она заставляла себя взяться за них. В ее спальне валялось с десяток книг, но она и не притрагивалась к ним: она знала, что, прочитав их, будет располагать более обширными сведениями о себе и будет еще меньше знать, как эти сведения использовать.
Но если Марта чувствовала себя несчастной от чтения книг, которые присылали ей Коэны, то те дни, когда она могла зайти к ним в лавку и повидать их, были счастливейшими в ее жизни. Беседа с ними преисполняла ее радостного возбуждения, все казалось ей тогда легким и достижимым. Когда ее родители приезжали на станцию, она тут же устремлялась в лавку для кафров; а иной раз ее подвозила туда попутная машина. Иногда же она ездила туда на велосипеде — только тайно, поскольку это ей запрещалось. Но дружбе ее с Коэнами не хватало простоты и открытости, и виною тому была миссис Квест. Не далее как на прошлой неделе она пререкалась по этому поводу с Мартой. Но не такой человек была миссис Квест, чтобы прямо сказать: «Я не хочу, чтобы ты водилась с этими евреями лавочниками». А потому начала она с того, что, мол, евреи и греки без зазрения совести эксплуатируют туземцев — больше, чем кто-либо, — и кончила тем, что прямо не знает, как быть с Мартой: она, видно, решила вогнать в гроб свою мать. И впервые на памяти Марты миссис Квест заплакала: хоть говорила она и не искренне, чувства ее были искренни вполне. И Марту глубоко взволновали слезы матери.
Накануне Марта совсем уже решила вытащить свой велосипед и отправиться на станцию — так ей необходимо было повидать братьев Коэн, но мысль о том, что мать опять устроит сцену, удержала ее. И она с виноватым видом поставила велосипед на место. Вот и сейчас, хотя ей больше всего на свете хотелось объяснить родителям, почему она так глупо и дико вела себя в присутствии миссис ван Ренсберг, — они добродушно посмеялись бы и происшествие перестало бы казаться чем-то из ряда вон выходящим, — Марта не могла принудить себя встать и выйти из-под сени большого дерева, не говоря уже о том, чтобы взять велосипед и тайком, в расчете, что никто ее не хватится, съездить на станцию. Поэтому она продолжала лежать под деревом, жесткие корни которого врезались ей в спину, и смотрела сквозь просветы в листве на ослепительное, отливавшее бронзой небо. Она растирала в ладонях мясистые листья и думала опять-таки о матери и миссис ван Ренсберг. Она не будет такой, как миссис ван Ренсберг, — толстой, практичной, хозяйственной женщиной; и не будет вечно ноющей, недовольной и раздраженной, как мать. Но на кого же она в таком случае будет похожа? Она перебрала в уме героинь, чьи образы подсказывала ей литература, и всех их отмела. Казалось, целая пропасть отделяет ее от прошлого; мысли, словно стая голодных рыб, метались, сталкиваясь в ее мозгу; она села, потирая затекшую поясницу, и посмотрела вниз вдоль аллей, обсаженных чахлыми деревцами, туда, где за тонким ковриком бурой редкой травы лежали рыжие пятна полей, невидимые из дома.
Там ползла четверка волов, запряженных в плуг, за ними туземец погонщик с длинным хлыстом, а впереди шагал чернокожий малыш, весь голенький, если не считать набедренной повязки, держа в руках повод, продетый сквозь ноздри первой пары волов. Погонщик не вызвал у Марты никаких симпатий — это был человек жестокий и грубый, слишком уж усердно пользовавшийся своим хлыстом, но жалость, в которой Марта отказывала себе, обратилась на чернокожего малыша, окутала его словно одеялом. И опять мысли в ее мозгу закружились, сталкиваясь друг с другом, как льдины во время ледохода, и вместо одного маленького чернокожего она увидела множество и по обыкновению без труда перенеслась в страну грез, замечтавшись с открытыми глазами. Она смотрела вдаль, где за распаханными полями и вельдом возвышалась гряда Дамфризовых холмов, и силою мечты преображала эту девственную страну. Там, над колючей листвой зарослей и чахлых деревьев, сверкая белизной, встал величественный город — улицы его пересекаются под прямым углом, дома украшены колоннами, к ним ведут открытые, обсаженные цветами террасы. Из города доносятся звуки лютен и плеск фонтанов, а по улицам движутся его обитатели, такие красивые и степенные, — черные, белые, коричневые; старики останавливаются и с улыбкой удовольствия смотрят на детей; голубоглазые беленькие детишки северян играют с бронзовыми темноглазыми детишками жителей юга, и взрослые улыбаются, глядя с одобрением, как дети столь разных отцов бегают вокруг белых колонн и высоких деревьев, среди цветов, окаймляющих террасы этого сказочного и древнего города…
Прошло около года. Марта сидела под тем же деревом, примерно в той же позе и бессознательно растирала между пальцами целые пригоршни листьев, превращая их в зеленую клейкую массу. Перед ее глазами стояло то же видение, только теперь все было продумано до мельчайших подробностей. Она могла бы начертить план этого города — от рыночной площади в центре до четырех ворот на окраинах. За воротами стоят ее родители, ван Ренсберги и большинство окрестных жителей, навеки изгнанных из этого солнечного города из-за узости и ограниченности своего кругозора; они удручены, им хочется войти в город, но их не пускает туда суровая, безжалостная Марта. К сожалению, за все, даже за мечты, приходится расплачиваться, и, по версии Марты, в золотой век у ворот прекрасного города непременно будет кто-то стоять и не пускать недостойных. Внезапно Марта услышала шаги и повернула голову: по узкой тропинке осторожно спускалась Марни, неуверенно ступая по камням на своих высоких каблуках.
— Эй, — взволнованно окликнула ее Марни, — слышала новость?
Ресницы Марты дрогнули, прогоняя видение, и она довольно сухо ответила:
— А, здравствуй.
Разница между нею и Марни сразу бросалась в глаза: волосы у Марни завиты, губы намазаны, ногти накрашены, на лице — жеманная, глупая улыбка, Марни нарочно улыбается так, чтобы казаться взрослее, только ей не удается подолгу сохранять эту маску, ибо девушка она от природы простая и здравомыслящая. Сейчас она была чем-то очень взволнована и походила на рослую школьницу, вырядившуюся потехи ради; однако при виде Марты, растянувшейся на траве и казавшейся в своем нескладном цветастом ситцевом платье преждевременно развившейся девчушкой лет одиннадцати (впечатлению этому способствовали длинные светлые волосы, перевязанные ленточкой), Марни вспомнила, что на ней нарядное платье, осторожно опустилась на траву, вытянула ноги в черных туфельках на высоком каблуке и с довольным видом посмотрела на свои шелковые чулки.
— Моя сестра выходит замуж, — объявила она.
Их было пять сестер, две — уже замужние, поэтому Марта спросила:
— Которая же? Мари?
Теперь на выданье была Мари.
— Ну что ты, какая Мари! — нетерпеливо, с пренебрежением воскликнула Марни. — Да разве она когда-нибудь найдет себе мужа? Ведь в ней нет никакой изюминки.
При словах «найдет себе мужа» Марта вспыхнула, нахмурилась и отвернулась. Марни вопросительно посмотрела на нее и встретила такой презрительный взгляд, что тоже покраснела, хоть и не знала почему.
— Ты даже не спрашиваешь кто, — с укоризной, но все же несколько смущенно сказала она и тут же выпалила: — Хочешь верь, хочешь нет — это Стефани.
Стефани было семнадцать лет. Но Марта только кивнула, услышав новость.
Совсем сбитая с толку, Марни промолвила:
— Что ни говори, а она здорово устроилась. У него восьмицилиндровая машина, а ферма даже больше, чем у папки.
От этого «здорово устроилась» Марта снова в душе содрогнулась. Неожиданная мысль вдруг прорезала ее сознание: «Я критикую мать за презрение к людям, а сама презираю ван Ренсбергов и считаю себя вправе это делать только потому, что у меня это — от ума». Однако Марта не могла допустить, чтобы эта мысль приняла у нее отчетливую форму, — она хоть и с большим трудом, но все же занималась самовоспитанием. И, помолчав немного, она через силу выдавила из себя:
— Я рада. Хорошо будет погулять на свадьбе.
Но сказано это было без всякого воодушевления. Марни вздохнула и, чтобы утешиться, посмотрела на свои хорошенькие наманикюренные ноготки. Ей так хотелось бы потолковать по душам с какой-нибудь сверстницей. Хотя среди африкандеров, поселившихся подле фермы ее отца, и были девочки ее возраста, Марни восхищалась Мартой и мечтала подружиться именно с ней. Она чуть не сказала, захлебываясь от смеха, что ей самой уже шестнадцать лет и что на будущий год — если «повезет» — она тоже, как и Стефани, могла бы «найти себе мужа». Однако, встретив взгляд Марты, смотревшей на нее из-под нахмуренных бровей, Марни пожалела, что не осталась на веранде, где обе матери обсуждали захватывающие подробности ухаживания и замужества. Но такова уж традиция: мужчины должны беседовать с мужчинами, женщины — с женщинами, а дети играть с детьми. Марни не считала себя ребенком, тогда как Марта, по-видимому, считала. И Марни решила, что если она одна вернется на веранду, то сможет присоединиться к беседе женщин, а если с ней будет Марта, их непременно прогонят. Она сказала:
— Моя мама сейчас рассказывает все твоей.
На что Марта с безотчетным раздражением заметила:
— Ну, в таком случае она насплетничается всласть. — И тут же добавила, спеша загладить свою неучтивость: — Маме это доставит большое удовольствие.
— О, я знаю, твоя мама не хочет, чтобы ты рано вышла замуж, она хочет, чтобы ты вышла в люди, — великодушно заметила Марни.
Но Марта снова нахмурилась и со злостью сказала:
— Нет, она была бы очень рада, если б я рано вышла замуж.
— А тебе самой хотелось бы, а? — ввернула Марни, пытаясь создать атмосферу, необходимую для того, чтобы «потолковать по душам».
Марта иронически усмехнулась.
— Рано выйти замуж? — переспросила она. — Это мне-то? Да я лучше умру. Связать себя по рукам и ногам детьми и хозяйством…
Марни удивленно посмотрела на подругу, та даже растерялась. Потом вызывающе бросила:
— А мама говорит, что ты влюблена в Джосса Коэна. — На лице Марты появилось такое выражение, что Марни испуганно хихикнула. — Ну, он-то, во всяком случае, влюблен в тебя, ведь правда?
— Влюблен?! — стиснув зубы, процедила Марта.
— Черт его знает; во всяком случае, ты ему нравишься.
— Это Джоссу-то Коэну! — гневно промолвила Марта.
— Но ведь он славный мальчик. И среди евреев бывают очень симпатичные, а он к тому же умный, как и ты.
— Ты мне просто противна, — заявила Марта; ей казалось, что она этим выразила свое отношение к расовым предрассудкам.
И снова на добродушном личике Марни отразились удивление и обида. Она бросила на Марту умоляющий взгляд и встала — ей хотелось поскорее удрать. Но в эту минуту Марта, скользнув по примятой длинной траве, согнула колени и рывком поднялась.
— Ой, всю шкуру ободрала, — заметила она, потирая сквозь платье поясницу.
Ее манера потешаться над собственной неуклюжестью, можно даже сказать — паясничать, вызвала у Марни какое-то дотоле неведомое неприятное чувство. «Все-таки очень странно, что Марта в шестнадцать лет носит такие платья, держится точно неуклюжий школьник и, как видно, считает это в порядке вещей», — подумала Марни. Тем не менее, усмотрев в поведении Марты желание восстановить мир, Марни сочла примирение состоявшимся, взглянула на заглавие книги, которую Марта держала в руке, — это была история жизни Сесиля Родса, — и спросила, интересно ли. Затем девушки направились по узкой тропинке, вившейся под низенькими чахлыми деревцами среди пожелтевшей травы, которая доходила им до плеч, к просеке, где стоял дом.
Дом этот ничем не отличался от жилищ туземцев — стены у него были глиняные, крыша — тростниковая, и строился он в расчете на то, что жить в нем будут всего два сезона; дело в том, что Квесты переселились в колонию после того, как побывали на одной выставке в Лондоне, где им наговорили, что поселенцы могут разбогатеть на маисе чуть ли не через год после того, как его посадят. Этого не произошло, и они так и продолжали жить в своем временном жилище. Дом представлял собой вытянутый овал, разделенный перегородками на комнаты; вокруг шли крытые дерном веранды. Сбоку прилепилась квадратная кухонька с жестяной крышей. Сейчас эта кухонька покосилась, жесть на ней стала пятнистой и проржавела. Крыша дома тоже осела, а стены так часто латали свежей глиной, что они стали похожи на пеструю мозаику всех цветов — от густого красного до блекло-желтого и серо-зеленого. В округе было много самых разнообразных домов, но дом Квестов был единственный в своем роде, ибо задуман он был как кирпичное здание с прочной крышей, а выполнен из дерна, глины и прессованного навоза.
Подходя к дому, девушки увидели своих матерей, сидевших за стеной из золотистого вьюнка. У самой веранды, прежде чем завернуть за угол и подняться по ступенькам, Марта поспешно бросила:
— Ты иди, а я… — и вошла в дом, тогда как Марни, мысленно поблагодарив подругу за догадливость, присоединилась к женщинам.
Марта проскользнула в комнату, точно преступница, которую могли уличить те, кто сидел на веранде, ибо стоило им повернуть голову, как они увидели бы ее в окно. Сначала, когда дом только построили, никаких веранд не было. Миссис Квест решила, что дом должен быть повернут фасадом к вельду. «Точно корабль — носом вперед», — весело поясняла она. Вокруг всего дома шли окна, из которых открывалась широкая панорама гор и вельда, — узкие простенки как бы разрезали ее на отдельные кадры. Теперь же перед окнами была устроена веранда с навесом, и в комнате стало довольно темно. У одной стены стояло пианино, несколько стульев и два небольших диванчика, а у другой — обеденный стол. Много лет назад, когда ковры и ситцевые занавески были еще новые, комната эта, с ее кремовыми стенами и гладким черным линолеумом под ковром, выглядела даже красивой. Сейчас же она казалась не только вылинявшей, но грязной и захламленной. К пианино никто не притрагивался. На буфете, где стоял серебряный чайный поднос, который подарили деду миссис Квест в день, когда он уходил из банка на пенсию, валялись какие-то камни, орехи, болты от плуга и склянки с лекарствами.
Когда миссис Квест только приехала, все над нею потешались по поводу ее пианино и дорогих ковров, ее платьев и того, что, заходя к соседям, она оставляла визитные карточки. Теперь она сама грустно посмеивалась над собой, вспоминая об этом.
Посреди комнаты торчал столб из очень твердого дерева — кратегуса, поддерживавший перекрытия потолка. Прежде чем поставить этот столб, его неделями вымачивали в крепком химическом растворе, чтобы предохранить от нашествия муравьев и всяких букашек; тем не менее он был теперь весь усеян крошечными дырочками, и, если приложить к нему ухо, можно было услышать, как трудятся мириады крошечных челюстей; из дырочек непрерывной струйкой сочилась тончайшая белая пыль. Марта стояла подле столба, выжидая, когда на веранде все отвернутся и она будет в безопасности, и чувствовала, как он шатается у своего основания под полом. Вот и все так у ее родителей: столько лет твердили друг другу, что необходимо вовремя сменить столб, а теперь, когда насекомые незаметно подточили его, так что от малейшего стука он гудит, как барабан, они успокаивают себя, говоря: ничего, мол, страшного, ведь крыша, собственно, никогда и не опиралась на него. И в самом деле, если взглянуть вверх, то между гребнем крыши и тем, на чем, казалось бы, она должна держаться, был виден просвет в добрых два дюйма. Для тростниковой крыши было, видимо, вполне достаточно переплетения тонких перекладин, на которых она покоится. Весь дом был такой — шаткий и нелепый; он держался буквально «на честном слове», но вопреки всякому вероятию, как преданный друг, продолжал стоять. «В один прекрасный день он рухнет нам на голову», — ворчала миссис Квест всякий раз, когда муж, по обыкновению, заявлял, что им не осилить ремонта. Но дом не рушился.
Улучив удобный момент, Марта проскользнула в соседнюю комнату. Это была спальня ее родителей — большая квадратная и довольно темная комната, в ней было всего два окна. Мебель была сколочена из банок из-под бензина и парафина, выкрашенных и обтянутых кретоном. Занавески, в свое время купленные в Лондоне, выцвели и стали желтовато-серыми. На тонкой сеточке основы, свободно пропускавшей слепящий солнечный свет, выделялись темные контуры важных павлинов, краска которых оказалась прочнее всего остального. У одной стены стояли рядом две широкие железные кровати; у другой, против них, — туалетный столик. Привычка не сделала Марту слепой, и она отлично понимала, до чего у них дома все убого и запущенно. Ни у кого из членов семьи не было ощущения, что они на самом деле живут здесь. Дом строился как временное пристанище — таким он и остался. В будущем году они непременно вернутся в Англию или переедут в город. Ведь будет же когда-нибудь хороший урожай, повезет и им, и они выиграют, нападут на золотую жилу. Годами мистер и миссис Квест толковали на эту тему; Марта теперь уже не прислушивалась к этим разговорам — они так ее раздражали, что она не могла их выносить. Уже в одиннадцать-двенадцать лет она понимала, что ее родители обманывают себя, понимала настолько ясно, что могла бы сказать: «Если бы они в самом деле хотели куда-то переехать, то давно бы это сделали». Но эта мысль, подсказанная трезвым рассудком и отчаянием, так никогда и не оформилась в мозгу Марты, и она, порицая родителей за их нелепые иллюзии, невольно разделяла их убеждение, что дом, где они живут, — это еще не их настоящий дом. Она знала, что Марни и другим соседям он кажется невероятно жалким и даже гадким; но стоит ли стыдиться того, что ты никогда — ни на минуту — не считал своим домом?
Итак, очутившись в спальне родителей и удостоверившись, что дверь плотно закрыта, Марта осторожно подошла к квадратному зеркальцу, висевшему на гвозде посредине оконной рамы, над туалетным столиком. Она даже не взглянула на столик — так противно ей было то, что стояло на нем. Многие годы миссис Квест называла женщин, употребляющих косметику, беспутными, а потом, убедившись, что все красятся, купила и себе губную помаду и лак для ногтей — да только неподходящего цвета, так как совсем не разбиралась в такого рода вещах. При этом от пудры ее пахло затхлой мукой, точно от лежалого кекса. Марта поспешно накрыла коробочку крышкой и сунула ее в ящик, чтобы не чувствовать запаха. Потом, приподнявшись на носки, стала разглядывать себя в зеркало — оно висело слишком высоко для нее, так как миссис Квест была женщина рослая. Марта не могла примириться с тем, как, по мнению матери, она должна выглядеть. Ночью она подолгу рассматривала себя в карманное зеркальце — прислонит его к подушке, ляжет рядом, чтобы видеть свое отражение, и нашептывает себе, точно возлюбленный своей подруге: «Красавица, какая же ты красавица!» Так она успокаивала себя, когда миссис Квест подшучивала над ее неуклюжестью или мистер Квест сетовал, что девушки в здешних краях слишком рано созревают.
Произведения
Критика