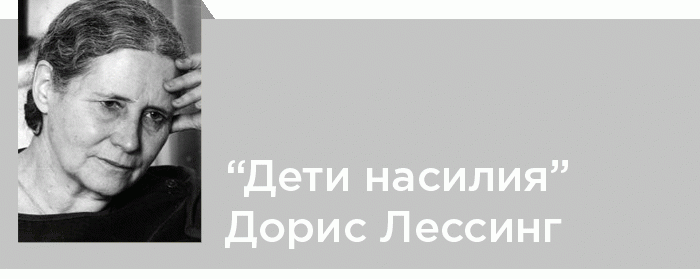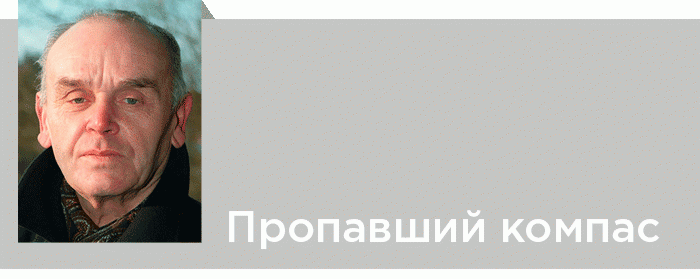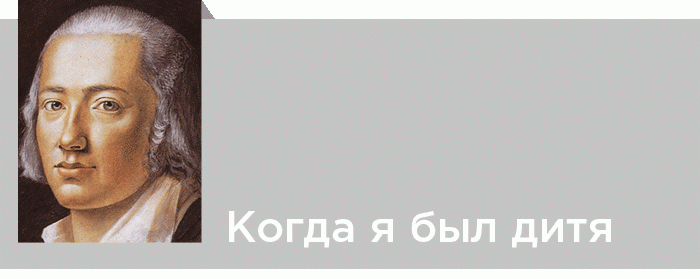Дорис Лессинг. Пятый ребёнок
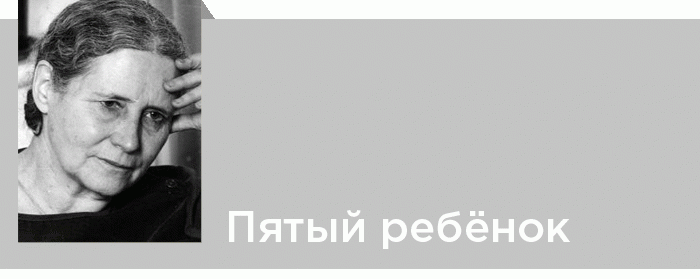
(Отрывок)
Гарриет и Дэвид встретились на служебной вечеринке, куда ни он, ни она особо не хотели идти, — и каждый сразу понял, что долго ждал этой встречи. С кем-то немодным, консервативным, чтобы не сказать, отсталым, замкнутым, своенравным: так люди говорили об этих двоих, и не было конца нелестным определениям, которые им давали. А они защищали то мнение о себе, которого упрямо держались сами: они простые люди, и потому никто не вправе осуждать их за эмоциональную утонченность и аскетизм только из-за того, что эти качества нынче не в моде.
На той памятной вечеринке сотни две народу набилось в длинный, мрачный и богато украшенный зал, триста тридцать четыре дня в году служивший для заседаний. То был новогодний вечер для трех родственных компаний строительного профиля. Было шумно. От музыки маленького ансамбля тряслись в тяжелом ритме стены и пол. Большинство людей танцевало, плотно скучившись из-за тесноты, пары подскакивали или кружились на одном месте, как на невидимых граммофонных пластинках. Женщины разодеты причудливо, броско, ярко: «Посмотрите на меня! Посмотрите!» Кое-кто из мужчин требовал к себе не меньше внимания. По стенам жались те немногие, кто не танцевал, и среди них были Гарриет и Дэвид, каждый сам по себе, со стаканом в руке — наблюдатели. Оба размышляли о том, что с равным успехом можно увидеть на лицах танцующих, и больше на женских, чем на мужских, хотя и на мужских тоже, — гримасу страдания и визг боли, словно радости. Во всей сцене была какая-то неестественная возбужденность… но ни Дэвид, ни Гарриет не ожидали, что эти их мысли, как и множество других, кто-нибудь разделит.
С противоположного конца зала — если ее вообще можно было разглядеть сквозь такую массу притягивающих взгляд фигур — Гарриет казалась бледной кляксой. Словно она сливалась с пейзажем на холсте импрессиониста или на размытой фотографии. Она стояла возле большого вазона с засушенными травами и листьями, и платье на ней было какое-то цветастое. Остановив на ней взгляд, замечаешь темные кудряшки — немодно… синие глаза, кроткие, но внимательные… губы, пожалуй, слишком плотно сжаты. На деле все ее черты были яркие и правильные, а сложение — крепкое. Здоровая молодая женщина, но, может, она смотрелась бы лучше где-нибудь в саду?
Дэвид уже час стоял на одном месте, медленно пил, его серьезные серо-голубые глаза переходили с одного персонажа или пары на другую, наблюдая, как люди держатся вместе или разбегаются, отскакивая друг от друга. Он не показался бы Гарриет плотно скроенным человеком: казалось, он почти парил, балансируя на цыпочках. Щуплый молодой мужчина — Дэвид выглядел моложе своих лет — с круглым честным лицом и мягкими каштановыми волосами, в которые девушкам очень хотелось запустить пальцы, но потом на них начинал действовать его сосредоточенный взгляд, и они отступали. Девушкам становилось неуютно. Но только не Гарриет. Она поняла, что это выражение внимательной отстраненности — зеркало ее самой. А его веселость она расценила как напускную. Дэвид так же мысленно оценивал Гарриет: было видно, что сборища вроде этого нравятся ей не больше, чем ему. Они уже знали друг о друге, кто есть кто. Гарриет работала в службе продаж компании, которая проектировала и выпускала строительные материалы; Дэвид был архитектором.
Так что же такое в этих двоих делало их чудаками и одиночками? Их отношение к сексу! Шли шестидесятые. У Дэвида была одна долгая и непростая связь с девушкой, в которую он влюбился против своей воли: такие девушки Дэвиду не нравились. Между собой они шутили о притяжении противоположностей. Она говорила, что Дэвид намеревается исправить ее: «Я уверена, ты вообразил, что сможешь обуздать эпоху, и начинаешь с меня!» С тех пор как они расстались, и довольно несчастливо, по подсчетам Дэвида, эта девушка переспала в «Сиссонз Бленд энд К°» со всеми, с кем только смогла. И он бы не удивился, если и с женщинами тоже. В тот вечер она тоже была на празднике, в алом платье с черными кружевами — остроумная карикатура на костюм фламенко. Из этого коктейля испуганно выглядывала ее голова. Чистейшие двадцатые годы гладкий шип из черных волос на затылке, два глянцевых черных шипа на висках и черный завиток на лбу. Она отчаянно махала Дэвиду через весь зал и посылала воздушные поцелуи, кружась с кем-то в танце, а Дэвид отвечал приятельской улыбкой: никаких горьких чувств. Что до Гарриет, то она была еще девственна. «Девственница в наши дни? — впору было восклицать ее подругам. — Да ты в своем уме?» Гарриет не считала свою девственность каким-то физиологическим состоянием, которое нужно защищать, — скорее чем-то вроде подарка в многослойной красивой обертке, который она благоразумно отдаст достойному человеку. Над ней смеялись ее собственные сестры. Девушки в конторе смотрели на нее с нарочитой веселостью, когда она принималась гнуть свое: «Извините, мне не нравится прыгать из постели в постель, это не для меня». Гарриет знала: ее обсуждают, она неизменно интересный предмет разговора, обычно — недоброжелательного. С тем же чопорным презрением, с каким добропорядочные женщины поколения бабушек произносили: «Она, знаете ли, довольно распущенна», или: «Такой уж она родилась», или: «Она чужда какой бы то ни было нравственности»; затем (поколение матерей): «Она помешана на мужчинах», или: «Она нимфоманка», — теперь просвещенные девицы говорили друг другу: «Вероятно, что-то было в детстве, оттого она такая. Бедняжка».
Гарриет и в самом деле иногда думала, что ей не повезло и она в чем-то обделена: мужчины, с которыми она выходила поужинать или в кино, воспринимали ее отказ ни много ни мало как свидетельство нездорового отношения ограниченного человека. Некоторое время у нее была подружка — моложе других, но потом и она стала «такой, как все», — так Гарриет безнадежно определила ее, себя определяя как «не приспособленную к жизни». Многие вечера она проводила в одиночестве, а по выходным часто гостила у матери, которая говорила: «Что ж, ты просто старомодна, вот и все. Многие девушки бы хотели быть такими же, да только у них нет выбора».
Два этих чудака, Гарриет и Дэвид, одновременно вышли друг другу навстречу каждый из своего угла: это будет важно для них потом, когда веселый праздник для служащих станет частью их личной истории. «Да, точно в один и тот же момент…» Им пришлось проталкиваться мимо людей, прижавшихся к стенам; они поднимали стаканы высоко над головой, чтобы не задеть танцующих. Так они наконец сошлись, улыбаясь — хотя, быть может, чуточку беспокойно, — и Дэвид взял ее за руку, и они, протискиваясь сквозь толпу, выбрались в другую комнату, где был бар, полный шумных людей, а через нее — в коридор, малонаселенный обнимающимися парами, и толкнули первую дверь, где подалась ручка. Это был кабинет, в котором имелись письменный стол и несколько жестких стульев, а также диван. Тишина… ну, почти. Они вздохнули. Поставили стаканы. Сели лицом к лицу, чтобы можно было сколько угодно смотреть друг на друга, и начали разговор. Они говорили так, будто обоим долго не удавалось ни с кем поговорить, будто изголодавшись по беседе. Они сидели близко и болтали, пока шум в комнатах по ту сторону коридора не начал стихать, и тогда они потихоньку вышли из здания и отправились к Дэвиду домой, это было недалеко. Там они легли на кровать и лежали, держась за руки и разговаривая, иногда целовались, а потом заснули. Она почти сразу переехала к нему, потому что денег у нее хватало только на комнату в большой коммунальной квартире. Они решили весной пожениться. Чего ждать? Они ведь созданы друг для друга.
Гарриет была старшей из трех дочерей. Пока не уехала из родительского дома в восемнадцать лет, она не понимала, насколько обязана своему детству — многие ее подруги, у которых родители были в разводе, жили без воли и без цели и проявляли склонность к так называемым расстройствам. У Гарриет расстройств не было, и она всегда знала, чего хочет. Она хорошо успевала в школе и поступила в художественный колледж, где выучилась графическому дизайну, который казался вполне приемлемым способом провести время до замужества. Вопрос, делать ли карьеру, никогда не занимал ее, хотя она подготовилась к обсуждению этой темы: не хотела показаться еще большей чудачкой, чем она и так была. Ее мать получила все, чего могла благоразумно пожелать, и была вполне довольна жизнью — так думала и мать, и дочери. Родители Гарриет не сомневались, что основой счастливой жизни служит семья.
Детство и юность Дэвида прошли совсем по-другому. Отец с матерью развелись, когда ему было семь. Он шутил — и слишком часто, — что у него два комплекта родителей: Дэвид был ребенком, у которого есть комнаты в двух домах, а все кругом сочувствуют его психологическим проблемам. Никакой грызни и ненависти не было, хотя неудобств и страданий детям хватало. Отчим Дэвида, второй муж матери, был ученым-историком и имел большой неухоженный дом в Оксфорде. Дэвиду нравился этот человек, Фредерик Бёрк, добрый, хотя сдержанный, как и мать Дэвида, которая тоже была добра, но сдержанна. Комната в их коттедже стала для Дэвида домом и поныне оставалась в его воображении настоящим домом, хотя скоро он построит новый, с Гарриет, — продолжение и расширение прежнего. Того, который был у него в большой комнате в задней части оксфордского дома с видом на заброшенный сад: неприбранная комната, полная его отрочеством и довольно прохладная, на английский манер. Родной отец Дэвида женился на даме под стать ему самому: яркая, милая, практичная женщина с хорошим и циничным юмором богачки. Джеймс Ловатт был кораблестроителем, и когда Дэвид соглашался приехать к отцу в гости, его местом вполне могла стать койка на яхте или комната («Это твоя комната, Дэвид») на вилле где-нибудь на юге Франции или на острове в Карибском море. Но Дэвид предпочитал старую комнату в Оксфорде. Он вырос с твердым требованием к собственному будущему: у его детей все будет абсолютно иначе. Он знал, чего хочет и какая женщина ему нужна. Если Гарриет ее будущее виделось на старинный манер: мужчина вручит ей ключи от королевства, где она найдет все, чего требует ее душа, по праву рождения, к исполнению которого она — сначала неосознанно, а потом весьма целеустремленно — давно шла, сторонясь любой грязи и лишних драм, то для Дэвида будущее было в том, чего он должен добиться, а потом защищать. И в этом его жена должна быть как он: знать, где находится счастье и как его сберечь. Когда он встретил Гарриет, ему было тридцать, и он работал в суровом режиме амбициозного человека, но работал он только ради своего будущего дома.
В Лондоне найти такой дом, как они хотели, для той жизни, какой они хотели, было невозможно. Вообще, они не были уверены, что хотят жить в Лондоне — нет, не хотели, им было бы лучше в каком-нибудь маленьком городишке с особой атмосферой. Они проводили выходные, рыская по городкам в ближайших окрестностях Лондона, и скоро нашли большой викторианский дом с запущенным садом. Превосходно! Только вот для молодой пары это был бы нонсенс: трехэтажный дом с чердаком, со множеством комнат, коридоров, лестниц… Много места для детей на самом деле.
Но они и собирались иметь кучу детей. Оба слегка демонстративно — из-за дерзости собственных запросов — заявляли, что «не возражали бы» против кучи детей.
— Пусть четверо или пятеро… или шестеро, — сказал Дэвид.
— Или шестеро! — сказала Гарриет, до слез хохоча от облегчения.
Они смеялись и катались по кровати, целовались и веселились без удержу оттого, что опасный момент, где каждый из них ожидал и даже готовился принять отказ или компромисс, оказалось, не таит никакой угрозы. Но если друг другу Дэвид и Гарриет могли сказать: «Шестеро детей, по меньшей мере», то никому другому — не могли. Даже при довольно приличной зарплате Дэвида вкупе с жалованьем Гарриет они не смогли бы выплатить закладную. Но они как-нибудь выкрутятся. Гарриет поработает еще пару лет, будет каждый день ездить вместе с Дэвидом в Лондон, и потом…
В день, когда они стали хозяевами большого дома, Гарриет и Дэвид стояли на крыльце, держась за руки, со всех сторон пели птицы — из сада, где сучья были еще черные и поблескивали под холодным дождем ранней весны. Они открыли входную дверь — сердца у них колотились от счастья — и, войдя в огромную комнату, остановились перед широкой лестницей. Кто-то из прежних владельцев понимал смысл дома так же, как Дэвид с Гарриет. Он убрал стены, и комната вобрала в себя почти весь первый этаж. Одну ее половину занимала кухня, ограниченная только низеньким барьером, на который можно было класть книги, другая половина давала место для диванчиков и стульев и всего простора и уюта большой семейной гостиной. Они ступали мягко, осторожно, едва дыша, улыбаясь и переглядываясь и улыбаясь еще больше оттого, что у обоих в глазах стояли слезы, — прошли по голым половицам, на которые скоро лягут ковры, и медленно поднялись по ступеням, на которых дожидались ковровой дорожки старинные медные прутья. Поднявшись на один пролет, они обернулись полюбоваться чудесной комнатой, которая станет сердцем их королевства. И взошли выше. На втором этаже была одна большая спальня — для них; к ней примыкала комнатка поменьше, которую всякий раз будет занимать новорожденный ребенок. И еще четыре славные комнаты было на втором этаже. Выше по основательной, но уже сузившейся лестнице — еще четыре спальни, а за окнами, как и в комнатах этажом ниже, деревья, лужайки, сады — все пейзажи милой загородной жизни. А сверху был еще необъятный чердак — как раз для детей, когда они войдут в возраст тайных волшебных игр.
Дэвид и Гарриет медленно спустились по лестнице — один пролет, другой, они проходили комнату за комнатой, представляя, что те полны детьми, родственниками, гостями, — и снова пришли в свою спальню. В ней осталась большая кровать. Эту кровать специально сделали по заказу той пары, у которой Дэвид и Гарриет купили дом. Чтобы вынести кровать, сказал им агент, пришлось бы ее разобрать, да и хозяева все равно уезжают жить за границу. Гарриет с Дэвидом улеглись рядом на этой кровати и рассматривали свою комнату. Лежали тихо, трепеща перед тем, что приобрели. Казалось, тени сиреневого куста и мокрое солнце за ним соблазнительно рисовали на просторах потолка те годы, что Дэвид и Гарриет проживут в этом доме. Они повернули головы к окну, за которым виднелась верхушка сиреневого куста в крепких бутонах, готовых распуститься. Потом посмотрели друг на друга. Слезы текли у них по щекам. Они занялись любовью там, на своей кровати. Гарриет едва не закричала: «Нет, подожди! Что мы делаем?» Ведь они решили отложить рождение детей на два года? Но Дэвид захватил ее своей решительностью — да, это было так, он любил Гарриет с осознанным и сосредоточенным напором, глядя ей в глаза, и это подтолкнуло Гарриет отдаться ему, принять власть этого человека над ее будущим. Они не захватили презервативов (а таблеткам оба, конечно, не доверяли). У Гарриет были самые опасные дни. Но они с Дэвидом занялись любовью, занялись с торжественной преднамеренностью. Раз. И еще… И потом, когда в комнате стало темно, они снова любили друг друга.
— Ну, — сказала Гарриет, понизив голос, потому что была испугана, но решительно не хотела подать виду, — что ж, теперь-то уж точно, не сомневаюсь.
Дэвид засмеялся. Громким беззаботным нескромным смехом, что так не похоже на благопристойного, веселого, рассудительного Дэвида. В комнате было уже совсем темно, она казалась огромной, как черная бесконечная пещера. Где-то рядом царапала по стене дома ветка. Пахло холодной, мокрой после дождя землей и сексом. Дэвид лежал, улыбаясь сам себе, почувствовав взгляд Гарриет, чуть повернул голову, и его улыбка поглотила Гарриет. Но на его условиях; в его глазах мелькал отблеск мыслей, в которые ей было не проникнуть. Гарриет поняла, что не знает Дэвида.
— Дэвид… — поторопилась она сказать, чтобы прогнать наваждение, но он крепче сжал объятия и стиснул ее плечо рукой, в которой Гарриет не подозревала такой силы и настойчивости. Это сжатие говорило: «Молчи!»
Они лежали рядом, пока не стала медленно возвращаться обыденность и можно было повернуться друг к другу и обменяться короткими ободряющими дневными поцелуями. Они встали с постели и оделись в холодной темноте: электричество еще не подключили. Тихо спустились по лестнице своего дома, во владение которым так основательно вступили, вышли в свою большую гостиную, потом — за дверь, в сад таинственный и неведомый, еще не их.
— Ну? — весело спросила Гарриет, когда они с Дэвидом сели в его машину, собираясь вернуться в Лондон. — И как мы будем выплачивать, если я забеременею?
В самом деле: как им было расплатиться? Гарриет и вправду забеременела в тот дождливый вечер в их новой спальне. Они пережили много неприятных минут, думая о скудости своих возможностей и о собственной несостоятельности. В такие моменты, когда не хватает материальных средств, тебя как будто судят — Гарриет и Дэвид казались себе нищими и беспомощными: и ничего за душой, кроме упрямой верности взглядам, которые люди всегда считали ложными.
Дэвид никогда не брал денег у своих обеспеченных отца и мачехи — они оплатили его образование, и только. (И образование его сестры Деборы, но той больше нравился образ жизни отца, как Дэвиду — матери, так что брат с сестрой нечасто встречались, и, как казалось Дэвиду, сущность разницы между ними состояла именно в этом — в том, что Дебора выбрала богатую жизнь.) Дэвид не хотел просить денег и теперь. А у английских родителей — так он стал называть мать и ее нового мужа, непритязательных ученых, — денег было мало.
И вот они четверо — Гарриет с Дэвидом и мать Дэвида Молли с Фредериком — стояли однажды днем в большой гостиной у лестницы, обозревая новые владения. Там уже появился очень большой стол, за которым легко могли бы разместиться пятнадцать или двадцать человек, — в кухонной части, а еще пара больших диванов и несколько просторных кресел; все куплено с рук на местном аукционе. Дэвид и Гарриет стояли рядом, чувствуя себя еще более нелепыми чудаками и слишком зелеными в глазах этих двух пожилых людей, которые их сейчас судили. Молли и Фредерик были крупные неряшливые люди с сильно поседевшими головами, одевались они с самодовольным презрением к моде в то, что удобно. Сейчас они походили на два доброжелательных стога сена и не смотрели друг на друга, что было Дэвиду так знакомо.
— Ну ладно уже, — сказал он бодро, не выдержав напряжения. — Говорите.
И обнял Гарриет, бледную и изнуренную после утренней тошноты и недели, проведенной за отскабливанием полов и мытьем окон.
— Вы думаете открыть гостиницу? — спросил Фредерик мягко, не желая выносить суждений.
— Сколько детей вы собираетесь родить? — спросила Молли с коротким смешком, который означал, что возражать бесполезно.
— Много, — тихо ответил Дэвид.
— Да, — подтвердила Гарриет. — Да.
В отличие от Дэвида она не понимала, насколько раздосадованы эти двое родителей. Как и все люди их типа, создавая себе репутацию оригиналов, на деле они представляли собой квинтэссенцию обычности и не принимали никаких проявлений духа преувеличения или неумеренности. Таких, каким был этот дом.
— Поехали, мы угостим вас обедом, если тут найдется приличный ресторан, — сказала мать Дэвида.
За тем обедом они говорили о другом, пока за кофе Молли не заметила:
— Ты понимаешь, что тебе нужно просить помощи у отца?
Дэвид поморщился, словно от боли, но пришлось смириться: важнее всего был дом и их будущая жизнь в нем. Жизнь, которая — оба родителя поняли это по выражению непреклонного намерения, в котором читали сплошную юношескую заносчивость Дэвида, — должна восполнить, устранить, свести на нет все упущения их, Молли и Фредерика, жизни и жизни Джеймса и Джессики тоже.
Когда они расставались на темной стоянке у отеля, Фредерик сказал:
— Насколько я могу судить, вы оба сошли с ума. Ну, или сильно обманываетесь.
— Да, — сказала Молли. — Вы не продумали все как следует. Дети… Пока их не заведешь, нипочем не узнать, сколько с ними забот.
Тут Дэвид, рассмеявшись, озвучил аргумент — старый, который Молли узнала и встретила с понимающим смешком:
— В тебе мало материнского инстинкта. Это не твое. А в Гарриет много.
— Ладно, — ответила Молли, — жить-то тебе.
Она позвонила своему первому мужу, Джеймсу, который находился на яхте где-то у острова Уайт. Разговор окончился словами:
— Наверное, тебе лучше приехать и увидеть все самому.
— Хорошо, я приеду, — ответил тот, соглашаясь с тем, что было сказано, ровно столько же, сколько с тем, что сказано не было: неспособность понимать немой язык жены была главной причиной того, что Джеймс был рад с ней расстаться.
Вскоре после этого разговора Дэвид и Гарриет вновь стояли с родителями Дэвида — второй их парой, — созерцая дом. На этот раз стояли снаружи. Джессика стояла посреди лужайки, пока еще засыпанной древесными обломками зимы и ветреной весны, и критически разглядывала строение. Оно казалось ей мрачным и гадким, как и вся Англия. Джессика была ровесницей Молли, но выглядела на двадцать лет моложе — подтянутая, загорелая, она, казалось, лоснилась от солнечного крема, даже когда ее кожа была суха. Волосы у нее были желтые, короткие и блестящие, одежда яркая. Вонзая каблуки малахитово-зеленых туфель в лужайку, она смотрела на своего мужа Джеймса.
Тот уже побывал в доме и теперь, как и ожидал Дэвид, сказал:
— Это хорошее вложение денег.
— Да, — сказал Дэвид.
— Цена не завышена. Думаю, это потому, что для среднего покупателя дом слишком велик. Как я понял, техническое заключение в порядке?
— Да, — сказал Дэвид.
— В таком случае я возьму на себя обязательства по закладной. Сколько она будет выплачиваться?
— Тридцать лет, — сказал Дэвид.
— Я к тому времени, наверное, умру. Что ж, на свадьбу я тебе толком ничего не подарил.
— Тебе придется сделать то же самое и для Деборы, — сказала Джессика.
— Для Деборы мы уже сделали гораздо больше, чем для Дэвида, — ответил Джеймс. — В любом случае это нам по силам.
Она засмеялась и пожала плечами: деньги были в основном ее. Такое легкое отношение к деньгам отличало их совместную жизнь, которую Дэвид, попробовав, яростно отверг и предпочел скряжничество оксфордского дома — хотя никогда не произносил вслух этого слова. Броская и слишком уж легкая — такой была жизнь богатых; но теперь он будет к ней причастен.
— И сколько детей вы запланировали, можно спросить? — поинтересовалась Джессика с видом попугая, приземлившегося на этой сырой лужайке.
— Много, — ответил Дэвид.
— Много, — ответила Гарриет.
— Ну будь по-вашему, — сказала Джессика, и на этом вторые родители Дэвида покинули сад, а там и Англию с облегчением.
После чего на сцене появилась Дороти, мать Гарриет. Ни Гарриет, ни Дэвид и не подумали бы вздыхать о том, как это ужасно, что мама все время здесь: если их семейная жизнь будет такой, как они задумали, Дороти обязательно придется приходить к ним помогать Гарриет, хотя всякий раз она будет настаивать, что у нее своя жизнь, к которой ей нужно вернуться. Дороти была вдова, и эта ее своя жизнь состояла в основном из посещения дочерей. Семейный дом продали, и теперь у нее была маленькая квартира, не бог весть что, но Дороти не жаловалась. Осознав размеры и возможности нового дома, несколько дней Дороти была необычно молчалива. Вырастить трех дочерей ей оказалось нелегко. Покойный муж был инженером-химиком, неплохо зарабатывал, но денег никогда не было много. Дороти знала, сколько во всех смыслах стоит семья, даже небольшая.
Раз за ужином она попыталась высказать несколько замечаний в этом духе. Дэвид, Гарриет, Дороти. Дэвид только что пришел домой, припозднился: поезд задержали. Ежедневные поездки не обещали особой радости, это было самое худшее для всех и особенно для Дэвида, поскольку добраться на работу и с работы занимало у него почти два часа в один конец. Это включено в стоимость мечты.
Кухня была уже почти такой, какой должна стать: большой стол с тяжелыми деревянными стульями вокруг — сейчас их только четыре, но еще несколько стоят вдоль стены в ожидании гостей и пока еще не рожденных людей. Большая плита марки «Ага» и старинный буфет с чашками и кружками на крючках. Вазы наполнены цветами из сада, где лето обнаружило множество роз и лилий. На ужин традиционный английский пудинг, приготовленный Дороти; за окнами осень заявляет о себе опадающими листьями, которые время от времени ударяют в стекло с негромким стуком или звоном, завыванием ветра. Но в доме опустили шторы — теплые толстые шторы в цветочек.
— Знаете, — начала Дороти, — я тут думала о вас двоих.
Дэвид положил ложку, чтобы ее выслушать, чего он никогда не делал для своей наивной матери или практичного отца.
— Не думаю, что вы должны сразу во все это бросаться — нет, дайте мне сказать. Гарриет всего двадцать четыре, нет еще и двадцати пяти. Тебе, Дэвид, только тридцать. Вы ведете себя так, будто думаете, что если чего не схватите сейчас, то потеряете навсегда. Ну, такое впечатление у меня возникло по вашим разговорам.
Дэвид и Гарриет слушали: их взгляды встречались, хмурые, задумчивые. Эту крупную, надежную и грубоватую Дороти, с ее решительными движениями и основательными манерами, нельзя было игнорировать; чего стоит Дороти, они понимали.
— Я так и думаю, — сказала Гарриет.
— Да, девочка, я знаю. Вчера вы говорили, что заведете нового ребенка сразу же. Мне думается, ты быстро пожалеешь.
— Все в любой момент может исчезнуть, — сказал Дэвид упрямясь.
Это жестокое замечание, проявление — обе женщины знали — чего-то затаенного вполне подтверждали новости, сыпавшиеся из приемника. Всюду плохие дела: не сравнить с тем, какими новости скоро станут, но довольно грозные.
— Задумайтесь, — сказала Дороти, — вам бы стоило. Иногда мне за вас страшно становится. А почему — сама не знаю.
Гарриет горячо возразила:
— Наверное, нам нужно было родиться в другой стране. Ты понимаешь, что в других местах шестеро детей — это норма, никого не шокирует, никто себя из-за этого преступником не чувствует.
— Это мы тут в Европе ненормальные, — сказал Дэвид.
— Ну, не знаю, — сказала Дороти, не менее упрямая, чем любой из них. — Но если у вас будет шесть, или восемь, или десять — нет, я знаю твои мысли, Гарриет, я тебя знаю, разве нет? — и это будет в другой части мира, например, в Египте, в Индии или еще где, то половина из них умрет, а образования не получит никто. Вам надо все сразу. Аристократы — да, они могут плодиться как кролики и ожидать этого, но у них на это есть деньги. И бедные могут ожидать этого и иметь детей, и половина из них умрет. Но люди вроде нас посередине — нам рожать детей надо осторожно, чтобы хватило сил о них заботиться. Мне кажется, вы не продумали это… Нет, я пойду сварю кофе, а вы, двое, посидите.
Дэвид и Гарриет прошли через широкий проем в перегородке, отделяющей кухню, к дивану в гостиной и сели там, взявшись за руки: щуплый, упрямый, слегка взвинченный молодой человек и огромная, раскрасневшаяся, неуклюжая женщина. Гарриет была на девятом месяце, и беременность проходила нелегко. Ничего серьезного, но ее все время тошнило, Гарриет плохо спала от диспепсии и была очень недовольна собой. Они удивлялись, почему другие все время их осуждают. Дороти принесла кофе, поставила, сказала:
— Посуду я помою — нет-нет, сиди. — И пошла обратно, к раковине.
— Но я так чувствую! — говорила расстроенная Гарриет.
— Да.
— Нужно заводить детей, пока можем.
Дороти, стоя у раковины, сказала:
— Когда началась война, говорили, что рожать детей — безответственность, но мы же рожали, правда?
Она засмеялась.
— Потому ты здесь, — сказал Дэвид.
— И мы вырастили их, — сказала Дороти.
— Что ж, определенно я здесь, — сказала Гарриет.
Своего первого ребенка, Люка, она родила на большой супружеской кровати, под присмотром акушерки и в присутствии доктора Бретта. Дэвид и Дороти держали Гарриет за руки. Разумеется, доктор хотел, чтобы Гарриет рожала в больнице. Но она проявила твердость; доктор этого не одобрил.
Был холодный ветреный вечер, сразу после Рождества. В комнате было тепло и красиво. Дэвид плакал. Дороти плакала. Гарриет смеялась и плакала. Акушерка и врач стояли со скромным, но праздничным и победным видом. Все пили шампанское и омочили им голову маленького Люка. Был 1966 год.
Люк был спокойным ребенком. В маленькой комнате при большой спальне он спал как ангел, с удовольствием сосал грудь. Счастье! По утрам, едва Дэвид убегал, торопясь на лондонский поезд, Гарриет садилась в кровати и кормила ребенка, попивая принесенный мужем чай. Когда Дэвид наклонялся поцеловать Гарриет на прощание и гладил головку Люка, в нем сквозило неистовое собственничество, которое Гарриет понимала и ценила, потому что собственностью была не она и не ребенок, но счастье. Его и ее.
Пасха стала их первым семейным праздником. Комнаты были подобающе, пусть и скупо, обставлены, их обживали две сестры Гарриет, Сара и Анджела, и их мужья и дети; Дороти, в своей стихии, и ненадолго — Молли и Фредерик, которые позволяли себе иногда развлечься, хотя семейная жизнь в таких масштабах была не по ним.
Знатоки английской жизни уже должны понять, что в той важной, хотя и нигде не зарегистрированной шкале — английской классовой системе — Гарриет стояла заметно ниже Дэвида. Это обнаруживалось уже через пять секунд после встречи кого-нибудь из Ловаттов или Бёрков с кем-нибудь из Уокеров, но никогда не обсуждалось, по крайней мере, вслух. Уокеров не удивило, что Фредерик и Молли собирались остаться только на два дня, как и то, что они передумали, едва появился Джеймс Ловатт. Подобно многим супругам, расставшимся из-за несовместимости характеров, Молли и Джеймс радовались встречам, когда знали, что встреча продлится недолго. На самом деле все были довольны и соглашались, что дом просто создан для такого. Вокруг большого семейного стола, где легко помещалось так много стульев, люди засиживались за долгими приятными обедами или собирались там между трапезами попить чаю или кофе и поговорить. И посмеяться… Заслышав смех, голоса или детскую возню, Гарриет и Дэвид у себя в комнате или, скажем, спускаясь по лестнице, брались за руки, улыбались и светились от счастья. Никто не знал, даже Дороти — только не Дороти, — что Гарриет снова беременна. Люку было три месяца. Они не хотели, чтобы Гарриет забеременела, — еще хотя бы год. Но так получилось.
— Могу поклясться, эта комната располагает к зачатию, — говорил со смехом Дэвид. Их приятно мучила совесть. Лежа в кровати и слушая, как маленький Люк возится в соседней комнате, они решили никому не говорить ни слова, пока не разъедутся все гости.
Когда Дороти узнала, она опять долго молчала, потом сказала:
— Что ж, я вам понадоблюсь, верно?
Она понадобилась. Беременность, как и предыдущая, была нормальной, но Гарриет было тяжело, ее тошнило, и она думала, что, не изменяя намерениям насчет шести (или восьми, или десяти) детей, уж точно постарается, чтобы между этой и следующей беременностью получился хороший перерыв.
До конца года Дороти любезно оставалась в их доме, возилась с Люком и помогала шить занавески для комнат третьего этажа.
К Рождеству Гарриет опять стала огромной — она была на восьмом месяце — и подтрунивала над собой из-за размеров и неповоротливости. Дом был полон народу. Все, кто приезжал сюда на Пасху, приехали снова. Все признавали за Гарриет и Дэвидом талант к таким вещам. Приехала двоюродная сестра Гарриет с тремя детьми — она слышала про чудесное пасхальное веселье, растянувшееся на неделю. Приехал коллега Дэвида с женой. Рождество продолжалось десять дней, и один пир сменялся другим. Младенец лежал в коляске в большой комнате, и все суетились вокруг него, а дети таскали его на руках, как куклу. Ненадолго приехала и Дебора, сестра Дэвида, спокойная привлекательная девушка, которая вполне могла показаться дочерью Джессики, а не Молли. Незамужняя, хотя у нее были, по ее словам, «близкие попадания». По своему общему стилю она так далеко стояла от прочих гостей, простых британцев, как они сами себя звали, сравниваясь с Деборой, что эта разница стала расхожей шуткой. Дебора всегда жила в богатстве, досадовала на неопрятную надменность материнского дома и терпеть не могла большие скопления народу, но и она призналась, что праздник показался ей занятным.
Двенадцать взрослых и десять детей. Заходили и соседи, которых приглашали, но атмосфера родственного сборища была плотной и выталкивала их. Гарриет с Дэвидом торжествовали: их упрямство, которое все ругали и высмеивали, сотворило чудо — им удалось объединить этих разных людей и заставить их понравиться друг другу.
Второй ребенок, Хелен, родилась, как и Люк, на супружеской кровати, при этом присутствовали те же люди, и снова голову младенца смочили шампанским, и снова все плакали. Люка выселили из комнаты малыша в спальню дальше по коридору, и его место заняла Хелен.
При всей усталости — а по сути, измождении — Гарриет гостей на Пасху пригласили опять. Дороти возражала.
— Ты устала, дочка, — сказала она, — ты вымоталась до последнего. — Потом, увидев лицо Гарриет: — Ладно, как хочешь, но ты ничего не будешь делать, поняла?
Сестры Гарриет и сама Дороти взяли на себя покупки и готовку, всю тяжелую работу.
На первом этаже среди массы народу — а дом опять был полон — обретались два маленьких создания, Хелен и Люк — оба с пушистыми светлыми волосиками, голубыми глазами и розовыми щечками. Люк ковылял по гостиной, где каждый норовил ему помочь, Хелен лежала в коляске.
Летом — шел 1968-й — дом заполнился до чердака, съехалась почти вся родня. Этот дом располагался так удобно: по утрам гости вместе с Дэвидом уезжали в Лондон и с Дэвидом же возвращались. В двадцати минутах езды — природа и чудесные места для прогулок.
Все время кто-нибудь приезжал или уезжал, люди говорили, что погостят пару дней, и оставались на неделю. А кто за все это платил? Да, конечно, каждый вносил понемногу, и, конечно, этого не хватало, но все знали, что отец Дэвида богач. Если бы он не платил по закладной, никаких праздников тут бы не было. Денег всегда оказывалось в обрез. Экономили: в огромный гостиничный холодильник, купленный с рук, набили летних фруктов и овощей. Дороти, Анджела и Сара закупоривали банки с джемами и чатни. Пекли хлеб, и по всему дому пахло свежей выпечкой. Это было счастье в старинном стиле.
Впрочем, не все шло безоблачно. Сара с ее мужем Уильямом были несчастливы в браке, то и дело ссорились и мирились, но Сара была беременна в четвертый раз, и о разводе не могло быть речи.
Рождество, с таким же развеселым гуляньем, наступило и миновало. И снова Пасха… иной раз они удивлялись: где только размещается столько гостей?
Пятно на семейном счастье — разлад у Сары и Уильяма — исчезло: его затмила худшая беда. Их последний ребенок родился с синдромом Дауна, теперь им нечего было и думать о расставании. Дороти иногда вздыхала, жалея, что не может раздвоиться, ведь Саре она нужна не меньше, а даже больше, чем Гарриет. И она в самом деле уезжала навещать свою Сару, которую постигло горе, тогда как Гарриет была благополучна.
Джейн родилась в 1970-м, когда Хелен было два года. Слишком скоро, пеняла им Дороти — зачем так торопиться?
Хелен переселилась в комнату Люка, а Люк — на одну дверь дальше по коридору. Из комнаты малыша от Джейн слышались звуки довольной возни, двое старшеньких приходили пообниматься и поиграть на большую родительскую кровать или навещали Дороти в ее постели и играли там.
Счастье. Счастливая семья. Ловатты были счастливой семьей. Они хотели этого и добились. Часто, когда Дэвид и Гарриет лежали, повернувшись лицом к лицу, казалось, что в груди у обоих распахиваются дверцы и наружу изливается мощный поток успокоения и благодарности, которые их по-прежнему удивляли: в конце концов, терпеть так долго, как это им теперь казалось, было непросто. Трудно сохранить веру в себя, когда дух эпохи, жадных и эгоистичных шестидесятых, на каждом шагу проклинал, изгонял и затаптывал твои лучшие качества. Выходит, они делали правильно, что так упорно хранили свою неудобную индивидуальность, которая настойчиво требовала лучшего — такой жизни.
За пределами этого счастливого места, их семьи, бушевали и ревели стихии большого мира. Славные беззаботные времена ушли навсегда. На фирме Дэвида дела пошли на спад, и Дэвид не получил ожидаемого продвижения, но другие вовсе потеряли работу, и ему еще повезло. Остался без работы муж Сары. Та печально шутила, что они с Уильямом притягивают все отпущенные роду несчастья.
Гарриет сказала Дэвиду с глазу на глаз, что не верит, будто это было просто невезенье: несчастливый брак Сары и Уильяма, их скандалы, возможно, и притянули им узкоглазого ребенка — да, да, конечно, она знает, что нельзя его так называть. Но малышка и правда смахивает на Чингисхана, правда же? Младенец Чингисхан с плоским лицом и щелочками глаз. Дэвиду не нравилась эта черта Гарриет, фатализм, который, казалось, противоречил всему остальному ее характеру. Дэвид сказал, что считает такие мысли глупой истерикой, Гарриет обиделась, и им пришлось мириться.
Городок, в котором они жили, за пять лет изменился. Жестокость и преступления, прежде казавшиеся дикостью, стали обычным явлением. По кафе и подворотням шлялись молодежные банды, для которых не существовало никаких авторитетов. Соседний с Ловаттами дом обворовывали уже трижды, Ловаттов — пока ни разу, но у них все время кто-нибудь был дома. В конце улицы стояла телефонная будка, которую столько раз громили, что власти сдались: она так и стояла разбитой. В те дни Гарриет не стала бы мечтать о ночных прогулках одной, а ведь прежде ей и в голову бы не пришло бояться пойти, куда она хочет, будь то днем или ночью. События принимали скверный оборот: все больше казалось, что в Англии живет не один, а два народа — враждебных, ненавистных друг другу, не способных друг друга услышать. Молодые Ловатты заставляли себя читать газеты и смотреть новости по телевизору, хотя то и другое им претило. В конце концов, нужно было знать, что происходит за стенами их крепости, их королевства, в котором подрастают три чудесных ребенка и куда приезжает так много людей, чтобы окунуться в уют, доброту и покой.
Четвертый ребенок, Пол, родился в 1973-м, между Рождеством и Пасхой. Гарриет чувствовала себя не очень хорошо: беременность опять проходила негладко, с множеством мелких осложнений — ничего серьезного, но Гарриет утомлялась.
Пасхальные праздники были самыми лучшими за все время: это вообще был для них самый лучший год, и потом, когда он вспоминался, казалось, что весь он был сплошным праздником, что возобновился из источника сердечного гостеприимства, хранителями которого были Дэвид и Гарриет, начался на Рождество, когда Гарриет уже настолько отяжелела, что все ухаживали за ней, делили между собой хлопоты — готовили волшебные блюда, заботились о будущем ребенке… и все знали, что близится Пасха, потом долгое лето, а потом опять Рождество…
Пасха растянулась на три недели — на все школьные каникулы. Дом был переполнен. У троих старших детей были свои комнаты, но, когда понадобились места для гостей, всех детей поселили в одной комнате. Само собой, они были в восторге.
— А почему не позволить им всегда спать вместе? — спрашивала Дороти или кто-нибудь из гостей. — Такой мелкоте, и каждому — своя комната!
— Это важно, — ответил Дэвид, злясь. — У каждого должна быть своя комната.
Тут родственники переглянулись, как переглядываются, споткнувшись обо что-то в близком человеке, и Молли, которая чувствовала, что ее вроде и ценят, но при этом как-то смутно и порицают, сказала:
— У каждого человека на свете. На всей земле!
Она хотела пошутить.
Эта сцена произошла во время завтрака — или, скорее, в середине утра: в большой комнате завтрак продолжался до обеда. Все взрослые еще сидели у стола, пятнадцать человек. Дети играли в гостиной, среди диванов и стульев. Молли и Фредерик, как всегда, сидели рядом со своим обычным видом, будто все вокруг они рассматривают с позиций Оксфорда — за этот вид здесь часто над ними подтрунивали, но они, казалось, не противились и отбивались в шутку. Джеймсу, отцу Дэвида, Молли снова писала, что ему нужно «раскошелиться», а то молодая пара просто не в силах прокормить всю ораву, и так далее. Джеймс выслал щедрый чек, а потом приехал и сам. Джеймс сидел напротив бывшей жены и ее нынешнего мужа, и, как это всегда бывало, на глазах у всех два человека разной породы разглядывали друг друга, недоумевая, как они могли когда-то быть парой. Джеймс был экипирован так, будто собрался заниматься спортом; и в самом деле скоро он уехал кататься на лыжах, как и Дебора, сохранявшая в доме Ловаттов легкий образ экзотической птички, которая присела в странном месте и задержалась там из любопытства — восхищения Дебора никогда бы не выказала. Здесь же была Дороти, подавала чай и кофе. Сидели Анджела с мужем, трое их детей играли тут с остальными. Анджела, прагматичная, живая («молодчина», как говорила о ней Дороти, «слава богу» оставалось невысказанным), не особо скрывала свои чувства, что сестры полностью забрали себе Дороти, ничего не оставив ей. Анджела была вроде умной и хорошенькой маленькой лисички. Сара с мужем, кузены и кузины, друзья — в каждом углу большого дома кто-нибудь приткнулся, спали даже на диванах в гостиной. Чердак уже давно превратили в спальню: там на матрасах и в спальных мешках могло расположиться любое количество детей. Взрослые сидели в большой уютной комнате, где горели в камине дрова, которые вчера все собирали, когда гуляли в лесу, а в комнатах наверху раздавались голоса и звучала музыка. Кто-то из детей постарше разучивал песню. Это был дом — что отмечали все, восхищаясь тем, чего не могли добиться сами, — где телевизор смотрели нечасто.
Уильяма, мужа Сары, не было за столом — он сидел на перегородке, и это небольшое расстояние выражало его отношение к родству с этой семьей. Он дважды уходил от Сары и возвращался. Любому было очевидно, что так будет и дальше. Уильям нашел работу, довольно жалкую, в строительстве, но проблема была в том, что его пугали телесные отклонения, а их девочка с синдромом Дауна была ему отвратительна. И все же он был крепко привязан к Саре. Они были под стать друг другу: оба рослые, крепко сложенные, темные, как два цыгана, и все время в ярких одеждах. Но когда Сара держала на руках бедняжку Эми, тщательно прикрытую, чтобы она никого не смущала, Уильям смотрел куда угодно, только не на жену.
Вместо этого он смотрел на Гарриет — она кормила двухмесячного Пола, сидя на большом стуле, который считался ее стулом, потому что был удобен для кормления.
Гарриет выглядела утомленной. Ночью Джейн не давали спать зубы, и она звала маму, а не бабушку.
Произведя на свет четырех новых людей, Гарриет сильно не изменилась. Вот она сидит во главе стола, синяя рубашка распахнута с одной стороны, и видно часть белой груди с голубыми прожилками вен и энергично движущуюся маленькую головку Пола. Губы Гарриет характерно плотно сжаты, она наблюдает за происходящим вокруг: здоровая, привлекательная молодая женщина, полная жизни. Только усталая… Дети прибежали, бросив игру, и потребовали ее внимания, и Гарриет, вдруг раздосадованная, отрезала:
— Почему бы вам не подняться поиграть на чердаке?
Это не было на нее похоже — снова взрослые за столом переглянулись: кому взять на себя труд избавить Гарриет от шумных детишек. В итоге Анджела ушла с детьми.
Гарриет огорчило, что она злилась.
— Я всю ночь не спала, — начала было она, но Уильям перебил ее, отнимая инициативу высказать то, что думали они все; Гарриет понимала это и даже знала, почему сказать должен Уильям, недобросовестный муж и отец.
— Теперь так и будет, сестрица Гарриет, — объявил он, подаваясь вперед со своего барьера и вскидывая руки, как дирижер. — Сколько тебе лет? Нет, не говори, я знаю; и за шесть лет ты родила четверых детей.
Он огляделся, чтобы убедиться, что остальные за него — так и было, и Гарриет видела это. Она иронично улыбнулась.
— Преступница, — сказала она. — Вот я кто.
— Сделай перерыв, Гарриет. Это все, о чем мы просим, — продолжил Уильям все более и более веселым и наигранным тоном — в своей обычной манере.
— Это говорит отец четверых, — сказала Сара, прижимая к себе свою бедную Эми и вынуждая остальных сказать вслух то, что они, должно быть, думали: что она переступила через себя, дабы поддержать своего никудышного мужа перед всеми.
Уильям послал ей благодарный взгляд, стараясь не смотреть на горестный сверток, который она оберегала.
— Да, но мы хотя бы растянули это на десять лет, — договорил он.
— Мы собираемся сделать перерыв, — объявила Гарриет. И добавила с вызовом в голосе: — По крайней мере, на три года.
Все переглянулись: Гарриет показалось, осуждающе.
— Я говорил вам, — сказал Уильям. — Эти безумцы намерены продолжить.
— Эти безумцы определенно намерены, — сказал Дэвид.
— Я так и сказала, — вступила в разговор Дороти. — Если уж Гарриет взбредет в голову какая-то мысль, отговаривать ее бесполезно.
— Как и ее матери, — уныло добавила Сара: она имела в виду, что, несмотря на ущербного ребенка, Дороти решила, будто нужна Гарриет больше, чем Саре.
«Ты намного крепче ее, Сара, — говорила ей Дороти. — Беда Гарриет в том, что ей хочется больше, чем она может съесть».
Дороти сидела рядом с Гарриет, на руках у нее дремала малышка Джейн, вялая после беспокойной ночи. Дороти сидела прямо и прочно, губы сурово сжаты, глаза не упускают ничего.
— А что плохого? — сказала Гарриет. Она улыбнулась матери: — Что я еще могу?
— Они собираются родить еще четверых, — заявила Дороти, обращаясь к остальным.
— Боже милостивый! — сказал Джеймс, восхищаясь и ужасаясь. — Ну и пусть, я ведь так много зарабатываю.
Дэвиду это не понравилось: он вспыхнул и потупился.
— О, Дэвид, не нужно, — сказала Сара, стараясь не показаться резкой: ей страшно не хватало денег, но это Дэвиду досталась хорошая работа, и это ему так много помогали.
— Но вы ведь не собираетесь вправду рожать еще четверых? — спросила Сара, вздохнув; все понимали, что она имеет в виду: еще четыре раза испытывать судьбу.
Сара нежно опустила руку на голову спящей Эми, покрытую платком, оберегая ее от всего мира.
— Нет, мы собираемся, — сказал Дэвид.
— Да, обязательно собираемся, — сказала Гарриет. — Вот то, чего на самом деле хочется каждому, но людям промыли мозги. Всем хочется так жить, это правда.
— Счастливые семейства, — язвительно сказала Молли: она была сторонницей такой жизни, в которой быт занимал свое скромное место, оставаясь фоном для чего-то более важного.
— Центр этой семьи — мы, — ответил Дэвид. — Мы, то есть я и Гарриет, а не ты, мама.
— Боже сохрани! — сказала Молли, и ее большое лицо, и без того довольно румяное, зарделось еще сильнее: ее взяла досада.
— Да, конечно, — продолжил ее сын. — Это никогда не был твой стиль.
— И уж точно не мой, — вступил Джеймс, — и я не собираюсь просить за это прощения.
— Но ты всегда был чудесным отцом, супер, — прощебетала Дебора. — А Джессика — чудесной мамочкой.
Ее настоящая мать вскинула свои массивные брови.
— Что-то не могу вспомнить, чтобы ты хоть раз дала Молли проявить себя, — заметил Фредерик.
— Но в Англии так хо-о-олодно, — простонала Дебора.
Джеймс, в своем ярком, слишком ярком костюме — статный, хорошо сохранившийся джентльмен, приодевшийся для южного лета, — позволил себе иронически фыркнуть с высоты возраста на бестактность молодых и взглядом извинился за Дебору перед бывшей женой и ее новым мужем.
— Как бы там ни было, — подчеркнул он, — это не мой стиль. Ты ошибаешься, Гарриет. Верно противоположное. Людям промыли мозги, чтобы они верили, что семья — это лучшее в жизни. Но это уже в прошлом.
— Но если вам все это не нравится, тогда почему вы здесь? — спросила Гарриет, слишком воинственно для мирной утренней сцены. И тут же залилась краской и воскликнула: — Нет, я не хотела.
— Конечно, не хотела, — сказала Дороти. — Ты переутомилась.
— Мы здесь, потому что здесь здорово, — сказала двоюродная сестра Дэвида, школьница.
У нее были несчастные или, по крайней мере, трудные отношения в семье, и она пристрастилась все каникулы проводить у Ловаттов, а родители были довольны тем, что их дочь повидает настоящую семейную жизнь. Звали ее Бриджит.
Дэвид и Гарриет обменивались долгими ободряющими, веселыми взглядами, как было у них в обычае, и не услышали девочку, которая теперь бросала на них горькие взоры.
— Эй вы, двое, — сказал Уильям. — А ну скажите Бриджит, что не гоните ее.
— Что? А в чем дело? — завелась Гарриет.
Уильям сказал:
— Бриджит надо услышать, что она у вас желанный гость. Да, в общем, и всем нам нужно время от времени, — добавил он своим игривым тоном и, не удержавшись, посмотрел на жену.
— Ну ясно, ты желанный гость, Бриджит, — сказал Дэвид. И значительно посмотрел на Гарриет, которая тут же сказала:
— Ну разумеется. — Она имела в виду, что это понятно и без слов; и за этим лежал вес тысячи супружеских разговоров, который заставил Бриджит посмотреть на Дэвида, потом на Гарриет, потом опять на Дэвида, а потом оглядеть всех, кто был за столом, и сказать:
— Когда я выйду замуж, я буду жить так же. Как Гарриет и Дэвид, иметь большой дом и кучу ребятишек… и все вы будете там желанными гостями. — Ей было пятнадцать — простая темноволосая пухлая девчушка, которая, как все понимали, скоро расцветет и будет красавицей. Ей это говорили.
— Естественно, — невозмутимо сказала Дороти. — У тебя сейчас-то, по сути, никакого дома нет, вот ты и ценишь его.
— Что-то не сходится в этой логике, — сказала Молли.
Девочка растерянно окинула взглядом стол.
— Мама хочет сказать, что ценить можно только то, что ты сам испытал, — сказал Дэвид. — Но я — живое свидетельство того, что все не так.
— Если ты хочешь сказать, что у тебя не было нормального дома, — отреагировала Молли, — так это просто чушь.
— У тебя их было два, — сказал Джеймс.
— У меня была комната, — сказал Дэвид. — Моим домом была моя комната.
— Что ж, мы, конечно, благодарны тебе за это признание. Я вот и не догадывался, что ты чувствовал себя обделенным, — сказал Фредерик.
— Никогда не чувствовал — у меня была своя комната.
Молли и Фредерику осталось только пожать плечами и усмехнуться.
— Насколько я могу заметить, вы еще даже не думали, какого труда стоит дать им всем образование, — сказала Молли.
Тут обнажилось различие, которое столь успешно сглаживалось порядками этого дома. Без слов стало ясно, что Дэвид учился в частной школе.
— Люк в этом году пойдет в местную школу, — сказала Гарриет. — А Хелен — на будущий год.
— Ну, если это вас устраивает… — сказала Молли.
— Мои трое ходили в обычную школу, — не спустила Дороти, но Молли не приняла вызов. Она продолжила:
— Так что, если только Джеймс не предложит помощь… — давая этим понять, что они с Фредериком помочь не могут или не хотят.
Джеймс промолчал. Он не позволил себе даже иронического вида.
— Еще пять и шесть лет до тех пор, как придет пора думать о следующем этапе образования для Люка и Хелен, — сказала Гарриет, снова слишком сварливым тоном.
А Молли настаивала:
— Дэвида мы записали в школу, едва он родился. И Дебору тоже.
— И чем, — спросила Дебора, — я с моими расфуфыренными школами лучше Гарриет или кого-нибудь еще?
— Точно, — сказал Джеймс, который платил за расфуфыренные школы.
— Да ничего не точно, — сказала Молли.
Уильям вздохнул и продолжал ерничать:
— Несчастные мы, остальные. Бедный Уильям. Бедная Сара. Бедная Бриджит. Бедная Гарриет. Скажите, Молли, если бы я ходил в престижные школы, была бы у меня теперь нормальная работа?
— Не в этом дело, — ответила Молли.
— Она хочет сказать, что с хорошим образованием ты был бы не так жалок без работы или на паршивой работе.
— Простите меня, — сказала Молли, — но государственное образование кошмарно. И становится все хуже. Дэвиду с Гарриет нужно выучить уже сейчас четверых детей. И это, видимо, еще не все. Откуда вы знаете, что Джеймс всегда будет вам помогать? В жизни все может произойти.
— И постоянно происходит, — с горечью сказал Уильям и рассмеялся, чтобы смягчить свои слова.
Гарриет огорченно завозилась на стуле, отняла Пола от груди, спрятав ее от чужих глаз с ловкостью, которую все заметили и восхитились, и сказала:
— Я не хочу продолжать этот разговор. Такое хорошее утро…
— Я помогу, конечно, насколько смогу, — сказал Джеймс.
— Ах, Джеймс… — сказала Гарриет, — спасибо… спасибо вам. Как мило… А может, нам пойти погулять в лес?.. На обед можно устроить пикник.
Утро пролетело. Наступил полдень. Солнце зажгло края отчаянно-желтых штор, превратив их в густо-оранжевые, бросив оранжевые ромбы гореть на столе между чашек и блюдец и вокруг вазы с фруктами. Дети спустились с верхнего этажа и играли в саду. Взрослые подошли к окнам посмотреть. Сад оставался в запустении: на него никогда не оставалось времени. Лужайка местами заросла, по ней были разбросаны игрушки. В кустах пели птицы, не обращая внимания на детей. Крошка Джейн, сидевшая подле Дороти, заковыляла к остальным детям. Те шумно играли вместе, но Джейн была еще слишком мала и блуждала среди них в своей собственной вселенной двухлетнего ребенка. Они ловко переиначили игру для нее. Неделю назад, в пасхальное воскресенье, в саду были спрятаны крашеные яйца. Чудесный был день, дети отовсюду несли волшебные яйца, на раскрашивание которых Гарриет, Дороти и школьница Бриджит потратили целую ночь.
Гарриет с ребенком на руках стояла у окна рядом с Дэвидом. Он приобнял ее. Они быстро переглянулись, слегка виновато — из-за своих безудержных улыбок, которые, как они догадывались, могут кого-то и рассердить.
— Вы неисправимы, — сказал им Уильям. — Безнадежны, — констатировал он для остальных. — Ладно, кого это не устраивает? Только не меня! Так почему мы не отправляемся на пикник?
Компания заняла пять машин, дети вклинивались между взрослыми или влезали на колени.
Так и проходило лето: два месяца миновало, и вновь родня собралась и разъехалась, и собралась снова. Бриджит была у них все время, бедняжка быстро прикипела к чуду семьи. Пожалуй, даже сильнее, чем Дэвид и Гарриет. Не раз, замечая лицо девочки — трепетное, даже благоговейное, постоянно внимательное, будто Бриджит боялась на миг ослабить внимание, чтобы не пропустить сошествие божества или благодати, — они оба видели в ней себя. И даже с тревогой видели себя. Это было слишком… через край… Конечно, им приходилось говорить ей: «Послушай, Бриджит, не ожидай слишком многого. Жизнь не такая!» Но жизнь именно такая, если правильно выбирать: так почему им кажется, что у Бриджит не может быть того, что в таком изобилии есть у них?
Еще до того, как вся орда собралась к Рождеству 1973 года, Гарриет опять была беременна. К своему и Дэвида полному ужасу. Как это могло произойти? Они были осторожны, особенно осторожны после того, как решили некоторое время больше не рожать детей. Дэвид пытался шутить: «Это все комната, клянусь, она настоящая фабрика младенцев».
Они решили пока не говорить Дороти. Все равно ее не было — Сара сказала, что это несправедливо, когда помощь достается одной Гарриет. А Гарриет просто не справлялась. Одна за другой у них сменились три девушки-помощницы; они только что закончили школу и не могли быстро найти работу. И помощи от них было немного. Гарриет казалось, что она заботилась о помощницах больше, чем те заботились о ней. Они могли прийти или не прийти по настроению, сидели, праздно попивая чай с подружками, пока Гарриет трудилась. Отчаянная, обессиленная, она брюзжала, срывалась, рыдала… Дэвид застал ее однажды на кухне: Гарриет сидела, подперев голову руками, и бормотала, что этот новый плод отравляет ее, Пол хныкал в коляске, забытый. Дэвид взял на работе двухнедельный отпуск, чтобы помогать Гарриет дома. Оба всегда понимали, как много обязаны Дороти, но теперь поняли это еще лучше — как и то, что, услышав о новой беременности Гарриет, Дороти очень рассердится. Очень. И будет права.
Произведения
Критика