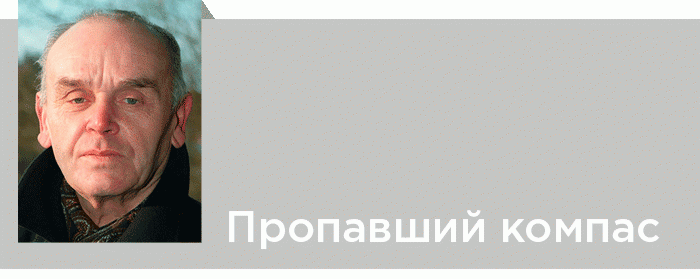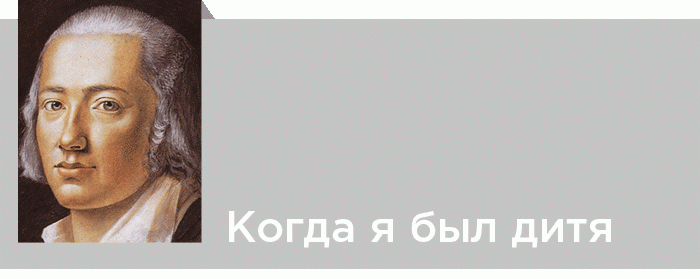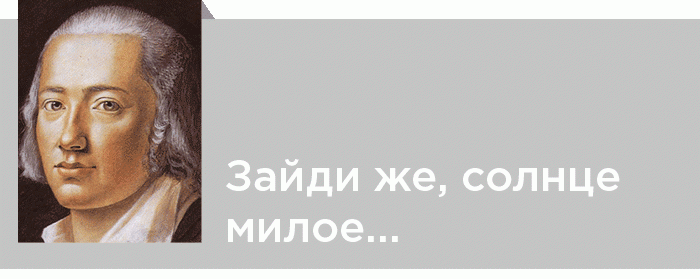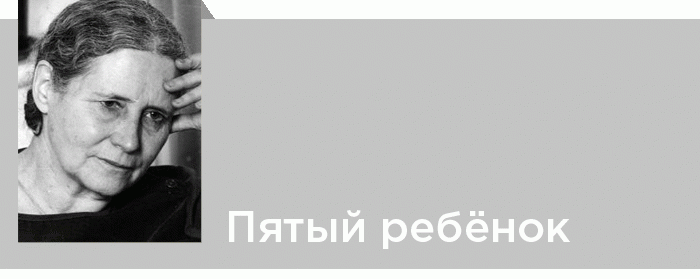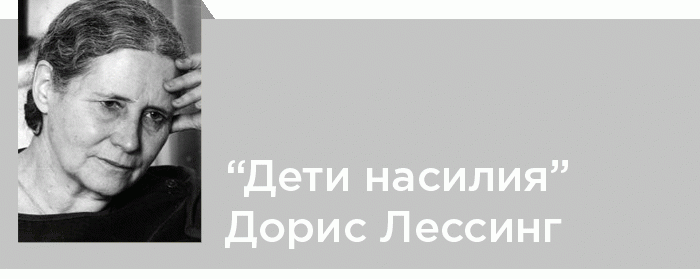Дорис Лессинг. Золотая тетрадь

(Отрывок)
Свободные женщины 1
Летом 1957 года Анна после долгой разлуки пришла к своей подруге Молли…
Женщины были одни в лондонской квартире.
— Дело в том, — сказала Анна, когда ее подруга, поговорив по телефону на лестничной площадке, вернулась в комнату, — дело в том, что, насколько я понимаю, все раскалывается, рушится.
Молли всегда много говорила по телефону. Перед тем как он зазвонил, она как раз успела спросить:
— Ну? Что слышно?
А теперь она сказала:
— Это Ричард. И он едет сюда. По-видимому, на ближайший месяц у него все расписано и только сегодня вечером выдалась свободная минутка. Во всяком случае, он так утверждает.
— Ну что ж, я никуда не ухожу, — решила Анна.
— Да, спокойно оставайся.
Молли критично себя осмотрела — на ней были брюки и свитер. И то и другое — хуже некуда.
— Ему придется принять меня такой, какая я есть, — заключила она и села у окна. — Он не стал говорить, в чем там дело. Я полагаю, очередной кризис с Марион.
— А он не писал тебе? — спросила Анна, осторожно.
— И он, и Марион писали. Эдакие добродушные послания от старых друзей-приятелей. Странно, верно ведь?
Это «странно, верно ведь?» было характерным обертоном того жанра их интимных бесед, который они определяли как «сплетни». Но, подпустив эту нотку, Молли тут же сменила тональность:
— Нет никакого смысла обсуждать это сейчас, потому что Ричард приедет с минуты на минуту. Так он сказал.
— Возможно, как только он увидит меня, он тут же уйдет, — предположила Анна жизнерадостно, но несколько агрессивно.
Молли пристально взглянула на подругу:
— Да? А почему?
Всегда считалось, что Анна и Ричард недолюбливают друг друга, и раньше, когда он собирался зайти, Анна всегда уходила. А сейчас Молли сказала:
— На самом деле я считаю, что в глубине души он тебе симпатизирует. Дело в том, что Ричард вынужден из принципа хорошо относиться ко мне, а он такой дурак, что умеет относиться к человеку только или хорошо, или плохо. Поэтому все то негативное отношение ко мне, которое у него есть и в котором он не признается даже самому себе, он просто перебрасывает на тебя.
— Очень мило, — сказала Анна. — А знаешь что? Пока тебя не было, я обнаружила, что для многих людей мы с тобой — взаимозаменяемы.
— И ты поняла это только сейчас? — спросила Молли, торжествуя, как она всегда это делала, когда Анна наконец-то осознавала то, что для нее, Молли, было самоочевидным.
В отношениях этих женщин равновесие установилось давно: Молли в целом была более опытной и искушенной, а Анна, в свою очередь, превосходила ее талантом.
Анна промолчала, оставив свое мнение при себе. Она улыбнулась, признавая собственную несообразительность.
— И это при том, что мы такие разные во всем, — сказала Молли. — Как странно. А все потому, я думаю, что мы ведем одинаковый образ жизни — не выходим замуж, и все такое прочее. Люди только это и видят.
— Свободные женщины, — сказала Анна, напряженно. И с какой-то непривычной для Молли яростью, что заставило ту еще раз бросить на подругу быстрый изучающий взгляд, она добавила: — Окружающие по-прежнему оценивают нас исключительно с точки зрения наших отношений с мужчинами. Так делают даже лучшие из них.
— Но мы и сами так делаем, разве нет? — спросила Молли, довольно резко. — Что ж, весьма затруднительно этого избежать, — торопливо поправилась она, заметив удивленный взгляд Анны. Повисла небольшая пауза, во время которой женщины не смотрели друга на друга и размышляли о том, что год разлуки — немалый срок, даже для такой проверенной временем дружбы.
Наконец, вздохнув, Молли сказала:
— Свободные. Знаешь, пока меня здесь не было, я думала о нас, и я пришла к выводу, что мы являем собой совершенно новый тип женщин. Это наверняка так, правда?
— Ничего нового под солнцем нет, — сказала Анна, пытаясь изобразить немецкий акцент.
Молли, а она свободно владела полудюжиной языков, раздраженно повторила вслед за Анной:
— Ничего нового под солнцем нет, — идеально воспроизведя резкий голос пожилой женщины и ее немецкий акцент.
Анна скривилась, признавая свое поражение. Ей не давались языки, и она была слишком скованна для того, чтобы пытаться в кого-то перевоплотиться: а Молли на какое-то мгновение даже внешне стала невероятно похожа на Сладкую Мамочку, или на миссис Маркс, к которой они обе ходили на сеансы психоанализа. Все те невысказанные чувства, которые в обеих рождал торжественный и болезненный ритуал психоанализа, нашли свое отражение в этом прозвище — «Сладкая Мамочка». Оно постепенно превратилось в нечто большее, чем прозвище конкретного человека, и стало обозначать целое мировоззрение — традиционное, имеющее глубокие корни, консервативное, несмотря на скандально близкое знакомство со всем безнравственным. Несмотря на — так выражали свои чувства по отношению к этому ритуалу Анна и Молли, когда они его обсуждали; а в последнее время Анна все больше и больше склонялась к тому, что правильнее было бы говорить в силу того, что; и это было одной из тех тем, которые ей не терпелось поскорее обсудить с подругой.
Но Молли, сопротивляясь, как она частенько делала и в прошлом, даже малейшему намеку на критику Сладкой Мамочки со стороны Анны, быстро сказала:
— Все равно она была великолепна, а я тогда была слишком плоха, чтобы еще и критиковать кого-то.
— Сладкая Мамочка, когда дело касалось меня, имела обыкновение говорить: «Ты — Электра» или «Ты — Антигона», — и точка, — сказала Анна.
— Ну, не совсем уж и точка, — натянуто сказала Молли, отстаивая те болезненные часы испытаний, которые они обе пережили у Сладкой Мамочки.
— Нет точка, — повторила Анна, неожиданно резко настаивая на своем, так что Молли, уже в третий раз, взглянула на нее с удивлением. — Точка. Нет-нет, я не говорю, что она не помогла мне очень и очень серьезно. И я уверена, что без нее я не справилась бы с тем, с чем мне тогда нужно было справиться. И все равно… Я очень отчетливо помню один день, помню, как я там сидела — большая комната, приглушенный боковой свет, Будда, и все эти картины, и все эти скульптуры.
— Ну и? — сказала Молли, теперь уже очень критично.
Анна, невзирая на невысказанную, но вполне определенную решимость не подвергать все это обсуждению, сказала:
— Я уже несколько месяцев думаю обо всем этом… нет, я бы хотела обсудить это с тобой. В конце концов, мы обе через это прошли, и с одним и тем же человеком…
— Ну и?
Анна продолжала настаивать:
— Я помню тот день, и как я поняла, что никогда больше туда не вернусь. И все из-за этих проклятых произведений искусства, которыми был забит весь ее дом.
Молли втянула в себя воздух, резко. Она сказала, быстро:
— Я не понимаю, о чем ты.
А поскольку Анна не отвечала, она поинтересовалась обвиняющим тоном:
— А ты что-нибудь написала за то время, пока меня не было?
— Нет.
— Я говорю тебе снова и снова, — сказала Молли, и голос ее звучал резко, — что никогда не прощу тебя, если ты зароешь свой талант. Я говорю это серьезно. Я сама сделала это, и мне невыносимо наблюдать, как теперь это делаешь ты, — я и рисовала, и танцевала, и на сцене играла, и бумагу марала, и вот теперь… Анна, ты такая талантливая, но не хочешь использовать свой талант. Почему? Я просто не могу этого понять.
— Как я могу тебе это объяснить, если ты всегда говоришь об этом с такой горечью и с таким осуждением?
Молли устремила на подругу взгляд, исполненный боли и упрека, в ее глазах стояли слезы. Она с трудом проговорила:
— В глубине души я всегда считала так: что ж, когда-нибудь я выйду замуж, поэтому не так уж важно, что я впустую растрачиваю все таланты, которые были дарованы мне при рождении. До недавнего времени я даже мечтала, что у меня будут еще дети, — да, я знаю, что это очень глупо, но, тем не менее, это так. И вот теперь мне сорок, а Томми вырос. Но дело в том, что если ты не пишешь просто потому, что думаешь, будто выйдешь замуж…
— Но мы же обе мечтаем выйти замуж, — сказала Анна, пытаясь обратить все в шутку, ее тон вернул разговор в более спокойное русло; с болью она поняла, что все-таки некоторые темы обсудить с Молли ей не удастся.
Молли улыбнулась, сухо, бросила на подругу взгляд, проницательный и колкий, и сказала:
— Хорошо, но позже ты об этом пожалеешь.
— Пожалею, — сказала Анна, рассмеявшись от неожиданности. — Молли, почему ты никогда не можешь поверить в то, что и у других людей могут быть те же проблемы и та же беспомощность, что и у тебя?
— Потому что тебе повезло и у тебя один талант, а не четыре.
— А может быть, мой единственный талант подвергался столь же сильному давлению, как все твои четыре, вместе взятые?
— Я не собираюсь обсуждать это в таком тоне. Приготовить тебе чаю, пока мы ждем Ричарда?
— Я бы лучше выпила пива или еще чего-нибудь.
И она добавила с провоцирующей ноткой в голосе:
— Я тут подумала, что со временем я вполне могу начать пить.
Молли ответила голосом старшей сестры, как того и требовал тон ее подруги:
— Не следует с этим шутить, Анна. Особенно когда видишь, до чего это доводит, — посмотри на Марион. Интересно, она так и пила, пока меня здесь не было?
— Я могу ответить тебе на этот вопрос. Да, так и пила. Она несколько раз заходила ко мне пообщаться.
— Заходила к тебе пообщаться?
— Я на это и намекала, когда сказала тебе, что люди считают, будто мы с тобой — взаимозаменяемы.
Молли была склонна к собственническим чувствам, и, как Анна и ожидала, следующий вопрос она задала ей с недовольным видом:
— Полагаю, ты собираешься мне сказать, что и Ричард тоже заходил к тебе?
Анна кивнула, и Молли отрывисто бросила:
— Пойду принесу нам пива.
Она вернулась с кухни с двумя большими запотевшими стаканами и сказала:
— Так, может, будет лучше, если ты мне все расскажешь до того, как сюда приедет Ричард, как думаешь?
Ричард был мужем Молли, а точнее — когда-то был ее мужем. Сама Молли была плодом того, что она называла «одним из типичных браков двадцатых годов». И ее мать, и ее отец блистали, правда совсем недолго, в интеллектуальных и богемных кругах, центром которых были такие великие светила, как Хаксли, Лоуренс, Джойс и так далее. Ее детство было катастрофой, поскольку брак ее родителей просуществовал всего несколько месяцев. Молли вышла замуж в возрасте восемнадцати лет за сына одного из друзей своего отца. Теперь она понимала, что выскочила замуж потому, что нуждалась в стабильности и даже в какой-то респектабельности. Плодом этого брака стал мальчик Томми. Ричард еще в свои двадцать демонстрировал задатки весьма солидного бизнесмена, коим он и стал с течением времени: они с Молли мирились с взаимной несовместимостью немногим больше года. Потом он женился на Марион, и у них родилось трое сыновей. Томми остался с Молли. Она и Ричард после того, как бракоразводный процесс был завершен, снова стали друзьями. А позже и Марион стала ее подругой. В то время по поводу сложившейся ситуации Молли частенько говорила: «Все это очень странно, верно ведь?»
— Ричард приходил ко мне поговорить о Томми, — сказала Анна.
— Что? Почему?
— Да ну, полный идиотизм! Он спросил меня, не думаю ли я, что Томми вредно так много времени проводить в размышлениях. Я сказала, что считаю, что размышлять полезно всем, если только под этим словом он подразумевает «думать»; а поскольку Томми уже исполнилось двадцать лет и он уже вырос, мы в любом случае не должны вмешиваться.
— Но это действительно идет Томми не на пользу, — сказала Молли.
— Он спросил меня, не думаю ли я, что Томми пойдет на пользу какая-нибудь деловая поездка, в Германию, вместе с ним, с Ричардом. Я сказала, что спрашивать надо Томми, а не меня. Естественно, Томми отказался.
— Естественно. Но мне жаль, что Томми не поехал.
— Но, я думаю, истинная причина, которая заставила Ричарда прийти ко мне, связана с состоянием Марион. Однако Марион заглянула ко мне как раз перед ним, поэтому ее заявка имела, так сказать, приоритет первоочередности. И поэтому я вообще не стала обсуждать с ним Марион. Думаю, вполне вероятно, что Ричард и с тобой хочет поговорить о жене.
Молли внимательно смотрела на Анну.
— А сколько раз Ричард приходил к тебе?
— Пять или шесть.
Помолчав немного, Молли дала волю своему гневу:
— Это очень странно, что он ожидает от меня, что я буду держать Марион под контролем. Почему я? Или ты? Знаешь, может быть, тебе все-таки лучше уйти. Встреча может оказаться нелегкой, если все эти сложные разговоры происходили за моей спиной, пока я была в отъезде.
Анна сказала твердо:
— Нет, Молли. Я не просила Ричарда приходить ко мне и говорить со мной. Я не просила Марион приходить ко мне и говорить со мной. В конце концов, это не твоя и не моя вина, что мы, похоже, играем одну и ту же роль в жизни некоторых людей. Я сказала им то, что и ты бы им сказала. Во всяком случае, я так думаю.
Она проговорила все это как-то дурашливо, и даже так, словно ребенок упрашивал о чем-то взрослого. И она сделала это преднамеренно. Молли, старшая сестра, улыбнулась и сказала:
— Ну ладно, хорошо.
Она продолжала пристально и строго смотреть на Анну, а та старательно делала вид, что этого не замечает. Пока она не хотела говорить Молли о том, что произошло между ней и Ричардом. Она сделает это только после того, как расскажет ей обо всех своих злоключениях прошедшего года.
— А Марион сильно пьет?
— Да, думаю — сильно.
— И она обсуждала это с тобой?
— Да. Во всех подробностях. И что странно, клянусь тебе, она говорила со мной так, будто я — это ты, она даже допускала оговорки, случайно называла меня Молли, и все такое прочее.
— Ну не знаю, — сказала Молли. — Кто бы мог подумать? А ведь мы с тобой как мел и сыр — ничего общего.
— Может, не такие уж мы и разные, — сказала Анна сухо, но Молли только недоверчиво рассмеялась в ответ.
Она была женщиной довольно высокой и широкой в кости, однако казалась стройной, легкой и даже похожей на мальчишку. Такое впечатление создавалось из-за ее прически (волосы у Молли были жесткие, пестро-золотистые, а стриглась она по-мальчишески) и из-за ее манеры одеваться, а к этому у нее был большой природный дар. Молли нравилось менять свой облик, и это ей прекрасно удавалось: например, она могла подолгу ходить в узких брючках и разных свитерках, смотрясь при этом как девчонка-сорванец, а затем вдруг предстать в образе сирены — большие зеленые глаза тщательно подведены, выступающие скулы подрумянены, роскошное платье выгодно подчеркивает красивую большую грудь.
Это было одной из тех ее личных игр, в которые она играла с жизнью, и Анна завидовала этой ее способности; однако же в моменты самобичевания Молли признавалась Анне, что стыдится самой себя, ей стыдно, что она с таким наслаждением играет разные роли:
— Как будто бы я и в самом деле каждый раз — совсем другая, разве ты не понимаешь? Я даже ощущаю себя другим человеком. И в этом есть что-то недоброе — помнишь, я на прошлой неделе рассказывала тебе об одном мужчине, — так вот, когда мы познакомились, я была в штанах и в старой шерстяной кофте мешком, а потом я вкатилась в ресторан, не больше не меньше — femme fatale, роковая женщина, и он вообще не знал, с какого боку ко мне подойти, как ко мне подступиться, не смог из себя выдавить ни единого слова за целый вечер, а я получала от всего этого удовольствие. Что скажешь, Анна?
— Но ты и вправду получаешь от этого удовольствие, — говорила та, смеясь.
Сама Анна была маленькой, худенькой, смуглой, хрупкой женщиной, с большими черными всегда настороженными глазами и с пышной стрижкой. В целом Анна была довольна своей внешностью, но она всегда была одинаковой. Она завидовала способности Молли проецировать изменения собственного настроения на внешний мир. Анна одевалась аккуратно и изящно, вещи, которые она для себя выбирала, иногда смотрелись несколько чопорно, а порой и весьма странно; и она всегда надеялась на то, что ее изящные белые руки, ее маленькое заостренное бледное личико в состоянии произвести должное впечатление. Однако Анна была застенчива, не умела уверенно заявить о себе, и она легко могла, по ее собственному убеждению, остаться незамеченной.
Когда эти женщины куда-нибудь выходили вместе, Анна намеренно делалась незаметной и подыгрывала эффектной Молли. Когда они оставались наедине, она, скорее, лидировала. Но это ни в коей мере не относилось к начальному периоду их дружбы. Молли, резкая, прямолинейная, бестактная, в то время откровенно доминировала над Анной. Постепенно, и услуги Сладкой Мамочки немало этому способствовали, Анна научилась отстаивать саму себя. Но даже и теперь случались такие моменты, когда Анне следовало бы противостоять Молли, а она этого не делала. Она признавалась себе в собственной трусости; ей всегда было легче сдаться, чем вступить в поединок или же пережить бурную сцену. Ссоры прибивали Анну к земле, и надолго, в то время как Молли только расцветала и словно бы набиралась сил. Она бурно рыдала, говорила непростительные вещи, а к середине дня уже благополучно и полностью забывала все. Анна же тем временем день за днем хоронилась у себя дома, кривобоко и неумело себя восстанавливая.
То, что обе они были «нестабильными» и «лишенными корней», а слова эти вошли в их обиход в эпоху Сладкой Мамочки, подруги открыто признавали. Но с недавних пор Анна начала учиться употреблять эти слова по-новому, не как нечто, за что следует приносить извинения, а как знамена и флаги, возвещающие о таком отношении к жизни, которое практически равнялось совершенно новой жизненной философии. Ей очень нравилось представлять себе, как она скажет Молли: «У нас ко всему было абсолютно неверное отношение, и виновата в этом Сладкая Мамочка». Что есть такого в этой самой стабильности и в этой уравновешенности, что делает их такими уж хорошими? И чем плоха эмоционально ненадежная жизнь в мире, который меняется с такой скоростью, как он это делает?
Но сейчас, сидя рядом с Молли и беседуя с ней, как они делали прежде уже не одну сотню раз, Анна говорила сама себе: «Почему я всегда испытываю эту ужасающую потребность заставить людей увидеть вещи такими, какими их вижу я? Это как-то по-детски, почему и другие должны все так видеть? Это сводится к тому, что я боюсь остаться одинокой в своих чувствах».
Они сидели в комнате на втором этаже с видом на узкий переулочек; на подоконниках соседних домов стояли ящики с цветами, ставни были яркими, разноцветными, а мостовая была украшена тремя млеющими на солнце котами, китайским мопсом и тележкой молочника, припозднившегося по случаю воскресного дня. Молочник был в белой рубахе с закатанными рукавами, а его сын, парень лет шестнадцати, легкими скользящими движениями доставал из проволочной корзины сверкающие белые бутыли и опускал их на порог. Когда молочник оказался под их окном, он поднял голову и кивнул им. Молли сказала:
— Вчера он заходил ко мне на чашечку кофе. Весь такой торжествующий и гордый. Его сын получил стипендию, и мистер Гейтс хотел мне об этом сообщить. Я сказала ему, опережая все, что он мог бы сказать: «У моего сына были все преимущества, какие только могут быть, он получил самое лучшее, какое только может быть, образование, и посмотрите на него теперь: мальчик не знает, чем себя занять. А на вашего не было потрачено ни единого пенни, а он получил стипендию и будет учиться». «Да, это так, — кивнул молочник, — так оно и бывает». Тогда я подумала, да будь я проклята, если я буду просто сидеть и все это выслушивать, поэтому заявила: «Мистер Гейтс, ваш сын теперь отправится наверх, примкнет к нам, к среднему классу, и вы больше не будете говорить с ним на одном языке. Вы же понимаете это, правда?» «Так устроен мир», — ответил он. Я сказала: «Это не мир так устроен, а жизнь в этой чертовой поделенной на классы стране». А он, мистер Гейтс, сам-то он из этих чертовых пролетариев-тори, он сказал: «Так устроен мир, мисс Джейкобс, вы говорите, ваш сын не знает, как ему жить дальше? Это очень печально». И с этими словами он ушел и отправился дальше по своему молочному маршруту, а я поднялась наверх, и там на своей кровати сидел Томми, просто сидел и все. Он, может, и сейчас там сидит, если он дома. Мальчишка Гейтса, тот словно сделан из одного цельного куска, он будет добиваться того, чего хочет. А Томми, вот как я приехала три дня назад, он так все время и сидит на кровати, думает, и больше он не делает ничего.
— Ой, Молли, да не волнуйся ты так. С ним будет все в порядке.
Они высунулись из окна, опираясь о подоконник, и наблюдали за мистером Гейтсом и его сыном. Маленький, проворный, крепенький человечек; и его сын — высокий, крепкий и симпатичный. Женщины наблюдали, как этот парень, возвращаясь с пустой корзиной, уверенным движением достает из тележки полную, получая от отца указания, улыбаясь ему и кивая. Там, между ними, царило полное взаимопонимание; и подруги, а обе они растили детей без мужчин, кривляясь, обменялись завистливыми улыбочками.
— Дело в том, — сказала Анна, — что ни одна из нас не была готова выйти замуж только для того, чтобы у наших детей были отцы. Поэтому теперь мы должны расплачиваться за последствия. Если они вообще есть. А почему, собственно, должны быть последствия?
— Тебе-то хорошо, — ответила Молли кисло. — Ты никогда ни из-за чего не волнуешься, ты просто пускаешь все на самотек.
Анна взяла себя в руки — ей почти удалось промолчать, но потом она все-таки проговорила, напряженным голосом:
— Я не согласна с тобой. Мы обе пытаемся идти и тем и другим путем. Мы никогда не соглашались жить по правилам и предписаниям; но тогда зачем волноваться, если мир относится к нам не по правилам? Вот к чему все сводится.
— В этом вся ты, — сказала Молли враждебно. — Но я по своему складу не теоретик. А ты всегда так делаешь, — когда ты с чем-нибудь сталкиваешься, ты начинаешь строить теории. А я просто волнуюсь из-за Томми.
На этот раз Анна уже не смогла возразить; ее подруга говорила с непоколебимым убеждением. Она стала снова наблюдать за тем, что происходит на улице. Мистер Гейтс и его парнишка уже сворачивали за угол, таща за собой красную тележку, и почти что скрылись из виду. А на противоположном конце улочки появился кто-то новенький: еще один мужчина с тележкой.
— Свежая деревенская клубника! — выкрикивал он. — Собрана сегодня утром! Деревенская клубника прямо с грядки…
Молли взглянула на Анну: та кивнула ей, просияв как маленькая девчонка. (Она прекрасно понимала, и это было ей неприятно, что предназначение этой беззаботной девчоночьей улыбки — смягчить критичное отношение Молли.)
— Я и для Ричарда немного куплю, — сказала Молли и выбежала из комнаты, прихватив со стула сумочку.
Анна по-прежнему выглядывала из окна, находясь в пространстве, заполненном мягким сиянием солнца, и наблюдала за Молли, которая уже о чем-то оживленно беседовала с торговцем клубникой. Молли смеялась и бурно жестикулировала, мужчина качал головой и явно с ней не соглашался, а поток тяжелых ярких ягод между тем струился на чашу весов.
— Но у вас нет никаких накладных расходов, — расслышала Анна. — Тогда почему мы должны платить ровно столько же, сколько и в магазине?
— А в магазинах не бывает такой свежей утренней клубники, мисс, таких ягод там нет.
— Ой, да ладно, — сказала Молли, скрываясь за дверью с белой миской, наполненной красными ягодами. — Акулы, вот вы кто!
Торговец клубникой, молодой, с желтоватым лицом, тощий и довольно убогий парень, с раздосадованным видом взглянул на их окно, в проеме которого уже появилась и Молли. Увидев там обеих женщин, он, неумело убирая свои сверкающие весы, сказал:
— Накладные расходы! Да что вы об этом знаете?
— Тогда поднимайтесь к нам, выпейте кофе и все нам расскажите, — предложила Молли вызывающе. Лицо ее так и светилось.
В ответ на это он опустил голову и заметил, обращаясь к мостовой:
— Некоторые должны работать, если другие бездельничают.
— Ой, да ладно, — сказала Молли. — Не будьте таким занудой. Поднимитесь и поешьте с нами своей клубники. За мой счет.
Торговец никак не мог понять, что эта женщина из себя представляет и как ему к ней относиться. Он стоял, нахмурившись, с неуверенным выражением на лице, наполовину закрытом слишком длинной челкой из светлых и давно не мытых волос.
— Я не такой, если вы такие, — молвил он наконец, уже немного в сторону.
— Вам же и хуже! — сказала Молли со смехом, отходя от окна и глядя на Анну, всем своим видом показывая, что она отказывается чувствовать себя виноватой.
Но Анна высунулась из окна и, увидев обиженное и упрямое выражение его спины, утвердилась в своем отношении к случившемуся. Тихим голосом она сказала:
— Ты его обидела.
— Черт побери! — Молли пожала плечами. — Вот я и снова в Англии — все такие закрытые, обидчивые, а мне, как только я ступаю на эту промерзшую почву, хочется ломать все это, хочется вопить, кричать. Стоит мне только вдохнуть наш священный воздух, как я чувствую, что попала в ловушку.
— И все равно, — сказала Анна. — Этот парень считает, что ты над ним насмехалась.
Из дома напротив выплыла еще одна покупательница: женщина, одетая по-воскресному небрежно и уютно, — в шлепанцах, домашних штанах, свободной рубахе и в желтом шарфе, обмотанном вокруг головы. Торговец клубникой обслужил ее, но как-то нехотя. Прежде чем он взялся за ручки своей тележки, чтобы катить ее дальше, парень снова взглянул на их окно и, увидев там одну только Анну, — маленький острый подбородочек прикрыт рукой, внимательный взгляд темных глаз устремлен на него, на лице улыбка, — сказал с добродушным недовольством:
— Накладные расходы, да много такие понимают…
И он фыркнул, легко и презрительно. Он их простил.
Торговец удалялся вверх по улочке, толкая перед собой груды матово-красных, блестящих на солнце ягод и крича:
— Свежая деревенская клубника! Еще сегодня утром была на грядке!
А потом его голос утонул в шуме машин, доносившемся с оживленной улицы, на которую через пару сотен ярдов выходил их маленький переулочек.
Анна оглянулась и обнаружила, что Молли выставляет на подоконник миски с ягодами, залитыми сливками.
— Я решила, что мы не станем переводить ягоды на Ричарда, — сказала Молли. — Ему все равно никогда ничего не нравится. Еще пива?
— Вообще-то к клубнике полагается вино, — сказала Анна в жадном предвкушении и помешала ягоды ложкой, чувствуя их мягкое уклончивое сопротивление ее движениям и шелковистую податливость сливок под шершавой корочкой из сахарного песка. Молли проворно наполнила бокалы вином и поставила их на белый подоконник. Солнечный свет, преломляясь сквозь стаканы, лег на белую краску алыми и желтыми ромбами, и две женщины, нежась в лучах солнца, сели у окна, вздыхая от удовольствия, вытянув вперед ноги, подставляя их уходящему теплу, и любуясь цветом ягод в ярких мисках и красного вина в бокалах.
Но вот зазвонил дверной колокольчик, и они обе инстинктивно подобрались и приняли более сдержанные позы. Молли снова высунулась из окна и закричала:
— Береги голову! — и бросила вниз завернутый в старый шарф ключ от двери.
Они пронаблюдали, как Ричард нагнулся, чтобы поднять ключ, даже не взглянув наверх, хотя он наверняка понимал, что Молли, уж она-то точно, выглядывает из окна.
— Он ненавидит, когда я так делаю, — сказала Молли. — Не странно ли это? После всех этих лет? И его способ это показать — просто притвориться, что ничего не было.
Ричард вошел в комнату. Это был мужчина средних лет, но выглядел он моложе своего возраста, благодаря прекрасному загару, полученному во время отпуска в Италии в самом начале лета. На нем были желтая футболка в обтяжку и новые легкие брюки: в течение всего года, и зимой и летом, по воскресеньям Ричард Портман одевался так, как будто едет за город. Он был членом разнообразных приличествующих ему по статусу теннисных и гольф-клубов, но никогда не играл, разве что когда этого требовали интересы бизнеса. Много лет назад Ричард обзавелся загородным домом; но он лишь отправлял туда семью, сам же там не появлялся, за исключением тех случаев, когда было желательно развлечь деловых партнеров на лоне природы. Он был горожанином до мозга костей. Выходные дни он проводил, заглядывая то в один клуб (паб, бар), то в другой. Ричард был мужчиной невысоким, смуглым, крепкого телосложения, даже слегка полноватым. Его круглое лицо, когда он улыбался, было весьма привлекательным, когда же Ричард не улыбался, оно имело упрямое и почти что мрачное выражение. Весь его основательный облик — чуть наклоненная вперед голова, внимательные немигающие глаза — указывал на его упрямую решимость.
Ричард нетерпеливым движением вернул ключ, свободно обмотанный алым шарфом, Молли. Она взяла его и, пропуская мягкую материю сквозь свои сильные белые пальцы, заметила:
— Собираешься провести оздоровительный денек за городом, Ричард?
Он сдержался и ничего на это не ответил, сухо улыбнулся и вгляделся в ослепительное сияние солнечного света, льющегося из белого окна. Различив в этом сиянии Анну, он невольно нахмурился, сухо кивнул и, поспешно присев в противоположном от них обеих углу, сказал:
— Молли, я не знал, что у тебя гости.
— Анна не гость, — сказала Молли.
Она сознательно сделала паузу и дала Ричарду время сполна насладиться зрелищем, которое они собою представляли: вот они праздно нежатся в лучах солнца, слегка развернувшись в его сторону и глядя на него благожелательно и вопросительно, а затем спросила:
— Ричард, хочешь вина? Или пива? Кофе? Или, может, чашку хорошего чаю?
— Если у тебя есть виски, выпью, пожалуй.
— Рядом с тобой, — сказала Молли.
Однако, заявив таким образом, как он явно считал, о своей мужественности, Ричард даже не шелохнулся.
— Я пришел, чтобы поговорить о Томми.
Он взглянул на Анну, которая вылизывала из своей мисочки остатки клубничного десерта.
— Но ты же уже обсуждал все это с Анной, насколько мне известно, так что теперь мы можем обсудить это втроем.
— Так Анна рассказала тебе…
— Нет, — сказала Молли. — Сегодня нам впервые наконец удалось встретиться.
— Так я нарушил ваш первый задушевный тет-а-тет. — Ричард искренне старался, чтобы это прозвучало добродушно и смиренно.
Однако это вышло у него неестественно и напыщенно, и обе женщины смутились.
Ричард резко встал.
— Уже уходишь? — осведомилась Молли.
— Я хочу позвать сюда Томми.
Он уже набрал полные легкие воздуха, готовясь испустить, как они знали, командный клич, когда Молли остановила бывшего мужа, сказав:
— Ричард, не кричи на него. Томми уже не ребенок. К тому же я не думаю, что он дома.
— Ясное дело, дома.
— Откуда ты знаешь?
— Он выглядывал из верхнего окна. Ты меня удивляешь: ты даже не знаешь, дома твой сын или нет.
— Ну и что? Я не веду за ним слежку.
— Все это прекрасно, ну и к чему это привело?
Теперь они в упор смотрели друг на друга, посерьезнев от неприкрытой взаимной враждебности. В ответ на его «Ну и к чему это привело?» Молли сказала:
— Я сейчас не стану дискутировать на тему, как следовало воспитывать Томми. Давай, прежде чем мы станем подсчитывать очки, дождемся, пока твои трое подрастут.
— Я пришел сюда не для того, чтобы обсуждать моих сыновей.
— А почему бы и нет? Мы обсуждали их сотни раз. А теперь, я думаю, ты и с Анной успел их обсудить.
Наступила пауза, во время которой каждый из них пытался совладать с гневом. Подруги были удивлены и встревожены тем, что он вспыхнул так быстро и с такой силой. История отношений Молли с Ричардом была такова. Они повстречались в 1935 году. Молли была глубоко вовлечена в дело поддержки республиканской Испании. Ричард тоже. (Но, как говорила Молли, когда Ричард вспоминал то время и трактовал его применительно к себе как досадную оплошность впадения в политическую экзотичность: «А кто же этим не увлекался в те дни?») Портманы, люди богатые, тут же решили, что это свидетельствует о незыблемости его коммунистических умонастроений, и лишили сына содержания. (Молли это описывала так: «Боже мой, оставили его без единого гроша!» Естественно, сам Ричард был в восторге. До этого родители никогда не воспринимали его всерьез. Он тут же предъявил им партийный билет.) У Ричарда в жизни был один-единственный талант — делать деньги, но в те дни его талант еще не проявился, и Молли содержала мужа в течение двух лет, пока он готовился стать писателем.
(Молли, но, конечно, позже, годы спустя: «Вы можете себе представить что-нибудь более банальное? Однако Ричард, разумеется, во всем и всегда должен быть как все. Все собирались стать великими писателями, буквально все! А вы знаете, какой по-настоящему ужасающий скелет хранится в коммунистическом шкафу, — в чем заключается страшная правда? А в том, что у каждого старого боевого партийного коня, — знаете, это такие люди, которые, как вам кажется, годами не думали ни о чем, кроме партии и ее интересов, — так вот, буквально у каждого из них где-нибудь припрятана старая рукопись или стопочка листков со стихами. Каждый собирался стать Горьким или Маяковским наших дней. Разве это не ужасно? Разве это не разрывает душу? Все они, все — неудавшиеся творцы. Я уверена, что за этим что-то стоит, если бы я только знала что».) После расставания с Ричардом Молли продолжала его содержать в течение еще многих месяцев, по своей доброте или же из жалости. Его отвращение к левым взглядам в политике, пришедшее к нему весьма внезапно, совпало с переменой в его отношении к Молли — Ричард стал считать, что она аморальна, распущена и богемна. Как бы там ни было, к счастью для нее, у него к тому времени случилась связь с какой-то девушкой, короткая, но получившая определенную огласку, что предотвратило получение им прав на Томми, чем он угрожал Молли. Потом Ричард был снова принят в лоно семьи Портманов и получил, как говорила Молли с ноткой дружелюбного соболезнования в голосе, «какую-то там работу в Сити». Она и по сей день в полной мере не осознавала того, каким могущественным человеком стал бывший муж, благодаря своему решению занять предложенную ему в то время должность. Потом Ричард женился на Марион, очень юной, доброй, милой и спокойной девушке, происходившей из довольно известной семьи. У них родилось трое сыновей.
Тем временем Молли, одаренная в столь многих областях, сначала занялась классическим танцем, но для балерины у нее было неподходящее телосложение; потом она пела и танцевала в каком-то ревю, но сочла, что это слишком фривольно; брала уроки рисования, но забросила их, когда началась война и она занялась журналистикой; оставила журналистику, чтобы участвовать в каких-то культурных мероприятиях, проводимых коммунистической партией; бросила и это занятие по той же причине, что и большинство людей ее типа, — это было невыносимо скучно; стала малоизвестной актрисой и, после многих метаний и страданий, смирилась с тем фактом, что она по своей природе — дилетантка. Источником, питавшим самоуважение Молли, было то, как она сама это определяла, что она не сдалась и не заползла в безопасную теплую норку. В безопасный брак.
А источником, питавшим ее тайное беспокойство, был Томми, из-за которого она вела с Ричардом многолетнюю битву. Ричард особенно осуждал бывшую жену за то, что она уехала на целый год, оставив Томми одного и предоставив его самому себе.
Он сказал, с горечью:
— За этот год, когда ты оставила Томми одного, я много раз с ним виделся и общался…
Она перебила его:
— Я ведь не раз уже объясняла, или пыталась объяснить, — я все продумала и решила, что Томми полезно пожить одному. Почему ты всегда говоришь о нем так, словно он маленький ребенок? Ему уже было девятнадцать с лишним лет, я оставила его в прекрасном доме, при деньгах, все было хорошо продумано и организовано.
— А почему бы тебе не признаться, что у тебя был вагон свободного времени, которое ты прекрасно провела, болтаясь по всей Европе, свободная от забот о Томми?
— Конечно, я прекрасно провела время, а почему бы и нет?
Ричард рассмеялся, громко и неприятно, а Молли сказала, нетерпеливо:
— Боже мой, конечно же, я была рада отдохнуть от сына, впервые с того дня, как я его родила. А почему бы и нет? А как насчет вас, — у тебя есть маленькая прекрасная Марион, по рукам и ногам связанная и привязанная к мальчикам, пока ты делаешь все, что хочешь, — и для тебя совсем другие правила. Я все пытаюсь тебе это объяснить, а ты все не слушаешь. Я не хочу, чтобы Томми превратился в одного из этих чертовых англичан, вечно живущих под гнетом матери. Я хотела, чтобы он от меня освободился. Да-да, не смейся, но это было неправильно, то, что он и я всегда вместе жили в этом доме, всегда в таком тесном общении, когда буквально каждый шаг одного из нас — на виду у другого.
Ричард раздраженно скривился:
— О да, знаю я эти твои убогие теории по этому вопросу.
Тут вмешалась Анна:
— Не только Молли, а и все женщины, которых я знаю, — я имею в виду — настоящие женщины, — боятся, что их сыновья вырастут такими, как… и у них есть все основания для беспокойства.
В ответ на это Ричард бросил на Анну враждебный взгляд, а Молли пристально посмотрела на них обоих.
— Какими такими, Анна?
— Я бы сказала, — пояснила Анна наигранно любезно, — такими несколько недовольными своей сексуальной жизнью. М-м-м… или же ты считаешь, что это слишком жесткая формулировка?
Ричард покраснел, лицо его вдруг стало уродливо темным, и снова повернулся к Молли, говоря ей:
— Хорошо, я не утверждаю, что ты преднамеренно сделала то, чего тебе делать не следовало.
— Спасибо.
— Но что, черт возьми, с ним происходит? Томми не сдал прилично ни одного экзамена, он не пошел учиться в Оксфорд, и теперь он просто сидит, размышляет и…
И Анна, и Молли расхохотались, услышав слово «размышляет».
— Мальчик беспокоит меня, — продолжал Ричард. — Он меня действительно беспокоит.
— Он и меня беспокоит, — сказала Молли рассудительно. — Именно это мы и собираемся обсудить, правда?
— Я предлагаю ему то одно, то другое. Я приглашаю Томми в такие места, где он может завести знакомства, которые пойдут ему на пользу.
Молли снова рассмеялась.
— Пожалуйста, можешь смеяться и фыркать. Но вообще-то ситуация такова, что смешного мало.
— Когда ты говоришь о том, что пойдет Томми на пользу, я всегда сначала думаю, будто ты имеешь в виду его эмоциональное состояние, его чувства. И я вечно забываю, какой ты претенциозный парень, и какой ты сноб.
— Слова не могут по-настоящему ранить, — сказал Ричард с неожиданным чувством собственного достоинства. — Ты ведешь один образ жизни, я — другой. Все, что я пытаюсь сказать, так это то, что я в состоянии предложить мальчику… ну, все, что он пожелает. А ему просто неинтересно. Другое дело, если б он занимался чем-нибудь созидательным с людьми твоего круга.
— Ты всегда говоришь так, словно я пытаюсь настроить Томми против тебя.
— Именно это ты и делаешь.
— Если ты имеешь в виду, что я всегда открыто высказывала свое мнение о твоем образе жизни, о твоих ценностях, о твоем понимании того, что такое успех и как к нему идти, и всякое такое прочее, то да, — именно это, разумеется, я и делала. А с какой стати ты ожидал, что я заткнусь и стану молчать о своих убеждениях? Но я всегда говорила Томми: вот, это твой отец, ты должен познакомиться с тем миром, в котором он живет, ведь он же, в конце концов, существует.
— Великодушно с твоей стороны.
— Молли всегда подталкивает сына к более частым встречам с тобой, — вставила Анна. — Да, это так. Я и сама всегда так делаю.
Ричард нетерпеливо кивнул, давая понять, что их разговоры не имеют значения.
— Ты в детях совершенно ничего не понимаешь, Ричард. Они не любят, когда их мир раскалывается. Посмотри, с кем он общается через меня: это художники, писатели, актеры и так далее.
— И политики. О товарищах не забывай.
— Да, и что? Мальчик вырастет, что-то понимая о том мире, в котором он живет, а это несколько больше, чем будут знать твои трое — Итон и Оксфорд, вот что их ждет, всех троих. А Томми знает разных людей. Он видит мир не так, как его видят обитатели тихой заводи высшего класса.
Анна сказала:
— Если вы будете продолжать в том же духе, вы ни к чему не придете. — Ее голос прозвучал слишком раздраженно, и она попыталась выправить свой тон, пошутив: — Вся беда в том, что вам двоим ни в коем случае нельзя было вступать в брак, а вы это сделали, или, по крайней мере, вам ни в коем случае не следовало заводить ребенка, а вы и это сделали…
В ее голосе опять зазвучало раздражение, и она опять попыталась его унять, говоря:
— Вы хоть отдаете себе отчет в том, что оба повторяете одно и то же, год за годом, год за годом? Может, пора уже признать, что вы не можете сойтись во мнении ни по одному из обсуждаемых вопросов, да и покончить наконец с этими разговорами?
— Как мы можем покончить с разговорами, когда речь идет о Томми? — сказал Ричард очень громко, в голосе его звучала досада.
— А ты не можешь не кричать? — сказала Анна. — Откуда ты знаешь, может, Томми слышит каждое слово? Может, именно в этом и заключается его проблема. Он, должно быть, ощущает самого себя неким яблоком раздора.
Молли быстро подошла к двери, открыла ее и прислушалась.
— Ерунда, я слышу, как он наверху печатает на машинке.
Она вернулась на свое место и сказала:
— Анна, ты меня утомляешь, когда делаешься такой английской-английской, с поджатыми губками.
— Я очень не люблю, когда говорят громко.
— А я еврейка, и мне нравится, когда говорят громко.
На лице Ричарда опять явственно отразилось страдание.
— Да, и ты называешь себя мисс Джейкобс. Мисс. Из соображений права на независимость и на самоидентификацию, — что бы это ни значило. А у Томми в результате такая вот мать — мисс Джейкобс.
— И в этом тебя раздражает не «мисс», — сказала Молли весело. — Тебя раздражает «Джейкобс». Ты всегда был антисемитом.
— Проклятие, — простонал Ричард.
— А скажи мне, сколько человек из круга твоего дружеского общения — евреи?
— Если верить тебе, у меня нет дружеского общения, а есть только деловое.
— Разумеется, за исключением твоих девушек. Я с интересом для себя отметила, что после меня три из четырех твоих женщин были еврейками.
— Боже милостивый, — сказала Анна. — Я ухожу домой.
И она действительно слезла с подоконника. Молли засмеялась, встала и подтолкнула ее назад, к окну.
— Ты должна остаться. Будь председателем нашего собрания. Судя по всему, он нам очень нужен.
— Очень хорошо, — сказала Анна, решительно. — Я им буду. Итак, прекратите биться друг с другом. К чему все это, в конце-то концов? Ведь по сути мы едины во мнении, и мы выносим один и тот же вердикт, не так ли?
— Разве? — спросил Ричард.
— Да. Молли считает, что ты должен предложить Томми работу где-нибудь там у себя.
Как и Молли, Анна автоматически начинала говорить несколько презрительно, как только речь заходила о мире Ричарда. Он раздраженно усмехнулся:
— Где-нибудь там у меня? Ты действительно хочешь этого, Молли?
— Если мне позволят высказаться, то да, я этого хочу.
— Ну вот, — сказала Анна. — Нет даже никаких оснований для споров.
Теперь Ричард налил себе виски, с забавно смиренным видом; а Молли сидела и ждала, с тем же забавно смиренным видом.
— Так решение принято? — сказал Ричард.
— Совершенно очевидно, что нет, — сказала Анна. — Потому что с этим решением должен согласиться и сам Томми.
— Итак, мы вернулись к тому, с чего начинали. Молли, а могу я узнать, почему ты не боишься отпускать своего драгоценного сына к служителям мамоны?
— Потому что я так его воспитала — он хороший человек. С ним все в порядке.
— То есть я не смогу его испортить? — Ричард говорил, улыбаясь и явно подавляя свой гнев. — А могу я спросить, на чем зиждется столь невероятная уверенность в истинности твоих ценностей? Ведь за последние пару лет они не раз подвергались ощутимым ударам? Не так ли?
Женщины обменялись взглядами, словно говоря друг другу: он должен был это сказать, давай не будем обращать на это внимания.
— А тебе не приходило в голову, что настоящая причина проблем Томми — это то, что он полжизни провел в окружении коммунистов или так называемых коммунистов, — большинство из тех, кого он знал, были так или иначе в это замешаны. А теперь все они выходят из партии, или уже вышли, — так не думаешь ли ты, что это могло возыметь свое действие?
— Ну да, очевидно.
— Очевидно, — сказал Ричард, раздраженно усмехаясь. — Как у тебя все просто, — но как дорого обошлись твои ценности, — Томми был воспитан на представлениях о красе и свободе доблестной советской родины.
— Ричард, я не стану обсуждать с тобой политические вопросы.
— Да, — вставила Анна, — вам, конечно, не стоит обсуждать политические вопросы.
Произведения
Критика