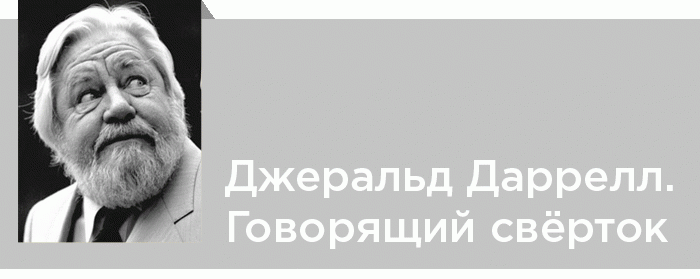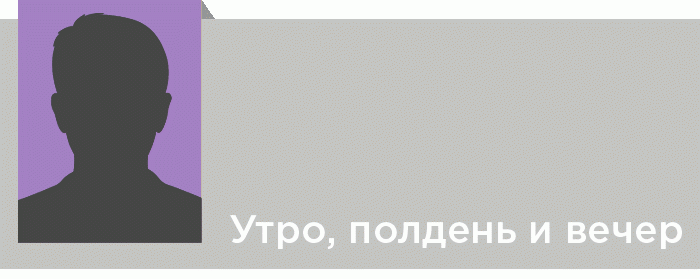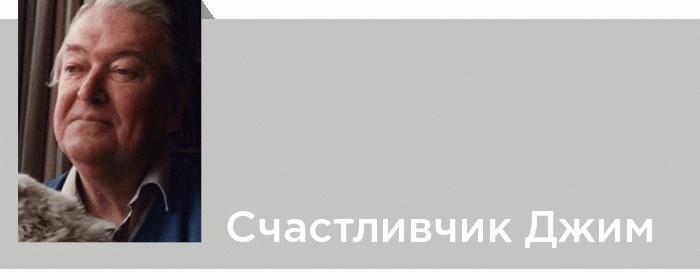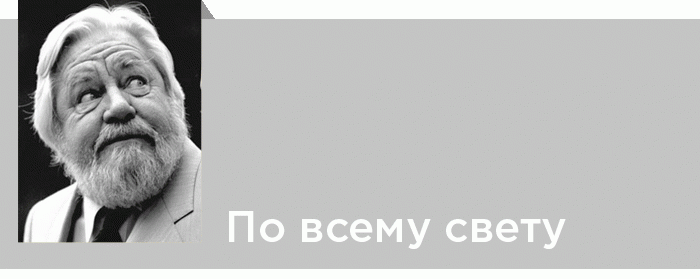Люди и звери. Памяти Джеральда Даррелла

А. Генис
Нет свидетеля честнее книжной полки. Пишущий человек часто выглядит умнее, чем он есть, ибо тексту легко удается выглядеть лучше автора; уж во всяком случае начитанней. Писать в определенном смысле проще, чем читать. Но библиотека знает все о страстях своего владельца. Потертость корешка — верный знак не только любви, но и постоянства: мимолетное чувство не оставляет следов на переплете. Только когда книгу читают даже не годами, а с детства, она приобретает благородную обветшалость, «печальное очарование вещей». Среди таких книг на моих полках — засаленный «Пиквик», несколько растрепанных томов Гоголя и Достоевского, «Швейк», Конан Дойль, «Три мушкетера», конечно, и еще — неопрятная серо-бурая пачка, засунутая в угол, чтоб не вываливалась. Это — десяток даррелловских книг. Зачитаны все, но одна, без признаков обложки, хуже других: это самая первая — «Перегруженный ковчег».
Мы оба появились на свет в 53-м году, но она сохранилась хуже. Что и неудивительно — я ее читал, сколько себя помню. За столько лет я убедился в том, что книги Даррелла обладают терапевтическими свойствами: они от всего помогают — от двоек до старости. Не всем, конечно. Но ведь и кошку не всякий погладит.
Читатели Даррелла становятся членами клуба: они образуют всемирное тайное общество. «Тайное» — потому что сами о нем не знают, пока не встретят себе подобного. Зато потом — не разлей вода: родство душ.
В России Даррелла любили совсем уж запойно. Я думаю, что мы у него вычитывали то, чего другим не приходило в голову: вопиющую аполитичность. В отличие от большинства окружавших нас писателей, Даррелла нельзя было вставить в идеологический контекст. В его книгах не было не только правых и левых, но даже правых и неправых. Герои Даррелла делятся не на положительных и отрицательных, а на людей и зверей. Причем — что редкость среди истовых любителей животных — Дарреллу нравились и те и другие.
Есть только два успешных способа взаимоотношения с миром: первый — ко всем относиться плохо, второй — хорошо. В обоих случаях мир не обманет ваших ожиданий.
У Даррелла была одна чисто английская черта, которой я смертельно завидую: он напрочь отказывается признавать существование зла. Зло он считает экстравагантностью, забавной причудой, милой чудаковатостью, смешным капризом характера. Наверное, он этому научился у зверей. Они не доросли до зла — их ведь никто не изгонял из райского сада. Даррелла, кажется, тоже. Одна из его книг о Корфу так и называется — «Сад богов».
Трилогия о Корфу — шедевр Даррелла. Хотя в отличие от других его сочинений, люди тут играют куда большую роль, чем звери. Оправдываясь, Даррелл пишет: «Я сразу сделал серьезную ошибку, впустив на первые страницы своих родных. Очутившись на бумаге, они принялись укреплять свои позиции и наприглашали с собой всяких друзей во все главы».
Даррелл так сочно описал свою чудную, взбалмошную семью, что она уже перестала быть его собственностью. (Нечто похожее, только с горькой поправкой на ухабы отечественной истории, сумел проделать со своей родней Довлатов.) Даррелловскую семью хочется взять напрокат — в его родственников можно играть. Собственно, дома мы так много лет и делаем. Я давно заметил, что любимые книги живут по законам мифа: они требуют не только умственных досугов, но и физического действия. Поэтому поклонники Достоевского бредут петербургским маршрутом Раскольникова, любители Булгакова гуляют у Патриарших прудов, знатоки Конан Дойля рыщут по девонширским болотам. Вот также и с Дарреллом. Одним летом я, наконец, отправился в литературное паломничество — туда, где он провел свое удивительное детство: на Корфу.
Дом Дарреллов я нашел по описанию в книге. За прошедшие полвека он мало изменился. Правда, в нем открылся ресторанчик. Могло быть хуже. В 60-х на Корфу начался пляжный бум, заманивший сюда солнцем и дешевой драхмой английских туристов. К счастью, даррелловские пенаты уцелели. Хочется думать, что их спасла литературная слава владельцев. Во всяком случае, в гостиной на самом видном месте висит портрет Даррелла. Правда, не Джералда, а его старшего брата Лоренса, знаменитого, а многие считают, что и великого английского прозаика, автора утонченного «Александрийского квартета».
Лучшим памятником нашему Дарреллу служит тот клочок греческого пейзажа, что виден с крыльца, — густое чернильное море, лысые горы на близком горизонте и ленивые ящерицы на растрескавшейся штукатурке. Эти греческие декорации так похожи на эдемские, что людям и зверям тут легче ужиться, чем где бы то ни было. Отсюда ближе к золотому веку, который существовал не с начала времен, а до начала времен, отсюда ближе к детству, отсюда и книги Даррелла — все они переведены с детского.
Сумев удержаться на грани, отделяющей ученое занудство от дилетантского умиления, Даррелл заманивал в мир животных и тех, кто чувствовал себя здесь чужим.
Секрет обаяния зоологической прозы Даррелла в том, как он лепил образ зверя. Животные у него никогда не превращались в симпатичных диснеевских зверюшек. Он никогда не пользовался любимым приемом всех баснописцев — антропоморфизмом. Звери у Даррелла всегда остаются самими собой. Они — нелюди, этим и интересны.
Ключ к даррелловской поэтике можно найти у Мандельштама. Как известно, в зрелые годы поэт увлекся естественнонаучными дисциплинами, много читал натуралистов и оставил проницательные заметки об их стиле. Так, говоря об источниках научного красноречия систематика Карла Линнея, Мандельштам писал нечто такое, что объясняет и прозу Даррелла: «В зоологических описаниях Линнея нельзя не отметить преемственной связи и некоторой зависимости от ярмарочного зверинца. Владелец странствующего балагана или наемный шарлатан-объяснитель стремятся показать товар лицом <...> Я хочу лишь напомнить, что натуралист — профессиональный рассказчик, публичный демонстратор новых интересных видов».
В черновом варианте этого текста есть еще один важный абзац: «Слушатели воспринимали зверя очень просто: он показывает людям фокус одним только фактом своего существования, в силу своей природы, в силу своего существования».
Этот «фокус» — скрытая пружина даррелловского анимализма. Для Даррелла главное в звере — его инакость, его непохожесть на других, в первую очередь — на нас. Животное тут индивидуально вдвойне: как личность (а все изображенные Дарреллом звери ею обладают) и как представитель своего вида. Поэтому у Даррелла нет неинтересных животных — головастика он описывает с не меньшим восторгом, чем леопарда. Прелесть зверя не в том, что он красивый или тем более полезный, прелесть зверя в том, что он Другой.
Я пишу это слово с большой буквы, хотя мы и привыкли к тому, что так выделяются лишь слова, описывающие высшую, небесную реальность. Человеку всегда был нужен Другой. Только выйдя за собственные — человеческие — пределы, мы можем преодолеть кризис идентичности. Только в диалоге с Другим, мы можем найти себя. Обычно человек помещает Другого выше себя — на верхних ступенях эволюционной лестницы. Другим может быть дух, или Бог, или великая природа, или пришелец, или — даже — неумолимый закон исторической необходимости. Однако возможна и обратная метафизика — теология, вектор которой направлен не вверх, а вниз: Другого можно найти не только на небе, но и на земле.
Об этом и писал Даррелл. Другой для него — каждая тварь, делящая с нами как эту планету, так и тайну нашей жизни на ней.
Л-ра: Генис А. Иван Петрович умер. – Москва, 1999. – С. 204-207.
Произведения
Критика