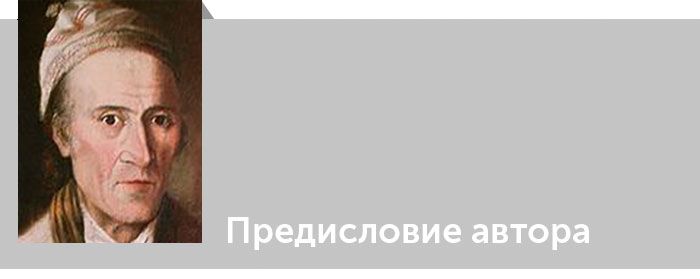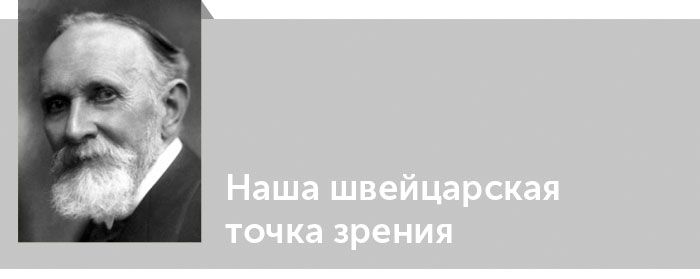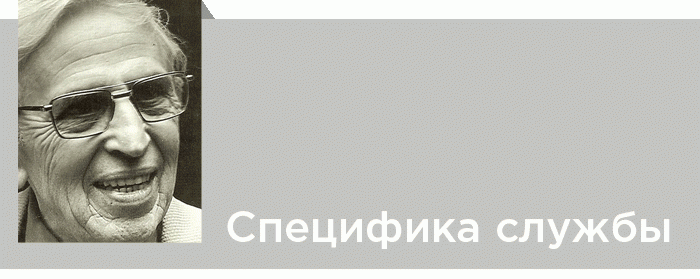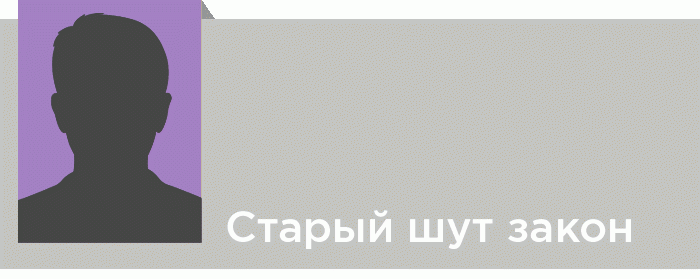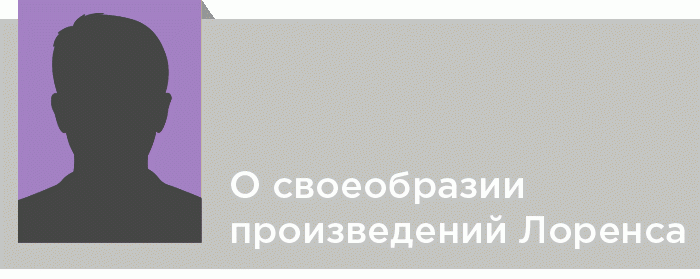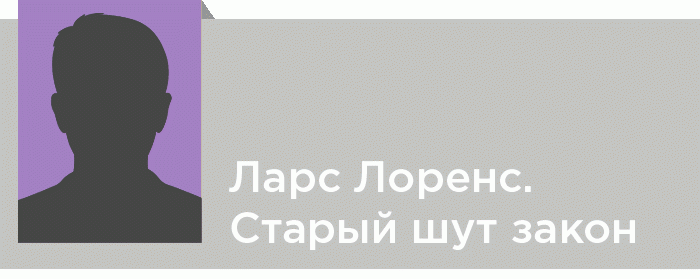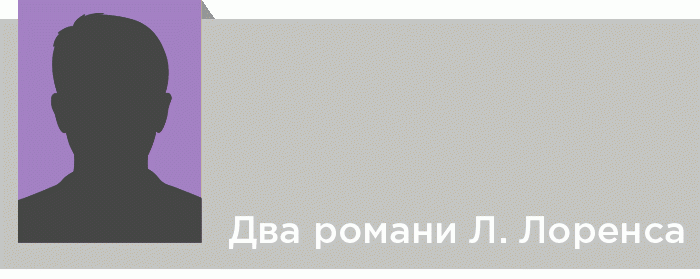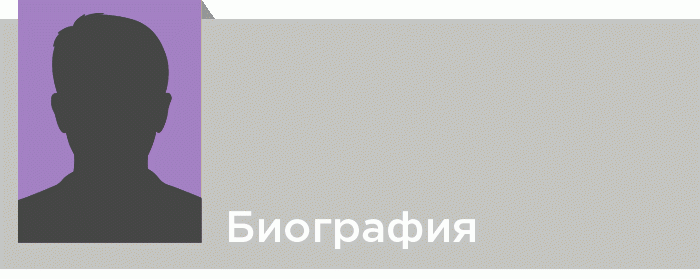Ларс Лоренс. Утро, полдень и вечер
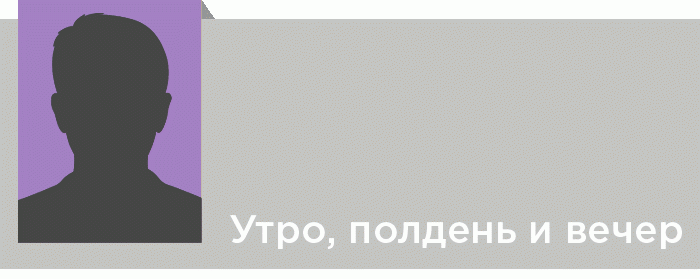
(Отрывок)
A todos los que cayeron y a todos los miles de hombres que todavía han de caer en la lucha por la tierra, para hacerla libre y que puedan fecundizarla todos los hombres con el trabajo de sus proprias manos, tierra abonada con la sangre, los huesos, la carne y el pensamiento de los que supieron llegar al sacrificio — dedican devotos el trabajo de esta obra los que lo hicieron...
(Из надписи на фресках Диего Ривера и его товарищей в Чапинго, Мексика)
Часть первая. Ла Сьенегита
1. ГОРОД И НЕБО
Период раздора между городом и небом длился нестерпимо долго. Еще за триста лет до того, как появился город Реата, эта земля стала царством насилия. То было время, полное драматизма. Совершались набеги. Страну наводняли вооруженные люди. Кровопролитием, голодом и пытками они навязывали жителям свою волю. Сначала это был жаждавший завоеваний и подданных нарядный конкистадор с плюмажем на шлеме, с пушкой, крестом, усыпанным бриллиантами, и инквизиторской дыбой; потом хлынули искатели приключений, жаждавшие славы, звероловы, жаждавшие мехов, старатели, жаждавшие золота, скотоводы, жаждавшие зеленых пастбищ. И у всех было оружие, подкреплявшее их решимость. Появились люди, которые умели стрелять сразу из двух пистолетов, — одни из них были бандиты, а другие — охотившиеся за бандитами шерифы; потом на смену шерифам пришли парни в синей форме, которые за срок жизни одного поколения добились повсюду того, чего их предшественники на протяжении столетий пытались достичь лишь кое-где: они подготовили страну к цивилизации.
Солдаты открыли путь железным дорогам, жаждавшим земли, воды и угля; купцам, жаждавшим рынков; лесорубам, овцеводам и искателям серебра, нефти и меди, жаждавшим не только того, что было на поверхности земли, но и того, что скрывалось от глаз.
Казалось, оружие было забыто; в действительности же оно всегда оставалось под рукой и лишь пряталось либо под сводом законов, либо под подушкой, либо просто в кармане брюк, причем любителей носить оружие развелось угрожающе много.
В этой обстановке и возник город Реата. Он вырос в восьмидесятые годы у железной дороги, где хозяйничал барон-грабитель.
Вскормленный углем, разжиревший на продаже виски и оружия индейцам, город с самого начала напоминал военный лагерь, глубоко вклинившийся в расположение врага.
Этот аванпост был ненадежен; его связь со штабом, остававшимся где-то далеко позади, была весьма слабой. Хозяева, которым он служил, находились так далеко и казались такими нереальными, что их имена, их помыслы, сам факт их существования воспринимался как нечто абстрактное, чаще всего обозначавшееся местоимением «они».
Неизвестно почему, но у Реаты был ужасающе уродливый вид. В краю, богатом красной глиной и светло-серым известняком, основатели города предпочитали строить деревянные дома, в которых зимой холодно, а летом душно и в которых от резких изменений температуры доски трескались, гнулись и коробились. И все-таки люди строили такие дома, словно стараясь показать, насколько они не похожи на «примитивных» индейцев, предпочитавших жить в хижинах, построенных из местных материалов.
По сравнению с небом архитектура этого города кажется вам воплощением уродства; то же можно сказать и о бледных, изможденных лицах многих обитателей города — тех, которым перевалило за тридцать. Да и как не броситься в глаза такому контрасту, если над вашей головой простирается величественный, голубой, как тропическое море, воздушный Гольфстрим, увенчанный ослепительно белыми под ярким солнцем шапками облаков!
Как и у тропического моря, у неба здесь есть свои приливы и отливы. Каждое утро на линии горизонта появляются маленькие чистые облачка, которые начинают двигаться наподобие морского прибоя по направлению к зениту; к полудню, словно в предвидении сиесты, они сгущаются и, заслонив собою солнце, бросают тень на пустыню; вечером же с присущей отливам ритмичностью они снова отступают за горизонт.
Эти облачка рождаются утром в горах, окаймляющих равнину. В первой половине дня они стекаются в голубую небесную чашу вроде мыльной пены и, постоянно меняя форму, образуя пушистые купола и башни, вершины которых ярко светятся, а плоские основания покрываются багрянцем.
К середине дня они заполняют собой бирюзовое пространство и теряют блеск. Земля тоже сразу тускнеет и словно сморщивается, съеживается, напоминая самку, объятую одновременно желанием и страхом.
В течение часа потоки дождя темными параллелограммами падают на снежные вершины гор, омывая сосновые леса и наполняя ущелья грохотом катящихся камней. Над иссохшей пустыней нависают лохмотья дождевых туч, обещая долгожданную влагу, но дождя нет, вода испаряется, прежде чем достигает поверхности земли.
Иногда на Реату падает несколько тяжелых капель, впрочем это бывает чрезвычайно редко.
Но вот солнце снова пробивается сквозь тучи, режет их своими лучами, заставляет сжиматься и отступать обратно в горы. Перед закатом облака некоторое время блестят, как расплавленный сургуч, а потом растворяются в небесной лазури.
Людской же поток движется в ином направлении. Если облака тянутся вверх, к утреннему солнцу, то люди, наоборот, погружаются в землю. Самые лучезарные часы они проводят во мраке, а вечером, когда тучи уплывают вниз, к горизонту, вылезают на поверхность — изможденные, почерневшие от угольной пыли, равнодушные к чудесному вечеру.
Проходит много времени, пока вода, обрушившаяся на горы, достигает равнин, а достигнув, оставляет в почве глубокие борозды, похожие на стрелы вилообразной молнии, и уносит пахотный слой, безрассудно мстя людям, которые стравили овцам луга, вырубили леса и которые спят сейчас тревожным сном завоевателей, не расставаясь с оружием, хотя могли бы заняться строительством плотин и очисткой вод.
Проходит еще время, пока продукт людского труда, добытый в поте и болезнях, попадает в топки диковинных машин, которые пожирают его, пожирают безжалостно, а остатки с ненавистью выбрасывают наружу, застилая дымом небо и покрывая копотью краску на домах.
Здесь хищнически эксплуатируется природа и хищнически эксплуатируется человек. Между человеком и стихией нет связи, нет взаимодействия, есть только мучительная агония, напоминающая агонию змеи, разрубленной на части. Это болезненный диссонанс, как будто всегда стремящийся к гармонии, но никогда в нее не переходящий. Он ошеломляет рассудок, и все происходящее начинает казаться человеку неправдоподобным.
2. СКВАТТЕРЫ
Один или два раза в год, когда в Реате обычно останавливались туристы, едущие посмотреть какое-нибудь обрядовое индейское представление, вроде танца змеи племени хопи, единственная местная газета помещала редакционную статью, где город превозносился как твердыня межрасовой дружбы и согласия. «Лариат» похвалялась тем, что мирно сосуществующие здесь расы не отказываются от традиций своих древних культур. И в самом деле: типично американские церкви и школы, веранды, затянутые металлической сеткой, кресла-качалки, радиоприемники, бензоколонки и стойки для продажи газированной воды, аппетитные запахи жареных цыплят и яблочного пирога, вполне, казалось, уживались с традиционными испано-американскими печами, сложенными под открытым небом, с филигранными ювелирными изделиями, плащами и одеялами, глиняными горшками, полными ароматным chile con carne (мясом с перцем), древней игрой Iglesias (предшественницей современного бейсбола), религиозными процессиями, танцорами с гитарами, певцами — исполнителями баллад и добрым обычаем гостеприимства, воплощенным в одной фразе: «Мой дом — ваш дом, сеньор».
Здесь же, в Реате, или по крайней мере на расстоянии брошенного камня можно было встретить людей, сохранивших еще с доколумбовских времен и со времен Коронадо черты как кочевой, так и оседлой жизни: горячих, необузданных навахос — мастеров выделки знаменитых одеял «навахо», и прирожденных всадников, все имущество которых либо умещалось в широком поясе, либо заключалось в бусах из серебряных пластин, монет и кусочков бирюзы; женщин в широких сборчатых юбках, в каких ходили во времена Гражданской войны; индейских воинов с яркими повязками на голове, в вельветовых куртках и с монгольскими усами, исполняющих под пронзительное пение таинственные обряды, творящих ночные заклинания и культивирующих запрещенное многобрачие; мирных пуэблос, которые жили в общинах, среди орошаемых полей и славились своими храмами, напоминающими древнегреческие пантеоны, своим удивительным умением выращивать кукурузу в пустынных песках, своими клоунами, глотателями шпаг и заклинателями имей, живописными одеждами и масками, гончарными изделиями, бисерными вышивками и неутомимостью в играх и танцах.
Чтобы еще хоть чем-то украсить домотканую демократию Реаты, «Лариат» представляла читателю Гарри Вина — активного члена Торговой палаты и владельца ресторана «Китайское рагу» — предмета зависти даже для жителей гораздо более крупных городов.
По словам «Лариат», никогда, с тех пор как усмирили апачей, между столь различными во всем общественными слоями не возникало открытых конфликтов. В этом смысле Реата служила наглядным примером братских отношений.
На первый взгляд редакционные статьи основывались на фактах; вообще же они выражали лишь добрые пожелания. Камень был брошен на много миль дальше, чем удалось Джорджу Вашингтону забросить свой серебряный доллар. Хотя на улицах и можно было встретить индейцев (некоторые из них казались сошедшими с рекламного щита) индейцы эти не были местными жителями. Некоторые из них — серебряных дел мастера, гончары и ткачи — работали в антикварных магазинах, но находились здесь проездом и ютились где-нибудь на окраине города, а потом неожиданно исчезали, если желание или нужда заставляли их вернуться в резервацию.
Было еще несколько индианок, но о них неудобно и упоминать. Речь идет о чертовой дюжине толстых флегматичных девиц навахо, запертых в вонючих притонах на Даймонд-стрит и служивших приманкой для туристов, которым могло показаться, что все другое они уже видели.
Остальные индейцы здесь вообще не жили, они приезжали в Реату для того, чтобы поглазеть на белых туристов, так же как туристы глазели на них, или чтобы потратить деньги, выигранные на скачках, на такую невероятную роскошь, как жевательная резинка, консервированные персики и табак, который курят белые.
Что касается испанского уклада жизни, то он сосредоточился не в самой Реате, а в деревушке под названием Лa Сьенегита, расположенной на склоне холма, примерно в двух милях от города, не доезжая шахтерского поселка. Услугами же испано-американских ресторанов Реаты пользовались больше anglo, чем представители коренного населения, поэтому в радиусе одной мили от центральной площади, Пласа де лос Анхелес, далеко не часто можно было увидеть печь под открытым небом, или играющих в Iglesias, или человека с плащом на плече.
Само название Ла Сьенегита звучало как преувеличение. Эту местность нельзя было назвать ни болотом, ни даже болотцем. Очевидно, название это пришло кому-то на ум в минуту безудержной радости при виде родничка, пробившегося здесь сквозь щель в скале. Родничок этот, образовав ручей длиною в несколько ярдов, быстро иссякал и терялся в песчаном грунте. Возможно, когда-то здесь действительно было болото, пока не появился город и не понизился уровень грунтовых вод. Во всяком случае, земля оставалась достаточно влажной, чтобы вспоить три гигантских тополя, которые весной наполняют воздух множеством пушинок, а осенью загораются гигантскими огнями желтых листьев. Одним словом, поселок появился здесь благодаря родничку. Но все годы, кроме засушливых, когда в колодцах остается лишь потрескавшийся слой глины, смешанной с гравием, он дает воду для поливки кишащих цикадами плантаций перца и фасоли, разбитых на опаленных солнцем приусадебных землях.
Хотя родник с давних пор служил пастухам-испанцам излюбленным водопоем для скота, само население этого района не было испанским. Когда угольная компания Реаты — дочернее предприятие Американской медной корпорации — приступала к набору рабочей силы, ее директора не хотели брать коренных жителей испанского происхождения — в большинстве своем мелких земледельцев, предки которых получили землю еще во времена испанской колонизации, — ибо считали их слишком невежественными и отсталыми для выполнения работы, требовавшей некоторой квалификации; они предпочитали брать «англо-американцев» — потомков первых поселенцев: ирландцев, валлийцев и британцев. Однако такая практика не оправдала себя. Хозяева вскоре убедились, что люди эти чересчур образованны, поскольку спустя какое-то время они начали «бунтовать» против примитивной техники и опасных для жизни условий подземного труда. Некоторые из них ушли с шахт, превратившись в городских рабочих, мелких торговцев, слуг, а также надсмотрщиков и полицейских, другие же попробовали добиться лучшей участи путем создания тайных лож, за что подверглись массовым увольнениям, зачинщики были брошены в тюрьмы. На их место компания стала привозить из угольных районов Востока словенцев, итальянцев, греков и поляков, но и они за время жизни одного поколения стали слишком образованными.
Как только кончилась первая мировая война, начались «беспорядки», вылившиеся в забастовку. Итогом недолгой, но жестокой борьбы были двенадцать убитых, несколько десятков раненых, сотни вывезенных на машинах за пределы штата с приказом возвращаться туда, откуда приехали.
Тем не менее всякий раз, когда откатывалась очередная волна беспорядков, кое-кто в Реате все же оседал. В подкрепление им компания пробовала вербовать людей из пограничных районов Мексики, негров из Техаса и Арканзаса, бывших пастухов и рабочих со свекольных плантаций из числа коренных жителей испанского происхождения.
Волее десяти лет разговор о. создании профсоюза в Реате не возобновлялся. Но потом и «невежды», подобно их предшественникам, стали проявлять нежелание мириться с заработной платой, которую компания выдавала за высший показатель американского уровня жизни. Люди, не умевшие читать и пикать, очень быстро поняли, что значит жить в домах, принадлежащих компании, вносить квартплату, навязанную кампанией, и покупать в кредит в магазинах компании по членам, ею же установленным. Поняли потому, что в результате всего этого слишком часто, по каким-то таинственным причинам, они оставались в долгу у предпринимателей.
Люди понаходчивее постепенно перекочевывали вместе с семьями в долину, прилегающую к ручью, самовольно селились на иссохших землях, собирали на городской свалке куски дерева, а по воскресеньям заготовляли глиняные брикеты для постройки жилищ.
Считалось само собою разумеющимся, что земля в окрестностях Ла Сьенегиты, является общественной собственностью, и с течением времени уверенность в этом укреплялась. Все знают, как щепетильны бывают англо-американцы, когда речь заходит о чьих-либо посягательствах на их собственность; и все же никто из них не мешал поселенцам и не возражал против строительства поселка. Это позволяло новым жителям Сьенегиты надеяться, что со временем они обретут права собственности на свои временные жилища в силу закона о скваттерах.
Ободренная такой перспективой, Ла Сьенегита быстро росла, и через несколько лет в ней было полно детей, собак, тазов для стирки белья, коз, ветхих допотопных марок машин, кошек, веревок для сушки белья, клопов и блох. Смертность среди тех, кто жил в поселке (кроме клопов и блох), была устрашающе высока. Жители Реаты сожалели об этом, но что поделаешь? Разве заставишь водопроводную компанию протянуть трубы на две лишние мили, если она не рассчитывает на солидное возмещение со стороны неплатежеспособных клиентов? Кто решится на финансирование канализации и установки санитарного оборудования, если невозможно заставить этих людей хотя бы огородить уборные?
Бесспорно, рост промышленности в городе воспринимался как благо, а поэтому, если они (то есть хозяева) считали необходимым ввозить иностранцев, вам оставалось лишь улыбаться и извлекать из этого как можно больше выгоды. В Сьенегите было ровно столько гитар, шалей, стручкового перца, широкополых шляп, сколько требовалось, чтобы придать городку красочный вид. И разумеется, турист, посмевший сказать, что не видит в Ла Сьенегите плащей, филигранных серег или бирюзовых гребней, показался бы бестактным. В целом население Сьенегиты, как и проезжие индейцы, обладало определенной покупательной способностью, а его женская половина составляла резерв для найма сносной домашней прислуги. От этих людей можно было отгородиться (по крайней мере в социальном отношении), хотя не всегда удавалось оградить себя от клопов и никогда — от блох. Эти насекомые как бы мстили членам избранного общества за их высокомерие.
3. КОНТРАКТЫ ЖАКА МАХОНИ
Это было в середине тридцатых годов. Однажды весенним ветреным вечером, когда сквозь столбы пыли, вихрем крутившиеся в воздухе, пробивались неяркие лучи заката, Артуро Фернандес возвратился в Ла Сьенегиту после суматошного дня, проведенного в конторе фонда помощи, и обнаружил замок на двери дома, который они с женой Лупитой построили собственными руками, не заняв ни у кого ни гроша.
Даже по сравнению с другими жилищами Ла Сьенегиты хижина их выглядела убогой. Много лет назад мистер Дэн Барбидж, управляющий шахтами Реаты, решил, что бетонированная дорога слишком блестит под летним солнцем. Вспомнив о голубом гравии, который он видел в детстве на Лонг-Айленде, управляющий распорядился привезти вагон этого гравия и заменить им бетонное покрытие на извилистой дороге, которая вела к подъезду его дома, построенного в деревенском стиле. Слой бетона был снят, разбит на куски и отправлен в грузовике на городскую свалку. Но к месту назначения машина пришла только один раз. При попустительстве шофера — местного жителя — остальная часть бетона была перехвачена обитателями Сьенегиты, в том числе Артуро Фернандесом, сообразившими, что куски эти пригодятся для постройки хижин. Заложив глиняный фундамент, они ставили на него куски бетона и таким образом воздвигали стены, заполняя щели между плитами жидкой грязью. А потом стены обмазывали с обеих сторон глиной, смешанной с соломой.
Со временем летние дожди и зимние холода кое-где разрушили грунтовое покрытие, отчего дорога мистера Барбиджа стала похожей на карту Меркатора: континенты и океаны различных по яркости серых и белых тонов пересекались параллелями, а щели, заполненные грязью, вполне могли сойти за пограничные линии.
Крыша на хижине Артуро, сооруженная из ломаных досок, была обшита распрямленными консервными банками. Оконного стекла в поселке всегда не хватало, поэтому окна частично забивались кусками картона, напоминавшими бельма на глазури, отражающей яркие закатные лучи.
На утоптанной глиняной площадке двора собрались соседи. Каждый из них выражал негодование по-своему. Некоторые старались успокоить Лупиту, которая плакала, сидя на куче рваных матрацев и одежды. Кругом валялась сломанная мебель. Лишь сам бог и Артуро знали, сколько раз ее чинили и перечинивали с помощью проволоки, шурупов и шинной резины.
Его дочь Каталина, одиннадцатилетняя девочка с маленькой грудью, выделявшейся на исхудавшем тельце, успокаивала двух мальчуганов, с трудом уместившихся в кресле-качалке. Домашняя утварь Артуро была покрыта тонким слоем пыли, от пыли же потускнела скрипка, на которой он, бывало, пиликал на танцах, свадьбах и похоронах.
Итак, выселение. Сначала Артуро был спокоен, еще не отдавая себе отчета в случившемся. Lastima! Такая, значит, судьба, что ж поделаешь? Но потом, окинув взглядом искаженное отчаянием лицо жены, не по летам серьезную и озабоченную Каталину и свою запыленную драгоценную скрипку, он спросил себя: неужели с ним стряслась эта страшная беда? Его бросило в жар.
Артуро был слишком сдержан, чтобы по любому поводу давать волю чувствам. Жизнь шахтера, с которой он смирился, постепенно убила мечту его юности стать профессиональным певцом. В детстве у Артуро был высокий, несколько сдавленный голос, которым он вторил отцу под аккомпанемент гитары. Их охотно приглашали на гуляния, даже в оторванные от мира горные селения графства Сан-Исидро и в более цивилизованные районы, расположенные вдоль железной дороги. По традиции этих мест лучшими певцами, такими, как отец Артуро, считались слепые. Артуро думал, что со временем и отца постигнет это несчастье и тогда он еще крепче привяжется к своему учителю. Но этого не случилось, отец скоропостижно умер. Оставшись один, Артуро бросился искать утешения в браке. Однако женившись на Лупите, он попал в беспросветную нужду, оказавшись перед необходимостью бороться с новыми невзгодами и кормить лишние рты. Он много работал, переходя с одного места на другое, отчего пальцы его огрубели. Музыкой удавалось заниматься только по праздникам. Он постоянно разъезжал в поисках работы, пока не осел наконец в предместьях Реаты. Здесь родилась Каталина, их четвертый ребенок, и первая, дожившая до шестимесячного возраста. Это создало у родителей иллюзию семейного благополучия. Разве не было у них теперь собственного дома? И мебели? И кошки, оберегающей их от крыс? И колодца, в котором лишь изредка высыхает вода?
Lastima! Все это оказалось обманом. Вот он, новенький блестящий замок, висит на двери. Как он сюда попал?
Еще в двадцатые годы, когда Артуро и другие шахтеры стали наводить справки насчет того, как приобрести скваттерские права на занятые ими в Лa Сьенегите земельные участки, в городской газете «Лариат» появилось объявление, гласящее, что некая земельная площадь (далее шло описание, мало понятное для неспециалиста) продана угольной компанией Реаты Жаку Махони, одному из выдающихся граждан города — сенатору штата и члену местного муниципалитета.
Сообщение это вызвало не больше волнения, чем камушек, брошенный в пруд. Лишь спустя много недель тихий, медлительный адвокат Йост, юрисконсульт угольной компании, один из немногих американцев, взявших на себя труд научиться испанскому, стал навещать обитателей Ла Сьенегиты, уведомляя их, что представляет интересы senador’a Махони. Тихо, вкрадчиво, словно владелец похоронного бюро, договаривающийся об условиях захоронения усопшего, он объяснял, что они построили свои дома незаконно. Разумеется, слишком уж винить их за незнание законов не приходится, но все-таки лучше было бы советоваться в подобных случаях с адвокатом. Естественно, el senador не может позволить себе отказаться от прибыли с недвижимости, в которую он вложил много средств, ибо налоги-то приходится платить ему, а не кому-нибудь другому. Стало быть, следует кое о чем договориться.
Когда адвокат Йост вручил каждому из шахтеров какой-то хитроумный юридический документ, у них похолодело внутри. Документ назывался «контракт об аренде-продаже».
Однако тон, которым разговаривал Йост, действовал успокаивающе. Жак Махони печется будто бы об их же интересах, иначе зачем ему быть их delegado в сенате штата? Он хочет добиться, чтобы его избиратели, которых он считает в некотором роде своими детьми, обрели законное право на земельные участки. Вот эта бумага и поможет будто бы осуществить такое право. Эта — и никакая другая.
Некоторые, испугавшись, сразу же подписали документ. Другие в силу природной недоверчивости или распространенного среди простонародья убеждения, будто всякая подпись, нацарапанная их неуверенной рукой, неизбежно вызывает несчастье, вежливо извинились в том, что могут показаться неблагодарными, и попросили дать им несколько дней на раздумье.
За этой вежливостью скрывался панический страх. Многие недели не утихали в Ла Сьенегите разговоры о бумагах адвоката Йоста. Все они одинаковы, эти бумаги: длинные, напечатанные крохотными буквами и внушающие необъяснимый ужас, который не дает понять суть дела.
И все же понемногу кое-что выяснилось. В частности, главное, что волновало жителей Ла Сьенегиты, — размеры выкупных платежей по условиям контракта оказались менее значительными, чем они предполагали. Много раз ломались и снова затачивались зубами огрызки карандашей, пока не было наконец установлено, что ежемесячные выплаты Джейку Махони, включая арендную плату и взносы по капитальной сумме, получались меньше, чем квартирная плата, которую они вносили угольной компании, живя в домах шахтерского поселка. А через двадцать лет жилища перейдут в их полное владение. Что бы ни случилось с ними, их дети не останутся без крова.
В конце концов большинство жителей Сьенегиты, хотя и томимое дурными предчувствиями, поставило под документом свои имена или крестики. И лишь потом, спустя несколько лет, когда на шахты обрушилась Великая Депрессия и шахтеры вынуждены были работать лишь по четыре, потом по три, а потом и по два дня в неделю, предчувствия эти превратились в горькое сожаление. А потом началась затяжная, изнурительная забастовка, лишившая их всякого заработка и истощившая сбережения.
Бурные события, сопутствовавшие забастовке, следовали одно за другим почти беспрерывно, и Джейк Махони с его контрактами отодвинулся на задний план. Но вот забастовка кончилась, пришла радость победы. Опять открылись шахты, люди работали сверхурочно, чтобы удовлетворить возросшую потребность в угле; но после того, как запасы были восстановлены, занятость рабочих снизилась. Появился черный список, и половина населения Ла Сьенегиты осталась без работы. Платежи Джейку фактически прекратились.
От адвоката Йоста стали поступать вежливые напоминания о том, что за опоздание с арендной платой полагается десять процентов пени; в свое время эта мелочь не была оговорена. Более того, стало известно, что Махони может, если захочет, лишить права на собственность арендаторов, просрочивших взнос. К счастью, заверил их Йост, el senador не такой человек, чтобы поступить подобным образом. Но они должны понять, что он не меньше их страдает от депрессии, и, если вынужден будет продать землю все той же угольной компании, они горько пожалеют об этом. Стало быть, в их интересах не вынуждать Махони на этот шаг, а он по достоинству оценит тех, кто, помня о долге, заплатит, сколько сможет.
Боязнь снова попасть в зависимость от компании сделала свое дело. Те, у кого были деньги, стали платить; у кого их не было, лишь развели руками. Некоторые из этих последних бросили все и пополнили армию бродяг, которые в поисках работы заполнили дороги и крыши товарных вагонов. Другие организовали Совет безработных, чтобы добиваться приличного пособия и снижения квартирной платы, а третьи по совету колорадского адвоката Лео Севирэнса, оказывавшего большую помощь забастовщикам, создали Общество охраны жилищ Сьенегиты и попробовали вступить в коллективные переговоры с Джейком.
Сенатор Махони ответил, что сожалеет, но поправка в ранее достигнутом соглашении была бы, как они сами понимают, несправедливостью по отношению к тем, кто, идя на жертвы, продолжал вносить назначенную плату.
Потерпев неудачу в прямых переговорах, Общество добилось представления законодательной палате штата законопроекта об оказании помощи должникам, ставшим неплатежеспособными вследствие вынужденной безработицы. Но законопроект этот из-за вмешательства сенатора Махони (как утверждали злые языки) был погребен в сенатской комиссии.
За вежливыми напоминаниями Йоста последовали более резкие, а потом дело дошло до угроз выселением. Теперь даже очень спокойные, вроде Артуро Фернандеса, люди просыпались среди ночи и в ужасе кричали, что каждый глиняный брикет в их хижинах сделан их собственными руками и что они скорее умрут, чем отдадут свои жилища.
На долю Артуро выпала «честь» быть первым жителем Сьенегиты, который, придя домой, увидел, что его семья выброшена на улицу.
4. РАМОН
В силу многих причин, в том числе из-за своей вялости, вызванной систематическим недоеданием, Артуро во время забастовки ни разу не разозлился по-настоящему. Его скорее можно было назвать покорным и сговорчивым попутчиком, нежели зачинщиком. Но сейчас, когда он сосредоточенно рассматривал блестящий замок, висевший на двери его дома, ему вдруг показалось, будто металл пронзил его мозг своими опаляющими лучами. Охваченный неудержимой яростью, он схватил камень и стал бить им по замку.
Соседи в ужасе отпрянули. Потребовались находчивость и авторитет Рамона Арсе, ближайшего соседа Артуро, чтобы образумить его.
Авторитет Рамона объяснялся не столько его положением, сколько популярностью среди жителей Ла Сьенегиты. Рамон был настоящим мужчиной. Не такой сильный и высокий, как негр Моби Дуглас, он не уступал ему в храбрости. Небольшого роста, коренастый, с черными вьющимися волосами, кроткими глазами и резко очерченным ртом, он был почти красив. И очень подвижен. Быстр, как молния, с быстрым умом, всегда готовый сразить метким словом противника, развеселить собрание или подбодрить попавшего в беду товарища. Перед озорным, добродушным и порывистым Рамоном не устояла бы ни одна женщина. Однако никто не мог сказать, что он когда-нибудь воспользовался этим. Никто еще не видел его жену Алтаграсию Арсе печальной. Так что, если Рамон и вел себя легкомысленно, это никак не отражалось на его отношении к жене.
А как умело руководил он забастовкой! В Ла Сьенегите стала легендой история о том, как полиция, добровольные помощники шерифа, легионеры и национальная гвардия почти четыре месяца искали мимеограф, на котором печатались листовки забастовщиков, но так и не нашли, хотя частенько рыскали у того места, где он был спрятан. Тысячу раз на своих больших блестящих автомобилях проезжали они по главному шоссе мимо дренажной трубы из рифленого железа, так и не догадавшись, что именно в трубе лежало то, что они разыскивали.
Днем Рамон прикрывал печатную машину кустиками перекати-поля, обычно застревавшими в канавах в сезон дождей, а ночью траву убирал и вместе с помощниками при свете электрического фонаря печатал листовки, написанные по-английски и по-испански. Не проходило и недели (даже после того, как Рамон был арестовал и упрятан за колючую проволоку в концентрационном лагере недалеко от шахт) без листовки, которая опровергала лживые сообщения о забастовке, появлявшиеся в единственной ежедневной газете Реаты. Граждане, находившие листовки в своих почтовых ящиках, куда их кто-то опускал, или на скамьях в парке, где их кто-то раскладывал аккуратными стопками и прижимал камнями, узнавали о забастовке нечто совсем иное, нежели о ней рассказывала компания. Разумеется, этого не могли стерпеть представители властей, о которых в листовках говорилось как о мелких мошенниках и жалких тиранах. Они удвоили усилия, чтобы найти и уничтожить мимеограф. Трижды «Лариат» торжественно сообщала, что машина найдена и конфискована, — и всякий раз издевательские листовки появлялись вновь и продолжали словесную битву.
Однажды власти решили действовать наугад, арестовав всех, кого можно было заподозрить как автора листовок. Они полагали, что мексиканский эмигрант Рамон недостаточно грамотен, чтобы выпускать листовки на двух языках. Став жертвами собственных предрассудков, власти предъявили Майку Ковачу обвинение в «словесном оскорблении», поскольку Майк, хотя и говорил со славянским акцентом, все же был уроженцем Америки, а американский гражданин, разумеется, умнее любого иностранца.
Рамон ухватился за это «словесное оскорбление», потешаясь над ним в каждой листовке. По его предложению Транкилино де Вака с присущей ему скрупулезностью изобразил обмотанного бинтами круглолицего генерал-адъютанта Национальной гвардии, ковыляющего домой на костыле. На груди у генерала поблескивает медаль. Встретивший его сынишка спрашивает: «За что тебе дали медаль, papacito? Тебя ранили гадкие забастовщики, когда ты с ними сражался?» — «Хуже, сынок. Они нанесли мне словесное оскорбление».
В другой листовке был изображен маленький Джордж Вашингтон, говорящий своему отцу: «Padre mio, я не могу лгать...» Но отец прерывает его. «Cuidado, Хорхе! В Реате говорить правду — значит наносить словесное оскорбление».
Затем появилась листовка с изображением хозяина, приказывающего полицейскому арестовать шахтера. Полицейский спрашивает: «А за какую провинность, босс?» Хозяин отвечает: «За словесное оскорбление. Он хочет, чтобы ему больше платили». Кончилось тем, что пресловутое «словесное оскорбление» воспринималось в народе как остроумная шутка. Карикатуры попадали к людям как раз в тот момент, когда их нужно было развеселить. И люди воздали Рамону должное, ибо храбростью могли похвастать многие, а остроумием и находчивостью — лишь единицы. Рамон был в глазах людей не только muy hombre, но и muy listo.
Артуро Фернандес, тугодум и флегматик, всегда робел перед стремительным Рамоном, поэтому достаточно было Рамону схватить его за руку, чтобы он сразу же выронил камень и понурил голову.
Сначала Рамон говорил, будто бы обращаясь только к Артуро, но голос его был достаточно громок, чтобы его могли слышать и соседи. Рамон предупредил, что сорвать замок — значит совершить кражу со взломом. Чиновники квалифицируют это как «сопротивление власти с применением силы», а когда дело доходит до силы, то у администрации ее всегда окажется больше, чем у шахтеров. Помнит же Артуро, как во время забастовки на помощь администрации пришли сотни солдат? Verdad?
Verdad. Очевидно, Артуро полагает, продолжал Рамон, что ему принадлежит все, что он делает своими руками. Но это не так. Рамон, к примеру, за свою жизнь выгрузил не одну тысячу тонн угля, а сколько угля у него? Ведерко, не больше. A el negrito (это уменьшительное от негра родилось как ласкательное, ибо Моби Дуглас, о котором шла речь, был ростом шесть футов четыре дюйма и весил двести двадцать фунтов) выгрузил, наверно, вдвое больше, потому что работает в два раза быстрее, чем любой другой, и что он получает, кроме черной пыли, въевшейся в ресницы? Вот как бывает в мире negocios — в мире бизнеса.
И все же (теперь Рамон прямо обращался к соседям) дело это касается не одного Артуро, оно касается всех. Сколько человек из присутствующих здесь получило повестки о выселении? Пусть поднимут руки... Ясно, многие, он так и думал. И разумеется, если одного выселят, то выселят и других. Может, они думают, что, когда это случится, они будут спать под звездами? Или обниматься у всех на виду? Может, они захотят воспользоваться для этой цели лужайкой на участке управляющего шахтами Барбиджа? Идея заманчивая, но неосуществимая. Спать в общественном месте антисанитарно и неприлично. Casiques — местным богачам — это не понравилось бы. И Торговая палата не одобрила бы, опасаясь, что подобное зрелище отпугнет туристов. Стало быть, нельзя доводить город до такого позора.
Найдется ли среди присутствующих кто-нибудь, у кого есть собственный дом с лишними комнатами и кто согласится предоставить их семье Фернандес?.. Нет?.. Поразительно, продолжал Рамон. Значит, граждане Ла Сьенегиты настолько эгоистичны, что не желают потесниться в своих просторных домах и поддержать нравственность в городе. Скандал!
Теперь соседи смеялись. Улыбался даже Артуро, уставший от нервного напряжения. Таков был Рамон, когда разговаривал с людьми. Благодаря его остроумию страхи их рассеялись, уступив место веселью. А когда они почувствовали себя спокойнее и увереннее, Рамон перешел к делу. Тон его сразу переменился.
Разумеется, сказал он, надо устроить так, чтобы семья Фернандес спала сегодня не только под крышей, но и в постели. Можно ли это сделать, не тронув замка на двери? Рамон считал, что можно. Артуро знает свой дом. Наверно, во время забастовки не раз приходилось ему спешно покидать жилище, когда являлись головорезы, искавшие «коммунистическую литературу» или мимеограф. Разве нельзя проникать в дом, не ломая замка, и ночевать там, пока не уладится дело о выселении?
Завтра состоится очередное заседание Совета безработных, на котором будут выбраны делегаты на конференцию безработных в Идальго. Совет мог бы также направить своих представителей к мэру, который уже выступал против массового выселения, и поставить перед ним этот вопрос, упомянув о выселении Фернандеса. Будут еще предложения? — спросил Рамон, повернувшись к Артуро.
Но тот уже не слушал. Он что-то шептал своему младшему сыну, хорошенькому, как ангелок, мальчику с челкой на лбу, который ходил еще без штанов, так как слишком медленно усваивал правила приличия. Ребенок с важным видом кивнул головой, и Артуро понес его к задней стене дома, из которой вынимались два брикета, чтобы выпускать на ночные прогулки кота Хуана Батисту.
Через эту дыру Сиприано и было велено влезть в дом. Прошло несколько минут, пока мальчик, следуя сбивчивым указаниям отца, матери и соседей, толпившихся у дома, подтащил наконец к кухонной двери старый деревянный ящик, взобрался на него и отодвинул засов. Снаружи раздались веселые возгласы. Кто-то нетерпеливо толкнул дверь, и Сиприано упал со своего возвышения, но его всхлипываний никто не слышал за радостным гулом соседей, ринувшихся в отворенную дверь. Только Лупита обратила внимание на сынишку и в знак особой благодарности дала ему грудь, хотя уже год он был от нее отнят.
Таким образом, все без исключения остались довольны. В веселой сутолоке семейство Фернандес было водворено на место, к невыселенным тараканам и блохам, и соседи разошлись по домам в отличном настроении. Пусть в конце концов все это обернется не к их выгоде, как не к их выгоде обернулась победа в забастовке, но кое-что все же сделано, и это поможет им хоть немного выиграть время. Да и что они, в конце концов, теряют? Если же сидеть сложа руки, то можно потерять все, в том числе и жилище.
Впервые после забастовки люди почувствовали прилив бодрости, и это пошло им на пользу. Многие провели ночь спокойно и проснулись поздно, когда солнце было уже высоко.
Произведения
Критика