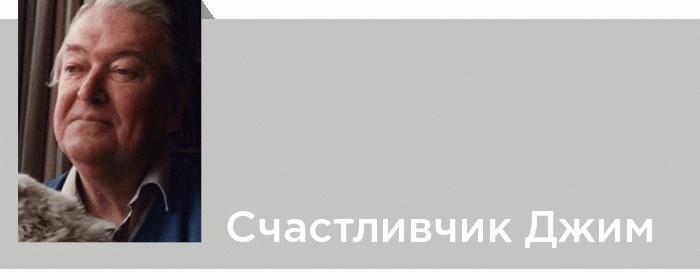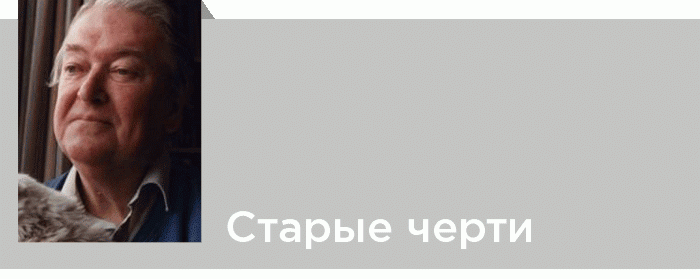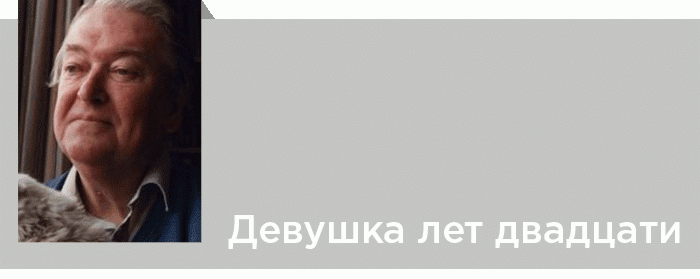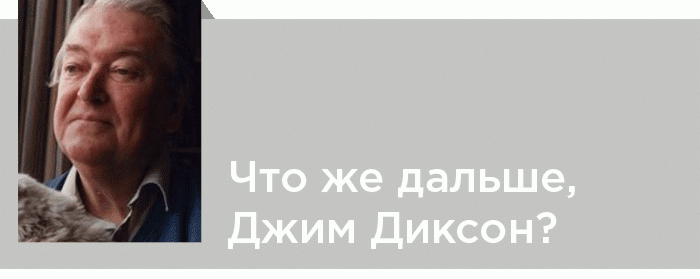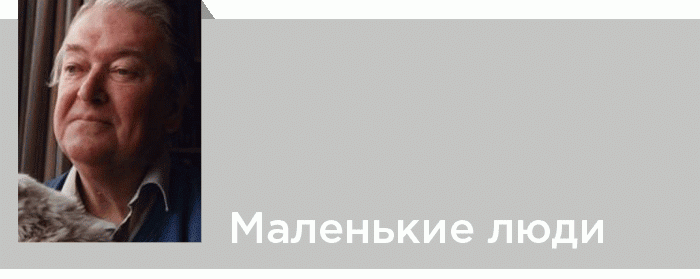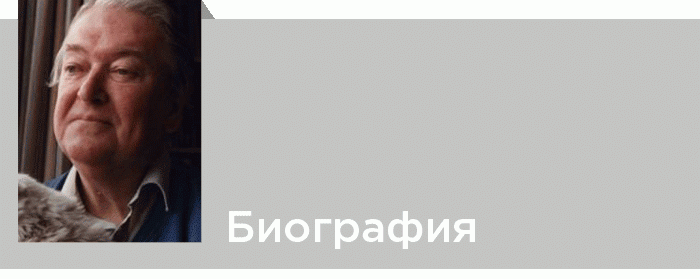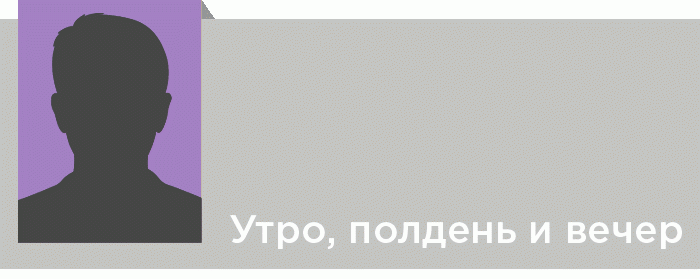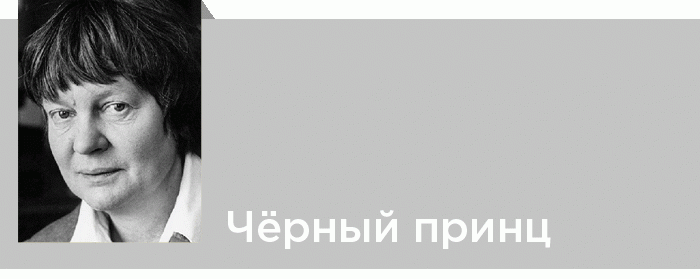«Счастливчик Джим» Кингсли Эмиса
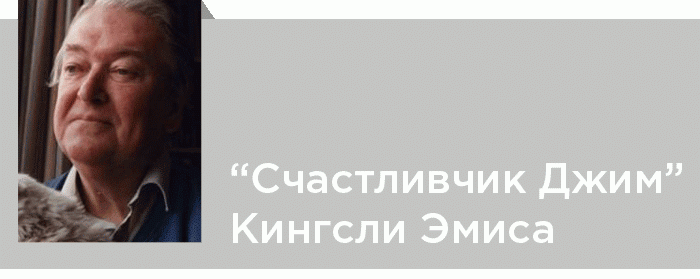
Палиевский П.
В движении «разгневанных» (или «сердитых» — angry) многое еще неясно. Видно только, что их немало и что обитают они не только в Англии. В разных странах Европы и в США «разгневанные» выходят из тени и присоединяются к своим английским друзьям. Они прибывают быстро — из чувства солидарности, не спрашивая о цели, уверенные, что «гневаться» есть на что и зачем. Их лондонский «Манифест» полон стихийного брожения; еще больше его в смутной книге теоретика К. Уилсона «Взгляд со стороны». Чувствуется, что в массе непереваренных цитат придавленный собственной эрудицией автор хочет сказать что-то очень яростное, бросить вызов и казнить — но кого? Ему, без сомнения, легче это сделать, чем объяснить.
«Разгневанный» уклоняется, бежит от определений. Его взгляды неуловимы — просто потому, что за «гневом» скрывается не мировоззрение, а скорее состояние ума. Оно разлито в сознании множества молодых людей на Западе, и выразить его удалось пока лишь средствами искусства. Когда критики пишут теперь о «десятилетии разгневанных», они имеют в виду несколько талантливых романов и пьес. В них выступил впервые этот новый тип людей, претендующих — и не без успеха — занять место «потерянного поколения».
Сравнение с литературой двадцатых годов напрашивалось вначале само собой. Новые люди пришли в послевоенный период и тоже, как и тогда, с ожесточением взялись потрошить «идеалы». Преследуя ложь, они заглядывали повсюду, но, не в пример прежним, в их книгах не было ни слова о войне. Никакой боли, ни трупов, ни окопных крыс. Это казалось странным, поражало — но только на мгновение. Конечно, война была совсем другой. Для них она словно выпала из памяти, как страшная, но устремленная в будущее пора, когда все поднялось, чтобы фашизм был сметен. Это время имело свою цель, жертвы были неизбежны; и они перенесли лишения, зная, ради чего велась борьба. Их сверстники немцы — вот кому выпало на долю рассказать об ужасах бессмысленной бойни. Вольфганг Борхерт с его знаменитым «Sag nein!», и Ремарк (дважды на протяжении одной судьбы), и многие другие повторили через двадцать лет трагедию «потерянных».
У английских «вернувшихся» были иные заботы. Читатель, наверно, помнит роман Пристли «Трое в новых костюмах», который был переведен у нас сразу после войны. В нем, приблизительно и неопределенно, появился уже предтеча «разгневанных». Там рассказывалось о трех товарищах-фронтовиках, которые возвратились домой и очень скоро поняли, как сильно им не нравится все то, что раньше принималось без колебаний и даже внушало восторг. В этом романе говорилось о той малорадушной встрече, которую устроили им поклонники твердых традиций. Алан Стрит и его друзья — герои книги — прошли в то время незамеченными. Они затерялись где-то по провинциальным углам и были надолго забыты литературой. Тип «разгневанного» вызревал в темноте, вдали от гласности. Он ненавидел молча и молча отвечал своим закосневшим в благополучии отцам. Он долго размышлял про себя, что же такое неладно в его судьбе и почему ему так противен заведенный, заранее определенный уклад. Ему казалось насилием то, в чем другие видели только привычку. У самых почтенных и, по-видимому, благодушных горожан, своих соседей, он усматривал холодный и бесчеловечный автоматизм, какое-то исчезновение лица в той роли, которую оно принуждено было играть. Он мучительно думал, сравнивал, сопоставлял, но решить так ничего и не успел. Писатели вновь обнаружили его в толпе и вынесли на всеобщее обозрение в литературу, наверх. Это была сенсация. И первым, кто ее начал, был Кингсли Эмис с его романом «Счастливчик Джим».
«Счастливчик Джим» еще и сейчас, четыре года спустя, остается любимой книгой «разгневанных». Не то чтобы она была острее и основательнее всех других, созданных ими, но в ней, в источнике, осталось целым то, что разошлось потом по разным каналам и растворилось в общем течении. Она сохраняется как манифест, недосказанный, но воплощенный вопрос и, главное, имя ее героя стало нарицательным.
...О прошлом Джима Диксона известно очень мало. Во время войны «в чине капрала служил в военно-воздушных частях». Потом стал историком, но не по призванию, а «потому, что имелась открытая вакансия». Никаких особых трагедий не переживал, не было ни внутреннего надрыва, ни крушения иллюзий, ни тем более перелома в мировоззрении; он вообще прекрасно обходился без мировоззрения. Кингсли Эмис, подобно многим современным реалистам, намеренно взял героя поскромней; простой, непритязательный Джим представлял в этом смысле отличное поле наблюдений. Этот герой не сознавал всей сложности моральных, социальных, политических конструкций; он воспринимал их на расстоянии, издалека, как действие, как результат, и отражал в своем характере их ценность. В его маленьком счастье проверялась большая проблема, но сам он знал об этом меньше всех. Его интересовала непосредственная, обыденная жизнь, личная судьба, которую ему никак не удавалось устроить.
Мешало многое. Прежде всего, на пути его стоял профессор Уэлч, человек, от которого зависело его будущее. Ученый администратор был непроницаем и непостижим. О чем он думал, как относился к Джиму? Это нелегко было понять. От него исходили какие-то обрывки мыслей: «...Как-то на святках лет пять назад у нас гостил друг Питера Уордлока. Так он говорил примерно то же самое. Да, помнится, и я прошлым летом, когда возвращался с предэкзаменационного совещания в Дареме... Жара была, как в пекле, а в поезде, доложу вам...» и т. д. Они вертелись, словно клочки газетной бумаги, которые никак не удавалось собрать вместе и смысл которых угадывался только потому, что за ними лежал тысячу раз слышанный штамп.
Потом Маргарет Пил, преподавательница университета. «Дождавшись, когда он не мог уже больше отводить глаза в сторону, она сказала: «Как сегодняшний вечер сблизил нас, Джеймс». Его засасывает какая-то трясина из сострадания, страха, неловкости; ему одинаково неприятно порвать с ней и продолжать эту двусмысленную роль.
Затем еще длинный ряд отталкивающих фигур, с каждой из которых Джим обязан соблюдать специальный ритуал — вежливо улыбаться, многозначительно и радостно кивать, проникновенно слушать. Это «ректор, маленький, пузатый человечек с блестящей розовой лысиной», который «смеялся своим обычным смехом, сильно напоминающим чудовищный хохот убийцы», профессор музыки Баркли с супругой («Она всегда и при всех обстоятельствах очень походила на лошадь, он — только в тех случаях, когда смеялся»), наконец, добровольный сикофант Ивен Джонс, который живет с ним в одном доме и бегает доносить на него при первом удобном случае, — все они мелькают в призрачном хороводе, угнетая воображение Джима, переселяя его — насильно — из здорового, реального мира, в котором он хотел бы жить, в мир закулисных химер. Эти люди вовлекают его в атмосферу постоянной лжи, которую он должен поддерживать и, по какому-то молчаливому соглашению, принимать за действительность. Он обязан делать вид, что верит в ученость Уэлча, хотя превосходно знает, что это «старый, слюнявый дурак», он вынужден читать студентам лекции на совершенно бесполезные, по его убеждению, темы, он должен принимать сына Уэлча, Бертрана, за даровитого художника и терпеть его «лающий смех». Он обречен покорно исполнять роль полудруга, полувлюбленного при истеричной Маргарет и выносить часами ее липучую откровенность. «Но экономической необходимости, да еще в сочетании с жалостью трудно противостоять. А когда на все это к тому же нагроможден страх — борьба становится безнадежной».
Впрочем, она безнадежна еще не совсем. Джим по-своему сопротивляется своим могущественным врагам. В открытую борьбу он вступить не в силах — она закончилась бы скоро и бесславно, — зато у него есть много разных хитростей и приемов. В нем живут одновременно несколько масок, в совершенстве имитирующих нужное лицо. Он умеет мгновенно подстроиться и разговаривать в унисон, наблюдая себя со стороны и даже думая о чем-нибудь совершенно другом. Он воспитал в себе нескольких условных людей, которые всегда готовы представительствовать вместо него в трудные и опасные моменты жизни. Стоит лишь выпустить такого джентльмена, и он, услужливо освобождая своего повелителя от забот, сам, гладко и непринужденно, ответит именно так, как нужно. Эти вымышленные двойники выполняют тот тяжелый труд, на который уже неспособен сам хозяин: нервы его напряжены, и попытайся он выступить сам от себя, произойдет неминуемый взрыв. Они образуют защитный ряд, «первый эшелон» Джимовой обороны и не пропускают никого из ненавистных ему людей в его внутренний мир.
Кроме того, они выполняют еще роль отдушины, разряда для накопившейся скверны. Джим переливает в них все то, от чего ему хотелось бы избавиться. Посреди разговора его лицо вдруг перекосит жуткая гримаса — в сторону, — всегда какой-нибудь образ: «умалишенный крестьянин», «воинствующий марсианин», «эскимос». Это мгновенные снимки внутренних состояний, воплощенные настроения, короткие спектакли. Они позволяют на секунду оглядеть себя со стороны и тем самым облегчить душу. Они могут выражать и символическое наказание врага, передразнивание, попытку обнажить и запечатлеть его тайное нутро. И эти быстрые портреты всегда неожиданны, злобны, смешны. В них проявляется даже кое-что от общего взгляда Джима на жизнь и смутная, не осознанная им оценка более широких явлений. Не случайно, разумеется, выбирает он для одной из унылых своих гримас лицо писателя Эвлина Во и не случайно отвечает Бертрану: «Вы очень любезны, сэр...» — и строит в микрофон постную рожу.
В каждом осторожном движении его есть эта защитная игра. Джим — мастер так называемых «practical jokes», то есть шуток в действии. Он может написать анонимное письмо неподдельным языком бродяги и беседовать по телефону двумя голосами, изображая даже телефонистку. В этих проделках виден его артистизм; незаметно, постепенно Джим раскрывается перед читателем как глубоко симпатичный, в своем роде талантливый человек. В характере его начинают проступать непредвиденные черты, он обнаруживает разнообразие, достойное художника. «Покидая вместе с Кристиной бар, Диксон чувствовал себя международным авантюристом, нефтяным королем, чикагским военным промышленником, тайным агентом, гидальго, гангстером. Он тщательно следил за своим лицом, дабы оно не выкинуло какой-нибудь шутки...» Несмотря на то, что о нем думают Уэлчи, Маргарет, Бертран и т. п., и вопреки тому, как он оценивает себя сам, в Джиме оказывается много доброты, самопожертвования и товарищеского долга.
Но только до известных границ. Средства, которые применяет Джим, приносят ему лишь минутное удовлетворение. Они помогают в мелочах, но отнимают понемногу веру в себя, подтачивают силы и лишают надежды обрести когда-нибудь настоящую цель. Какая-то темная, безличная власть внимательно следит за ним и останавливает на определенном пороге; Джим не решается его переступить. Умолчание мстит за себя, игра становится привычкой, подставные фигуры вытесняют действительное лицо, характер разрушается, мельчает. Приемы, увертки, недомолвки заглушают и давят то, что скрывалось за ними и выдвигало их впереди себя, обман громоздится на обман и заставляет забыть о правде. Действительная, подлинная его мысль сохнет, лишенная общения, и погибает, так и не развившись. Человечность свертывается, сжимается и начинает проявляться только в примитивных, импульсивных формах — внезапной жалости, короткого порыва при виде несчастья и т. п. Насмешка — его лучшее оружие — становится простым самообольщением; издевательства исподтишка надоедают и обращаются на него самого. Джим делается угрюмым, замкнутым, злым. Ничем не замутненную радость ему доставляет теперь только пиво — и он пьет самозабвенно.
В этот период Джим становится поистине «разгневанным». Вся накипевшая в нем горечь вдруг прорывается наружу и проявляет в один миг дремавшее в нем желание устроить, хоть ценой собственного благополучия, грандиозный скандал. Сколько раз он мечтал, беседуя с Уэлчем, о том, как хорошо бы его ударить в нос или спокойно объявить ему, что он, Уэлч, «старый навозный жук» и ничего больше. Ему не хватало смелости. Теперь, когда им овладело отчаяние, страх улетучился, нужен был только повод. И он представился — показательная лекция, где должна была присутствовать вся ученая камарилья. Здесь вконец расстроенный и полупьяный Диксон, издеваясь и глумясь, успел только высказать несколько крамольных слов и навсегда распрощался с университетом.
На этом можно было завершить роман. Однако тут Кингсли Эмис и показал, на наш взгляд, как незрел еще и половинчат тип «разгневанных». «Нигилизм, — заметил однажды Кропоткин, — это переходный момент к делу». Но никакого дела ни у писателя, ни у героя за спиной не оказалось. Совсем напротив, в дело был введен трогательный дядюшка — богач Гор-Эркварт. Он и его племянница Кристина спасли Джима, вернув его на добродетельный путь. Получился типичный кинофинал: счастливая пара, обнявшись, ушла от зрителей куда-то вдаль.
Счастливчик Джим подозрительно быстро переменил мнение о богачах. Раньше он говорил карьеристу Бертрану: «Советую вам получше использовать эти знакомства, пока не поздно. Это ведь ненадолго, как вы понимаете». Теперь он сам с успехом следует этому совету. Писатель Эмис так же резко повернул назад: создав сатирический роман, он приписал к нему умильный, благостный конец.
И такой поворот — не иронический трюк, не последняя насмешка. Эмис — это видно в романе — действительно верит в Гор-Эркварта и возлагает на него особые надежды. Он окружает дядюшку таинственным ореолом, неоднократно дает понять, как он умен, проницателен, добр, и даже помещает ему в карман флягу с крепчайшим виски, чтобы доказать, какой он «хороший парень». Да и в других произведениях «разгневанных» настойчиво повторяется такой же финал. На последних страницах романа измученного и обессиленного героя поджидает, как правило, честная девушка; все разрешается с неизменным благополучием. Так поступает, например, самый злобный писатель этой группы Уэйн в «Соперниках» и «Жизни в настоящем». Единственно Брейн отважился пока в своем «Месте наверху» порвать с традицией и привести рассказ к трагическому исходу.
«Разгневанные» продолжают сохранять свой половинчатый, незавершенный вид. Они не опираются ни на какие определенные слои, а выражают общее раздражение и чувство бесперспективности, которое проникает время от времени в душу каждого жителя «процветающих» государств. Они носят в себе — в обостренной форме — эту новую западную болезнь, которая является приступами, в моменты прозрений, и открывает вдруг человеку неприглядную правду — он видит, что связан по рукам и ногам и что его влекут совсем не в ту сторону, куда он хотел бы идти. Они первыми передали, обобщили эти настроения и дали им выход в целом ряде острых памфлетных произведений. Их популярность поэтому чрезвычайно широка. Правда, протест их весьма расплывчат; от них пока нового больше ожидают, чем они дают, и никого из них не назовешь словом более определенным, чем «разгневанный»; определенности им можно только пожелать. Но в книгах, подобных «Счастливчику Джиму», где так хорошо показано, что «добрая старая Англия» является, как говорит в конце своей лекций Джим, вовсе «не доброй и не веселой», заключена стихия отрицания большого значения. Она звучит, подымает, тормошит; разбуженный обыватель свирепеет, ему хочется растоптать нахала, но в ответ ему несется лишь торжествующий смех. Благодаря ей эти книги выходят за пределы всех умеренных программ, которым может подчинить конец романа ищущий себе пристанища писатель, и подымаются до уровня высокой сатиры.
Эвлин Во смеется над «земными» блужданиями человека и потешается над тщетой людских забот. Его смех инфернален, холоден и сух; Во — бесстрастный наблюдатель всеобщего краха, глубоко убежденный, что иначе и не может быть. «Разгневанные молодые люди» очень упрямы и не поддаются никаким уговорам, никакой демагогии; они спрашивают, правда ли то, что «Британское содружество наций» есть воплощенный рай, чуть ли даже не «социализм», и отвечают: нет. Они отметают от себя назойливый шум радио- и телекорпораций, газетных концернов и всматриваются прямо в действительность. То, что открывается их взору, совсем не вызывает в них чувства «оптимизма», которое хочет внушить им сытый буржуа. Университеты, в которых они учатся, полны высокопоставленных тупиц; города, в которых они живут, находятся в руках крупных воротил, готовых пойти на все ради собственной наживы; дома, в которых они снимают свои комнаты, населяют самодовольные и равнодушные мещане. Им отпускается ровно столько «свободы», сколько нужно на укрепление такого порядка.
Но именно этот порядок не устраивает «разгневанных». Они выступают против него страстно, злобно и непримиримо. Их критика направлена поэтому на основы социального строя, хотя и не доходит до самой его сердцевины. У этой молодежи есть чрезвычайно ценная черта: она никак не может примириться с философией «что поделаешь», столь популярной среди писателей старшего поколения. Если кто-нибудь из них и поддается слабости, изменяет самому себе, как это случилось с Эмисом в его последних двух романах, на смену ему сейчас же являются другие. И это весьма обнадеживающий знак. Ибо только от того, доведут ли они свои усилия до конца, сумеют ли найти путь к передовым течениям времени, зависит судьба всего направления «разгневанных».
Л-ра: Иностранная литература. – 1958. – № 12. – С. 226-229.
Произведения
Критика