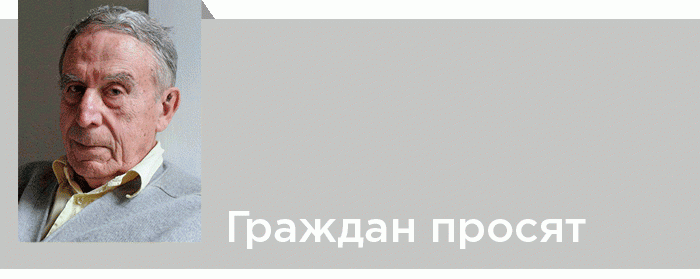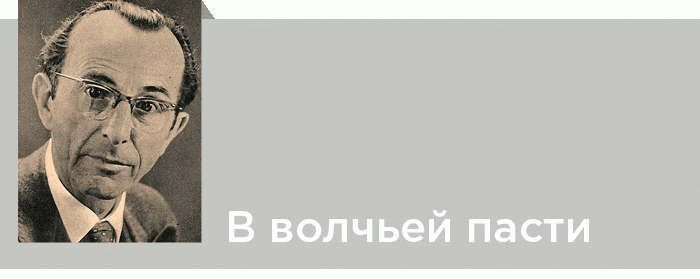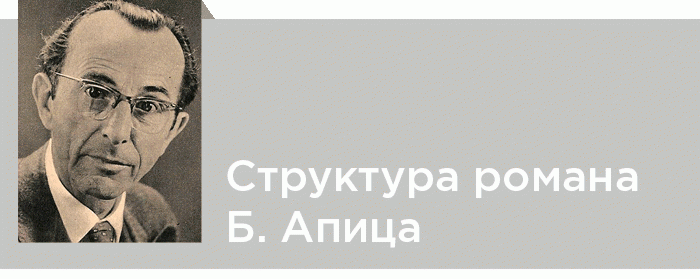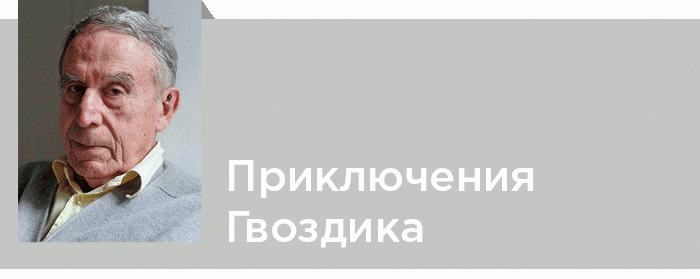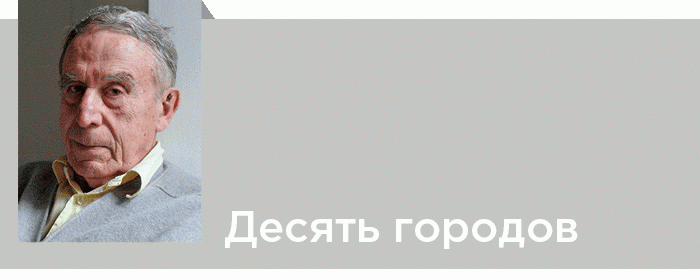Томас Вулф. Домой возврата нет

(Отрывок)
КНИГА ПЕРВАЯ
«ВОЗВРАЩЕНИЕ НА РОДИНУ»
1. Хмельной бродяга в седле
В тихий сумеречный час на исходе апреля, в лето от рождества Христова 1929-е, Джордж Уэббер облокотился на подоконник и вобрал взглядом Нью-Йорк — все, что мог увидать из окна, выходящего на задворки. В конце квартала высилась громада новой больницы, верхние этажи ее ступенчато сужались, взмывающие в небо стены розовели в лучах заката. К ближнему углу огромного здания и к дальнему, напротив, примыкали два крыла пониже, где жили сестры и санитарки. Кроме больницы, в квартале тесно лепились еще с полдюжины старых кирпичных домов; они устало прислонялись друг к другу, Джордж видел их с тылу.
Было удивительно тихо. Все городские шумы доносились сюда, приглушенные расстоянием, точно смутный гул, — непрестанный, неумолчный, он казался неотделимым от тишины. Вдруг в открытые окна с фасада ворвалось хриплое рычание, это заводили грузовик у склада через улицу. Мощный мотор разогревался, рев нарастал, и вот залязгало, заскрежетало, и Джордж всем телом ощутил, как задрожал старый дом: грузовик вырулил на улицу и с грохотом покатил прочь. Шум отдалялся, слабел, потом слился с общим смутным гулом, и снова все успокоилось.
Джордж все глядел, высунувшись из окна, неизъяснимая радость прихлынула к горлу, и он что-то закричал в окно больничного крыла девушкам, которые, по обыкновению, отглаживали свои две пары штанишек и тоненькие платьишки. Слабо, словно очень издалека, долетали к нему крики играющей на улицах детворы и негромкие голоса людей в домах. Он смотрел вниз, на прохладные косые тени — вечерний свет скользил по квадратикам дворов, и в каждом дворе открывалось что-то знакомое, очень и только свое: вот клочок земли, — какая-то миловидная женщина засадила его цветами, она выходила в брезентовых рукавицах, в соломенной широкополой шляпе и усердно трудилась по нескольку часов подряд; а вот крохотная зеленая лужайка, — здесь каждый вечер сосредоточенно поливает недавно посеянную траву лысый человек с красным квадратным лицом; в других дворах виднеется сарайчик, кукольный домик, мастерская, где иной деловой человек в часы досуга увлеченно что-то мастерит; или расставлены весело раскрашенный стол и два-три шезлонга под сенью большущего ярко-полосатого садового зонта — и хорошенькая девушка весь день сидит там и читает, на плечи наброшено пальто, под рукой — бокал вина.
Разлитый в воздухе покой, и закатный свет, и запах весны будто заворожили Джорджа, и ему казалось, он хорошо знает всех людей вокруг. Он любил старый дом на Двенадцатой улице — красные кирпичные стены, просторные комнаты с высокими потолками, темные деревянные панели и скрипучие полы, а колдовская эта минута словно одарила дом еще и каким-то печальным величием, оттого что долгих девяносто лет он укрывал в своих стенах столько человеческих жизней. Он и сам стал как живое существо. Казалось, тут все живет и дышит — стены, комнаты, стулья, столы, даже влажное махровое полотенце, свисающее над ванной, даже брошенное на стул пальто и раскиданные по всей комнате рукописи, бумаги, книги.
Как хорошо снова очутиться здесь, вокруг все такое знакомое, и, однако, есть в этом что-то странное, неправдоподобное. С острым внезапным изумлением Джордж в сотый раз за последние неделя напомнил себе: ведь он и вправду возвратился домой, он снова дома — в Америке, в каменном человеческом муравейнике на острове Манхэттен, он вернулся к родине и любви; и в радости был привкус вины, оттого что вспомнилось: года не прошло с тех пор, как он уехал на чужбину, в гневе и отчаянии бежал от всего, к чему теперь возвратился.
В горькой своей решимости он тогда, прошлой весной, больше всего хотел сбежать от женщины, которую любил. Эстер Джек была много старше его, мужняя жена и мать взрослой дочери. Но она полюбила Джорджа такой полной, такой безоглядной любовью, что под конец он стал чувствовать себя в западне. Из плена этой любви он и жаждал вырваться, да еще — бежать от постыдных воспоминаний о яростных ссорах с Эстер, от душевного смятения, чуть ли не безумия, которое все нарастало в нем оттого, что Эстер пыталась его удержать. И вот он расстался с нею и удрал в Европу. Он уехал, чтобы забыть эту женщину, — и убедился, что забыть не может; только о ней и думал ежечасно, непрестанно. Опять и опять вспоминал ее — румяную, веселую, неизменно добрую и великодушную, по-настоящему талантливую, вспоминал все часы, что они провели вместе, — и мучительно но ней тосковал.
Вот так, убегая от любви, которая все еще его преследовала, он заделался бродягой в чужих краях. Объездил Англию, Францию и Германию, столько перевидал нового, столько народу встречал — пересек полконтинента, ругался, распутничал, пил, скандалил… однажды в какой-то пивнушке ему в драке проломили голову, выбили несколько зубов и перешибли нос. А потом он одиноко лежал на койке в мюнхенской больнице и смотрел в потолок — пока заживало разбитое лицо, оставалось только размышлять. Вот тут-то он наконец немножко набрался ума-разума. Прежнее безумие ушло, и впервые за много лет буря внутри утихла.
Ибо он постиг кое-какие истины, которые каждый должен открыть для себя сам, — и открыл их, как положено каждому человеку: через испытания и ошибки, через заблуждения и самообманы, через ложь и собственную несусветную дурость, потому что бывал слеп и неправ, глуп и себялюбив, полон порывов и надежд, безоглядно верил и отчаянно запутывался. Там, на больничной койке, он заново пересмотрел всю свою жизнь и по крупицам извлек из нее суровые уроки опыта. И каждая постигнутая истина оказывалась такой простой и самоочевидной, что он только диву давался — как можно было этого не понимать! А все вместе они свивались в некую путеводную нить, что протянулась далеко назад, в его прошлое, и вперед, в будущее. И Джорджу думалось: пожалуй, можно стать истинным хозяином собственной судьбы, ведь теперь он всем нутром чувствует, к чему надо стремиться, но вот куда это чувство его заведет — как знать?
А чему же он научился? На взгляд философа, вероятно, немногому, однако же просто по-человечески это не так уж мало. Он жил, и каждый день, по сто раз на дню, в мелочах должен был что-то решать, повинуясь всему, что было в нем заложено наследственностью и окружением, ходом мысли и кипением чувств, а решив, пожинал, что посеял, и на этом понял: даром ничто не дается. И понял — наперекор своему телу, до того непокорному и чуждому равновесия, что он порою чувствовал себя каким-то выродком, он все равно брат и родня всем людям на свете. Понял, что нельзя объять необъятное и надо знать меру своим силам и примириться с этим. Оказалось, многое, чем он терзался в последние годы, он растравил в себе сам, и это были неизбежные муки роста. И, что самое главное для человека, который взрослел так медленно, — он как будто научился наконец не быть рабом чувств.
Чаще всего он попадал в беду оттого, что действовал очертя голову. Что ж, хорошо, он станет осмотрительней. Вся штука в том, чтобы взнуздать ум и сердце — пусть будут заодно, а не тянут в разные стороны. Попробуем передать полноту власти рассудку и поглядим, что получится; тогда, если разум скажет: «Вот оно!» — ты и сердцем рванешься к той же цели.
Это уже касается и Эстер, ведь он вовсе не собирался к ней вернуться. Разум подсказывал: между ними все кончено — и пусть, так лучше. Но едва он приехал в Нью-Йорк, сердце подсказало позвонить ей — и он позвонил. Они встретились, и, конечно, все началось сначала.
Итак, они снова вместе, а ведь он был уверен: что-что, а это не повторится. И, однако, он счастлив, что вернулся к ней. Непостижимо! Казалось бы, если идешь наперекор рассудку, ты должен чувствовать себя несчастным. Но нет, ничуть не бывало! Вот потому-то, пока он раздумывал, облокотясь на подоконник, а вокруг сгущались апрельские сумерки, его потихоньку грыз червячок совести, и он недоуменно спрашивал себя, насколько же у него мысли расходятся с делом.
Ему уже минуло двадцать восемь и хватало ума понять: человек далеко не всегда сознает, почему поступает так, а не иначе, и совсем не просто отбросить привычки и чувства, что складывались годами, ведь это не изношенная шляпа и не стоптанный башмак. Что ж, ему не первому приходится ломать голову над этой задаче!!. Перед таким же выбором оказывались порой и философы. И даже говорили по сему поводу разные мудрые слова.
«Глупая последовательность — пугало мелких душ», — сказал Эмерсон.
И великий Гете примирился с суровой истиной, что путь человека к зрелости не прям, но извилист, и сравнил развитие и прогресс человечества с тем, как петляет, еле держась в седле, бродяга — хмельной всадник.
Быть может, не столь важно, что бродяга во хмелю не способен ехать прямо к цели, куда важней, что он все-таки оседлал коня и, пусть петляя и сбиваясь, все же куда-то едет.
Джордж Уэббер некоторое время тешился этой мыслью и, однако, довольный и успокоенный, все еще чувствовал себя немножко виноватым. Пожалуй, где-то в его рассуждениях кроется уязвимое место.
Он непоследователен, он вернулся к Эстер, — разумно это или глупо… Неужели хмельной всадник должен вечно плутать и петлять?
Эстер проснулась мгновенно, внезапно, как птица. Лежала на спине и широко раскрытыми глазами смотрела в потолок. Мигом ощутила себя, свое тело, — она готова встретить новый день.
И тотчас подумала о Джордже. Они помирились, заново обрели свою любовь, и все для них стало радостно и ново. Подобрали и сложили осколки прежней жизни, — и она вновь стала полна и прекрасна, как в самую лучшую пору, до отъезда Джорджа. Теперь он начисто избавился от безумия, которое чуть не погубило их обоих. Он и сейчас легко поддается настроениям, внезапной блажи, но и тени нет прежнего неистовства, когда на него накатывало и он яростно метался, крушил все кругом и в кровь разбивал кулаки о стену. Он стал спокойней, уверенней, куда лучше владеет собой и, похоже, каждым шагом и поступком старается показать, что любит ее, Эстер. Никогда еще она не была так счастлива. Как хорошо жить!
За окнами, на Парк-авеню, вновь появились прохожие, улицы становились все многолюдней. На столике у кровати часто-часто тикал будильник, нетерпеливо отсчитывал пульс времени, словно по-ребячьи спешил навстречу какой-то воображаемой радости, и где-то в доме размеренно, торжественно пробили часы. Утреннее солнце залило комнату, будто между делом высветило каждую мелочь, и в душе Эстер сказала себе: пора!
Нора принесла кофе и горячие булочки, и Эстер взялась за газету, просмотрела театральную хронику, список актеров, приглашенных играть в новой немецкой пьесе, которую готовит к осени Любительский театр, прочла, что «художником-оформителем спектакля приглашена мисс Эстер Джек». Прочла и рассмеялась: забавно, что ее называют мисс, и так ясно представилось, какой ужас выразится на его лице при виде этих строк (а какое у него было лицо, когда маленький портной решил, что она его жена!), и так приятно увидать свое имя в газете: «…мисс Эстер Джек, которая своим искусством завоевала общее признание как один из самых выдающихся современных театральных художников».
Веселая, счастливая, довольная собой, она сунула газету в сумку вместе с кое-какими прежними вырезками и прихватила их, отправляясь на Двенадцатую улицу, где она каждый день навещала Джорджа. Дала ему газеты и уселась напротив, чтобы видеть его лицо, пока он читает. Она помнила все, что там писали о ее работе:
«…Работа тонкая, ищущая и ненавязчивая, в которой чувствуется особый, горький и едкий юмор…», «…заставляет автора этих строк на старости лет по-детски восхищаться уверенным мастерством и силой воображения, ничего подобного не дарил нам нынешний театральный сезон, столь богатый блестящими, но поверхностными постановками…»
«…Ее неприхотливые декорации, веселые, легкие, обладают всеми достоинствами, каких мы уже привыкли ждать от этой художницы, которая беззаветно предана капризной и подчас неблагодарной госпоже сцене…»
«…Великолепное озорство, которое чувствуется в причудливых декорациях проказливо-насмешливого и — надо ли напоминать? надо ли извиняться за напоминание? — искусного мастера…»
Она еле удерживалась от смеха, — так презрительно кривились губы Джорджа, так ехидно передразнивал он рецензентов:
— «Проказливо-насмешливого»! Прелестно, черт подери! «На старости лет по-детски восхищаться», — видали, какой оригинал, сукин сын! «Подчас неблагодарная госпожа», — скажите пожалуйста!.. «и надо ли напоминать!» — ах-ах, мне дурно, душенька! Дайте мне чесноку!
Он швырнул газеты на пол и с напускной суровостью обернулся к Эстер, от уголков глаз разбежались смешливые морщинки.
— Ну-с, накормят меня сегодня? Или ты будешь упиваться этой мутью, а мне — помирать с голоду?
Эстер больше не могла сдерживаться и закатилась хохотом.
— Но это же не я! — задыхаясь, насилу выговорила она. — Это не я писала! Я не виновата, что они так пишут! Жуть, правда?
— Ну да, и, может, тебе это противно? — сказал Джордж. — Ты все это смакуешь! Сидишь тут и облизываешься, наслаждаешься их славословиями и моими муками! Известно ли тебе, о женщина, что я не ел со вчерашнего дня? Накормят меня или нет? Может, ты вложишь свое искусное воображение в бифштекс?
— Вложу! — сказала Эстер. — Хочешь бифштекс?
— Может, ты заставишь меня на старости лет по-детски восхищаться отбивной под нежнейшим луковым соусом?
— Да, — сказала она, — о да!
Он подошел, обнял ее, заглянул ей в глаза любящими и жадными глазами.
— Может, ты приготовишь мне какую-нибудь тонкую, ищущую и ненавязчивую подливку — ты ведь на них такая мастерица?
— Да! Сделаю для тебя все, что хочешь!
— А почему?
То был обряд, который оба знали наизусть, не пропускали ни одного вопроса, ни ответа: каждому хотелось опять и опять слышать от другого эти слова!
— Потому что я тебя люблю. Потому что хочу кормить тебя и любить тебя.
— И это будет хорошо? — спрашивал Джордж.
— Так хорошо, что и сказать нельзя, — отвечала Эстер. — Будет хорошо, потому что я такая хорошая и красивая и все делаю прекрасно, ни одна женщина на свете для тебя лучше не сделает, и еще потому, что я тебя люблю всеми силами души и хочу, чтоб мы были — одно!
— И эту великую любовь ты вложишь в стряпню?
— В каждый лакомый кусочек! Ты утолишь свой голод, как никогда. Это будет чудо из чудес, и отныне ты станешь лучше и богаче телом и душой. Ты запомнишь это на всю жизнь. Это будет восторг и упоение.
— Значит, это будет такая еда, какой еще никто на свете не пробовал, — сказал Джордж.
— Да, — отвечала она. — Конечно.
И это была правда. Никогда ничего подобного не было в мире, пока вновь не настал апрель.
Итак, они снова вместе. Но что-то между ними переменилось. Даже и внешне. Они уже не довольствовались общим скромным жилищем. Возвратись в Нью-Йорк, Джордж с первого же дня наотрез отказался вновь поселиться на Уэверли-плейс, в прежнем убежище их любви, жизни и работы. Взамен он снял две просторные комнаты на Двенадцатой улице — они занимали весь второй этаж, и их можно было превратить в один огромный зал, стоило лишь открыть раздвижные двери. Тут была и крохотная — только-только повернуться — кухонька. Все это отлично устраивало Джорджа: и места вдоволь, и никто не мешает. Эстер может приходить и уходить, когда захочет; они могут быть здесь вдвоем, и только вдвоем, когда пожелают; здесь они могут вволю упиваться любовью.
Но самое главное: это дом не общий, а его, Джорджа, и потому теперь их отношения строятся на иной основе. Отныне он не допустит, чтобы вся его жизнь перепуталась с любовью. У Эстер свой мир — театр, богатые друзья, а его это не касается, у него свой мир — литература, и тут надо справляться одному. Всему свое место и свой черед: любовь любовью, но он останется верным себе, хозяином своей жизни и своей души.
Примирится ли с этим Эстер? Согласится ли принять его любовь, но дать ему свободу жить и работать по-своему? Так должно быть, сказал он ей, и она ответила: да, она все понимает. Но сумеет ли она? Способна ли женщина по самой природе своей удовольствоваться тем, что может дать ей мужчина, и не посягать на то, чего он отдать не вправе? Уже сейчас иные мелкие предзнаменования заставляли его в этом сомневаться.
Однажды утром Эстер пришла и оживленно, весело стала пересказывать какую-то забавную уличную сценку… и вдруг умолкла на полуслове, по лицу ее прошла тень, она поглядела с тревогой и неожиданно спросила:
— Ты ведь любишь меня, Джордж?
— Да, — сказал он, — конечно. Ты же знаешь.
— Ты никогда больше меня не бросишь? — На миг у нее перехватило дыхание. — Будешь вечно меня любить?
Джорджа изумила и эта внезапная смена настроений, и самый вопрос: вот нелепость, как будто он или кто угодно другой по совести может поручиться за свои чувства, за верность навеки! И он расхохотался.
Эстер нетерпеливо махнула рукой.
— Не смейся, Джордж. Мне надо знать. Скажи. Ты будешь вечно меня любить?
Она спрашивала так серьезно, но что же тут ответишь? Джорджа взяла досада, он встал из-за стола, минуту смотрел на Эстер, будто не видя, и начал ходить из угла в угол. Раза два приостановился, оборачивался к ней, но было не так-то легко выговорить нужные слова, и он опять принимался беспокойно шагать по комнате.
Эстер зорко следила за ним, поначалу она смотрела и весело и сердито, а потом в глазах разгорелась тревога.
«Ну, что я такого сделала? — думалось ей. — Господи, что за человек! Никогда не знаешь, чего от него ждать. Задаешь самый простой вопрос — и вот, не угодно ли, как он себя ведет! Правда, прежде он еще и не то вытворял. Бывало, мигом взорвется, ругает меня на чем свет стоит. А вот сейчас что-то в нем бурлит, а о чем он думает, понять невозможно. Надо же, мечется, как зверь в клетке! Этакий обезьян с бурей страстей в груди!»
А Джордж в минуты волнения и правда походил на обезьяну. Мощный торс, могучие широкие плечи, на ходу слегка сутулится, длинные руки свисают чуть не до колен, свободно болтаются крупные кисти, а пальцы, на концах словно сплющенные, подвернуты внутрь, — ни дать ни взять звериная лапа. Голова, прочно сидящая на короткой шее, немного выставлена вперед, и весь он словно пригнулся: то ли чует опасность, то ли готовится к прыжку. Он даже кажется меньше ростом, на самом деле он немножко выше среднего — метр семьдесят три или семьдесят пять, однако ноги не совсем соответствуют такому мощному торсу. Да еще и черты лица не крупные — нос как бы приплюснут, глубоко сидящие глаза глядят из-под густых, нависших бровей, и лоб довольно низкий, от бровей до волос не так уж далеко. А когда он взволнован или чем-то увлечен, он как-то особенно сосредоточенно смотрит исподлобья, и при том, что голова всегда выставлена немного вперед, а все тело наклонено, в такие минуты еще сильней его сходство с шимпанзе или орангутаном. Не удивительно, что кое-кто из друзей зовет его «Обезьян».
Минуту-другую Эстер не сводила с него глаз, огорченная и обиженная тем, что не получила ответа. Джордж остановился у окна и смотрел вниз, на улицу, Эстер подошла и тихонько взяла его под руку. Она видела, как вздулась жилка у него на виске, и понимала, что говорить сейчас не надо.
Из соседнего дома (там помещалось отделение профсоюза портных) выходили маленькие щуплые евреи и останавливались посреди улицы. Бледные лица, немытые волосы, одежда в пятнах, но сколько живости! Кричат, машут руками, все сильней горячатся, легонько похлопывают друг друга по щекам, гортанно приговаривая: «Нет! Нет! Нет!» Разъяряясь, но все еще с улыбкой (а видно, руки так и чешутся) закатывают друг другу оплеухи покрепче. И, наконец, уже вопят в полный голос и лупят почем зря. Другие кричат и ругаются, иные смеются, некоторые угрюмо стоят поодаль и чем-то молча терзаются каждый сам по себе.
А потом налетела полиция — молодые, крепкие ирландцы. Что-то в них гнусное, что-то от наемных убийц. Зверские, тупые, наглые морды. Лениво движутся тяжелые челюсти: даже пробиваясь через толпу, расталкивая и распихивая всех направо и налево, эти молодцы не перестают жевать резинку.
— А ну, разойдись! — повторяют они. — Разойдись! Давай, давай! Пошевеливайся!
Мимо с ревом проносятся автомобили, идут прохожие. Мелькают лица, которых Джордж и Эстер никогда прежде не встречали — и, однако, видели сотни раз, всюду и везде: всегда разные, лица эти никогда не меняются, они возникают в таинственных животворных родниках бытия, несчетные, бесконечно разнообразные, вечно движутся, нескончаемо и неустанно повторяются. Так, опять и опять проходят по улицам жизни три подружки. У одной лицо жестокое и чувственное, глаза скрыты стеклами очков, злой, грубый рот. У другой худощавая крысиная мордочка, а нос непомерно велик. У третьей лицо пухлое, расплывчатое, на жирных накрашенных губах, в маслянистых ноздрях — глумливая ухмылка. И когда они смеются, в смехе не слышно ни радости, ни веселья, — визгливый, пронзительный, неестественный, он режет слух и только требует, чтобы все, все, все их заметили.
На улицах играют дети. Мрачные, решительные, необузданные, они в точности подражают речи и грубым повадкам старших. Вот они кидаются в драку, и слабейший летит на мостовую. Полицейские погнали прочь шумную кучку портняжек, их уже нет. Небо синее, молодое, яркое, нигде ни облачка; на деревьях набухают почки; и солнечный свет простодушно, бесстрашно приходит на эту улицу, ко всем, кто здесь есть.
Эстер покосилась на Джорджа, — он смотрел в окно, и лицо его все сильней искажалось. Он хотел бы сказать ей; все мы дикари и глупцы, необузданные, сбитые с толку; мы полны страхов и смятения, слепые и невежественные, мы проходим по живой, прекрасной земле, вдыхаем напоенный молодостью живительный воздух, нас омывает свет утра, а мы ничего этого не видим и не понимаем, потому что в душе мы убийцы.
Но ничего такого он не сказал. Устало отвернулся от окна.
— Вот она, вечность, — сказал он. — Вот она, твоя вечность.
2. Первая улыбка славы
Несмотря на привкус вины, который Джордж нередко ощущал в самые радостные минуты, никогда еще он не был так счастлив. Да, так, в этом нет сомнений. И он этим упивался. Прежнее безумие прошло бесследно, и он подолгу ликовал, восторженно веря (отнюдь не впервые, но никогда еще уверенность эта не была так сильна), что наконец-то он и вправду господин и повелитель своей судьбы. Еще в раннем детстве, когда он сиротой жил у своих родичей Джойнеров в Либия-хилле, он мечтал, что когда-нибудь попадет в Нью-Йорк и найдет там любовь, славу, богатство. И вот уже несколько лет, как он называет Нью-Йорк своим домом, любовь он тоже обрел, а теперь, конечно же, пришла пора богатства и славы, до них уже рукой подать.
Человек всегда счастлив, когда уверенно ждет, что вот-вот сбудутся самые смелые его мечты, и потому Джордж был счастлив. И как бывает почти со всеми нами, когда в жизни у нас все хорошо, он воображал, будто это его собственная заслуга. Нет, не удача, не случай, не слепой ход событий принесли ему эту новую бодрость духа: уверенность в себе и ощущение победы — награда за его собственные необычайные достоинства, заслуженная награда, и только! Между тем решающую роль в его преображении сыграл именно счастливый случай. Произошло нечто невероятное.
В первые же дни, как он возвратился в Нью-Йорк, ему позвонила донельзя взволнованная Лулу Скаддер, литературный агент. Крупнейшее издательство «Джеймс Родни и Кo » заинтересовалось его, Джорджа Уэббера, рукописью, и знаменитый издатель Лисхол Эдвардс желает побеседовать с автором. Конечно, в таких случаях ничего нельзя знать заранее, но всегда лучше ковать железо, пока горячо. Не может ли Джордж прямо сейчас, не откладывая, повидаться с Эдвардсом?
Глупо радоваться, твердил себе по дороге Джордж, скорей всего, ничего из этого не выйдет. Ведь вот в одном издательстве его книгу уже отвергли, заявили, что никакой это не роман! Издатель даже написал, — слова его, точно каленым железом выжженные, запечатлелись в мозгу Джорджа: «Роман — форма явно чуждая вашему таланту». А ведь речь идет о той же самой рукописи. Он не изменил ни единой строчки, не выкинул ни слова, хотя и Эстер и мисс Скаддер намекали, что рукопись чересчур велика, ни одно издательство за нее не возьмется. Джордж упрямо отказывался что-либо менять: пускай печатают как есть или вовсе не печатают. И он уехал в Европу, совершенно уверенный, что, как бы ни старалась мисс Скаддер пристроить его детище, издателя ей не найти.
За границей ему тошно было даже думать о рукописи: столько труда в нее вложено, столько бессонных ночей, сколько с ней связано надежд, что поддерживали его все эти годы… И он старался не думать — ясно же, никуда его пачкотня не годится, и сам он никуда не годен, а если много о себе возомнил и жаждал славы, так это пустые мечты, заносчивость бездарного писаки. Видно, он ничуть не лучше прочих пустобрехов-учителишек из Школы прикладного искусства, откуда он сбежал и куда вернется, когда кончится его отпуск, и снова станет учить студентов выражать свои мысли на бумаге. Почти все тамошние преподаватели вечно толкуют, будто пишут или собираются написать неслыханно прекрасные книги, — потому что, как и он сам, отчаянно ищут выхода, ведь тоска берет изо дня в день учить тупиц, читать их сочинения, ставить отметки, понапрасну пытаясь высечь хоть искорку в беспросветно тупых умах. Джордж провел в Европе почти девять месяцев, от мисс Скаддер за все время не было никаких вестей, и он уже не сомневался: сбылись его самые мрачные предчувствия.
И вот, оказывается, издательство Родни им заинтересовалось. Что и говорить, они не спешили. И как это понять — «заинтересовалось»? Скорей всего, ему скажут, что в рукописи заметны признаки дарования и, если его тщательно пестовать и развивать, пожалуй, когда-нибудь оно и принесет кое-какие плоды — книжку, достойную внимания публики. По слухам, есть такие осторожные издатели, годами водят начинающего за нос, отвергают книгу за книгой, и притом понемножку подбадривают, чтоб не вовсе отчаялся: мы, мол, в тебя верим, у тебя все впереди, надо только «найти себя». Ну нет, Джорджа на этом не проведешь! Он не выдаст разочарования, даже глазом не моргнет и, уж конечно, ничего им не пообещает!
Если полицейский на перекрестке и заметил в то утро перед издательством «Джеймс Родни и Кo » странного молодого человека, то где ему было догадаться, как решительно, сжав кулаки, этот молодой человек собирался с духом для предстоящего разговора. Если полицейский его и заметил, то, скорей всего, присмотрелся недоверчиво: не вмешаться ли, может, тут пахнет уголовщиной? Или вызвать карету «скорой помощи», а покуда заговорить ему зубы, и пускай малого свезут куда надо и проверят, в порядке ли у него винтики.
Молодой человек шел стремительным, неровным шагом, мрачный, насупленный, угрюмо сжав губы; пересек улицу, ступил на тротуар у дверей издательства и вдруг будто споткнулся — остановился, растерянно огляделся и не сразу заставил себя снова тронуться с места. Но теперь он двигался неуверенно, казалось, ноги его не слушаются. Рванулся было вперед, замер, опять рванулся — и у самой двери вновь замер, застыл в нерешимости. Минуту стоял перед входом, судорожно сжимая и разжимая кулаки, потом быстро, подозрительно огляделся, точно боялся, не смотрит ли кто. Наконец решительно встряхнулся, сунул руки глубоко в карманы, не спеша повернулся и прошел мимо.
Теперь он шел не торопясь, угрюмей прежнего сжал губы и так напряженно вытянул шею, словно высмотрел себе цель далеко впереди и решил двигаться к ней строго по прямой. И, однако, проходя мимо дверей издательства, мимо пестреющих книгами витрин по обе стороны входа, он косил на них краешком глаза, точно шпион, которому непременно надо углядеть, что делается в этом доме, но только незаметно для прохожих. Он дошел до конца квартала и зашагал обратно и опять, проходя мимо этого дома, не повернул головы на неподвижной, точно деревянной, шее, а лишь косился украдкой. Добрых двадцать минут кряду он повторял тот же странный маневр: поравняется с дверями, замешкается, слегка повернется, словно хочет войти, и опять порывисто шагает дальше.
Наконец, чуть не на пятидесятый раз, он ускорил шаг, подошел и взялся за ручку двери, но тотчас, будто его ударило током, отдернул руку, попятился, стал на краю тротуара и, закинув голову, уставился на здание издательства. Несколько минут он так и стоял — переминался с ноги на ногу, всматривался в верхние окна, будто ждал какого-то знака. И вдруг выпятил челюсть, стиснул зубы так, что на скулах заиграли желваки, опрометью бросился к двери, смаху распахнул ее и скрылся в доме.
Часом позже он вышел оттуда, — и если тот полицейский еще не сменился с поста, уж наверно поведение молодого человека вновь изумило его и озадачило. Странный малый шагал свесив руки, медленной, деревянной походкой, вид у него был обалделый, в руке зажат смятый листок желтой бумаги. Он вышел из здания издательства, точно лунатик, медленно, бездумно — ни дать ни взять заводная кукла, — повернулся и все с тем же ошалелым, блаженным выражением лица направился к жилым кварталам и скрылся в толпе.
Уже вечерело и к востоку, быстро удлиняясь, тянулись косые тени, когда Джордж Уэббер наконец очнулся где-то в дебрях Бронкса. Он так и не понял, каким ветром его сюда занесло. Помнил только, что вдруг до смерти захотелось есть, и тогда он остановился, огляделся по сторонам и сообразил, где он. Тупо ошеломленное лицо его вспыхнуло изумлением, недовернем, рот растянулся в улыбке до ушей. Он медленно расправил стиснутый в кулаке хрустящий желтый листок и начал его внимательно изучать.
Это был чек на пятьсот долларов. Книгу приняли, и он получил аванс.
Да, никогда еще за всю свою жизнь он не был так счастлив. Наконец-то к нему постучалась слава и льстиво и нежно ему заулыбалась, и он жил в каком-то чудесном забытьи. Следующие недели и месяцы наполнены были радостным предвкушением. Книга выйдет только осенью, но до тех пор — столько работы! Лисхол Эдвардс предложил кое-что убрать, кое-что изменить, Джордж сперва заспорил, а потом, к собственному удивлению, согласился, что так будет лучше, и принялся исправлять рукопись, как советовал Эдвардс.
Свой роман он назвал «Домой, в наши горы» и вложил в него все, что знал о своем родном городке в Старой Кэтоубе и о тамошних жителях. Каждая строчка была выжимкой из того, что он, Джордж, сам видел и пережил. И теперь, когда уже ясно было, что книга выйдет, его порой бросало в дрожь, ведь еще несколько месяцев — и всему свету станет известно, что он там написал. Ужасно думать, что кого-то заденешь, обидишь, как же ему это раньше в голову не приходило! А теперь уже ничего не поделаешь, и становится не по себе. Конечно, его книга — вымысел, литература, но, как и положено настоящей литературе, она вылеплена из живой жизни. Какие-то люди, пожалуй, узнают себя и возмутятся, — и тогда как быть? Неужто прятаться, расхаживать в темных очках и с фальшивой бородой? Он утешал себя: может быть, портреты его героев не так уж верны (хотя в иные минуты приятно было думать по-другому), может быть, никто ничего не заметит.
Журнал «Родни мэгезин» тоже обратил внимание на молодого писателя — в ближайшем номере там поместят его рассказ, главу из книги. Узнав об этом, Джордж совсем возликовал. Ему не терпелось увидеть свое имя в печати, и в эту пору счастливого ожидания он чувствовал себя каким-то вселенским Дон-Жуаном: поистине, он любил всех и каждого — своих коллег по Школе и нудных учеников и учениц, продавщиц и лавочников, и даже безликие, безымянные толпы на улицах. Издательство Родни, разумеется, величайшее и прекраснейшее в мире, а Лисхол Эдвардс — величайший редактор и прекраснейший человек, другого такого свет не видал. Джорджу он сразу пришелся но душе, и теперь он называл Эдвардса просто Лисом, точно старого закадычного друга. Он знал, Лис в него верит — и эта вера и доверие редактора, обретенные в тот самый час, когда он утратил последнюю надежду, возвратили Джорджу уважение к себе и придали сил для новой работы.
В нем уже зрел новый замысел, возникали очертания нового романа. Скоро надо будет выплеснуть все это на бумагу. Страшно подумать, что придется сесть за работу всерьез, ведь уже знаешь, какая это пытка. Становишься как одержимый, точно бес в тебя вселяется — сторонняя неистовая сила, ее не побороть. Накатит на тебя — и выкуриваешь шестьдесят сигарет в сутки, выпиваешь двадцать чашек кофе, ешь где попало и как попало, в любое время дня и ночи, когда вдруг спохватишься, что голоден как волк. Маешься бессонницей, миля за милей меришь шагами улицы, чтобы выбиться из сил (иначе и вовсе не уснуть), а потом мучают кошмары, и наутро ты издерган и весь как выжатый лимон.
И он сказал Лису:
— Наверно, есть лучшие способы писать книги, но, честное слово, я иначе не умею, придется уж вам с этим мириться.
Когда вышел номер «Родни мэгезин» с рассказом Джорджа, автор всерьез ждал: вот-вот содрогнется земля, посыплются падучие звезды, замрет движение на улицах и разразится всеобщая забастовка. Но ничего такого не случилось. Кое-кто из друзей в разговоре с Джорджем упомянул о его рассказе — и только. Он было приуныл, а потом здраво рассудил, что людям ведь на так легко оценить молодого писателя по небольшому рассказу. Вот выйдет книга, тогда все увидят, кто он такой и на что способен. Тогда уж будет по-другому. Ну ничего, он еще немножко потерпит, а уж тогда к нему наверняка придет долгожданная слава.
Потом первое волнение улеглось, Джордж немного попривык чувствовать себя писателем, чья книга и правда скоро выйдет в свет; тогда лишь он стал осматриваться в неведомом прежде мире, где делаются книги, и узнавать людей, которые этот мир населяют, — и лишь тогда начал понимать и по достоинству ценить Лиса Эдвардса. Впервые он понял, что за человек его редактор, благодаря Отто Хаусеру: столь же глубоко, неколебимо честный, Хаусер во всем остальном был полной противоположностью Лиса.
Хаусер служил в фирме Родни рецензентом — и лучшего издательского рецензента, пожалуй, не сыскать было во всей Америке. Он мог бы сам стать отличным, редкостным издательским редактором, если бы в нем было сильно то, что движет большим редактором: честолюбие, восторженная горячность, дерзкая и упрямая решимость, неугомонная жажда искать и находить все лучшее. Но Хаусер преспокойно довольствовался тем, что изо дня в день читал нелепые сочинения нелепых писак на самые нелепые темы (к примеру, «Плавание брассом», «Альпийское садоводство для всех», «Жизнь и развлечения Лидии Пинкем», «Новый век изобилия») — хлам, среди которого редко-редко мелькал огонек страсти, искра таланта, проблеск подлинной правды.
Отто Хаусер жил в крохотной квартирке неподалеку от Первой авеню и однажды вечером пригласил Джорджа зайти. Джордж зашел к нему, и они проговорили весь вечер. А потом Джордж приходил еще и еще; Отто нравился ему и притом озадачивал, уж очень противоречиво было все в этом человеке, и особенно удивляла какая-то странная замкнутость, холодноватая отчужденность, она так не вязалась с присущей Хаусеру доброжелательностью и прямотой.
Свое хозяйство Отто вел сам. Когда-то он пытался нанимать приходящих уборщиц, но потом от них отказался. На его вкус, эти женщины были недостаточно аккуратны и чистоплотны, да еще вечно все переставят, передвинут как попало, а он — великий аккуратист, у него каждая мелочь на своем месте. Беспорядка он не выносил. Книг у него дома было немного, каких-нибудь две полки — главным образом последние издания фирмы Родни, да кое-что ему присылали другие издатели. Обычно, едва дочитав эти книги, он их раздавал, ибо не выносил беспорядка, а от книг всегда беспорядок и теснота. Подчас он с недоумением спрашивал себя — а может, он и книги не выносит? Во всяком случае, пускай в доме их будет поменьше, уже один их вид его раздражает…
Для Джорджа Хаусер оказался любопытнейшей загадкой. Человек на редкость одаренный, од, однако, едва ли не начисто лишен был тех качеств, которые нужны, чтобы «преуспеть» в нашем мире. В сущности, он вовсе и не хотел «преуспевать». Он чурался всякой возможности продвинуться хоть на шаг дальше того, чего уже достиг. Он хотел быть рецензентом и только, не более. В издательстве «Джеймс Родни и Кo » он делал то, что ему поручили. Самым добросовестным образом выполнял свои обязанности. Когда спрашивали, что он думает о рукописи, он честно и непредвзято, с неизменным спокойствием высказывал свое мнение, судил безошибочно ясно, с чисто немецкой обстоятельностью. И дальше этого идти не желал.
Когда какой-нибудь редактор (в издательстве Родни их было несколько, не считая Лисхола Эдвардса) спрашивал у Хаусера его мнение, обычно происходил примерно такой разговор:
— Вы читали эту рукопись?
— Да, читал, — говорил Отто Хаусер.
— И что вы о ней думаете?
— По-моему, в ней нет ничего хорошего.
— Значит, вы не советуете ее печатать?
— Да, по-моему, она того не стоит.
Или:
— Прочли вы эту рукопись?
— Да, прочел, — отвечает Хаусер.
— Ну и как она, по-вашему? (Черт его дери, не может сам сказать, что думает, вечно надо из него каждое слово клещами тянуть!)
— По-моему, это гениально.
— Вы думаете?! — недоверчиво восклицает редактор.
— Да, я так думаю, на мой взгляд — это бесспорно.
— Но послушайте, Хаусер… — Редактор взволнован. — Если вы не ошибаетесь, так этот малый… этот автор… он же совсем еще мальчишка, никто про него и не слыхал… он родом откуда-то с запада… из Небраски, что ли, или из Айовы… похоже, до сих пор так и сидел там, в глуши… если вы не ошибаетесь, значит, это мы его открыли!
— Да, наверно, вы открыли. Его книга гениальна.
— Но… (Черт подери, ну что за человек! Сделал такое открытие… сообщает такую поразительную новость… и хоть бы загорелся, обрадовался! А ему все равно, будто речь идет про кочан капусты!) Но… в чем же дело? Вы… по-вашему, в его рукописи есть какой-то изъян?
— Нет, по-моему, в ней нет никаких изъянов. По-моему, это великолепно написано.
— Но… (О, господи, этот Хаусер и правда псих ненормальный!) Но что же… вы хотите сказать… наверно, в таком виде, как сейчас, она для печати непригодна?
— Нет, на мой взгляд, она в высшей степени подходит для печатания.
— Но она чересчур многословна, так?
— Многословна — да, это верно.
— Так я и думал, — глубокомысленно заявляет редактор. — Новичок, опыта никакого, это же сразу видно. Он и сам не понимает, как пишет, без конца повторяется, все у него выходит ребячливо, несдержанно, все через край, никакого чувства меры. У нас есть десятки авторов, которые смыслят в писательстве куда больше.
— Да, наверно, — соглашается Хаусер. — И, однако, он гений, а они — нет. То, что он написал, гениально, а то, что пишут они, — нет.
— Значит, вы полагаете, нам следует его напечатать?
— Полагаю, что так.
— Но… (А может быть, вот в чем загвоздка… вот он о чем умалчивает!) Но больше ему сказать нечего? Думаете, он уже исписался? Все, что было за душой, выложил в одной книге? На вторую его уже не хватит?
— Ничего такого я не думаю. Ручаться, впрочем, не могу. Его могут и убить, это бывает…
(Вечно он каркает, ворона!)
— …Но, судя по этой книге, я бы сказал, можно не бояться, что он выдохнется. Его хватит еще на полсотни книг.
— Но… (О, господи! Где же тут подвох?) Но тогда, вы считаете, для такой книги у нас, в Америке, еще не пришло время?
— Нет, я так не считаю. По-моему, для нее самое время.
— Почему?
— Потому что она написана. Если книга написана, значит, для нее настало время.
— А некоторые наши лучшие критики говорят, еще не время.
— Знаю, что они говорят. Они ошибаются. Вот для них еще не время, только и всего.
— То есть как?
— Очень просто, они ведут счет по времени критики. А книга создается по времени художника. Разное время, разный отсчет.
— По-вашему, критики отстают от времени?
— Да. Отстают от художника.
— Тогда они, пожалуй, не согласятся с вами, что это гениальная книга. Как вы думаете?
— Не знаю. Может быть, и не согласятся. Но это не имеет значения.
— То есть как это — не имеет значения?!
— Да так. Книга хороша, и уничтожить ее нельзя. Стало быть, не важно, что о ней скажут.
— Значит… черт возьми, Хаусер! Если вы не ошиблись, значит, мы совершили замечательное открытие!
— Да, это так. Вы его совершили.
— Но… но… неужели вам больше нечего сказать?!
— Да, нечего. А что тут еще говорить?
Редактор ошеломлен.
— Ничего… только мне казалось, вы-то должны бы радоваться! — И, вконец обескураженный, сдается: — А, ладно! Ладно, Хаусер! Большое вам спасибо!
В издательстве этого не понимали. Просто не могли понять. И наконец отступились — все, кроме Лиса Эдвардса, Лис никогда не отступал, если хотел что-либо понять. Лис по-прежнему, проходя мимо, заглядывал в кабинет Хаусера — крохотную тесную каморку. Сдвинет старую серую шляпу на затылок (Лис всегда работал в шляпе), наклонится, вытянет шею и с тревожным недоумением в светлых зеленоватых глазах уставится на Хаусера, будто перед ним неведомое сказочное чудище со дна морского. Потом повернется и, ухватясь обеими руками за лацканы пиджака, шагает своей дорогой, и во взгляде у него безмерное изумление.
Лис никак не мог понять, в чем тут секрет. Да и сам Хаусер ничего не мог бы ответить и объяснить.
Лишь когда Джордж Уэббер познакомился с обоими поближе, он стал постигать эту загадку. Лисхол Эдвардс и Отто Хаусер… Только узнав их обоих, только видя, как работают они в одном и том же издательстве, можно было их обоих понять, — даже лучше, наверно, чем каждый из них понимал самого себя. Джорджу казалось, в каждом из них уже потому, что он таков, как есть, открываются тайные истоки души, то, в чем оба они так удивительно схожи — и такие невообразимо разные.
Должно быть, когда-то давно и в Отто Хаусере, в самой глубине его невозмутимого духа, горело ровное и жаркое пламя. Но тогда он еще не знал, что значит быть выдающимся редактором. Теперь он видел это своими глазами — и решил, что это не для него. Уже десять лет смотрел он, как работает Лис Эдвардс, и прекрасно знал, что для этого нужно: живое негаснущее пламя среди мрака, спокойное, неустанное и непрестанное напряжение, упрямая воля — довести до конца то, ради чего горит это пламя и что сознает дух; и какая это невысказанная мука, бьешься изо всех сил, чтобы достичь цели, как-то одолеть всеобщее противодействие, слепое и тупое воинствующее невежество, враждебность, предрассудки, нетерпимость… а против тебя все дураки, какие только есть на свете: и выжившие из ума дряхлые старцы, и жеманные, сюсюкающие дамочки, и ханжи, лицемеры, филистеры, и злобные тупые завистники, и — что хуже всего — просто-напросто обыкновеннейшие дураки, непроходимо, безнадежно безмозглые и тупые по самой природе своей!
О, так сгорать, так безоглядно тратить себя, испепелять в огне этой неугасимой страсти! И чего ради? Ради чего? А главное, зачем? Чтобы никому не известный юнец откуда-нибудь из Теннесси, какой-нибудь сын захудалого фермера из Джорджии или отпрыск лекаря из захолустий Северной Дакоты, по меркам дураков существо без роду без племени, без титулов и званий (а стало быть, бесправное и недостойное), отмеченный печатью гения, мучительно бился, силясь излить высокую страсть одинокого духа, одолеть немоту, хоть отчасти высказать то, что замкнуто в его душе и в бессловесных душах его братьев, и в слепой необъятности нашей суровой земли найти путь рвущемуся на волю роднику творчества, и, может быть, в бескрайней пустыне жизни оставить хоть какой-то след, воздвигнуть хоть какой-то приют… и рее это — перед лицом всесветного дурацкого ханжества, дурацкого невежества, дурацкой трусости, дурацких заскоков, дурацкого зубоскальства, дурацкой манерности и дурацкой ненависти ко всякому, кто не развращен и не забит… и дураки либо погасят эту жаркую, пылающую страсть насмешками, презрением, непониманием, либо развратят эту могучую волю, осквернят ее дурацким успехом — признанием дураков. И ради этого должны гореть и терзаться такие, как Лис, — чтобы поддерживать нестерпимый огонь, сжигающий душу какого-нибудь вдохновенного мученика-мальчишки, покуда мир дураков не возьмет этот пламень на свое попечение и не предаст его!
Отто Хаусер на все это насмотрелся.
И, наконец, в чем награда такого Лиса? Опять и опять в одиночку, наперекор безнадежности, одерживать победу за победой — и видеть, как те самые дураки, которые не желали победу признавать, ее присваивают, и вновь погружаться в поиски, и молчать, и ждать, а дураки тем временем жадно прикарманивают золото, отчеканенное чужим одиноким духом, чванятся, как собственным открытием, плодом чужих долгих и трудных поисков, похваляются своей прозорливостью, приписав себе свершение чужих пророчеств. Нет, в конце концов сердце не выдержит, разорвется — и сердце Лиса, и сердце гения, одинокого юноши: маленькое, хрупкое сердце человеческое неминуемо ослабеет, перестанет биться; но сердце глупости будет биться вечно.
Нет, Отто Хаусер твердо решил, это не для него. Он не станет горячиться ни по какому поводу. Он старается видеть истину — и этого довольно.
Таков был Отто Хаусер, когда Джордж с ним познакомился. В зеркале дружеской откровенности душа его отражалась вся как есть, без прикрас, в такой спокойной прямоте и цельности, что оставалось только диву даваться; но в том же зеркале, хотя сам Отто не всегда это замечал, раскрывался еще один куда более сильный и яркий облик — облик Лиса Эдвардса.
Джордж понимал, как ему посчастливилось, что его редактором оказался Лис. Он уважал этого человека, восхищался им, а потом и полюбил — и понял, что Лис стал для него не только редактором и другом. Понемногу Джорджу стало казаться, что в Лисе он вновь обрел давно потерянного отца, которого ему всегда так не хватало. И Лис в самом деле стал для него вторым отцом — отцом духовным.
Произведения
Критика