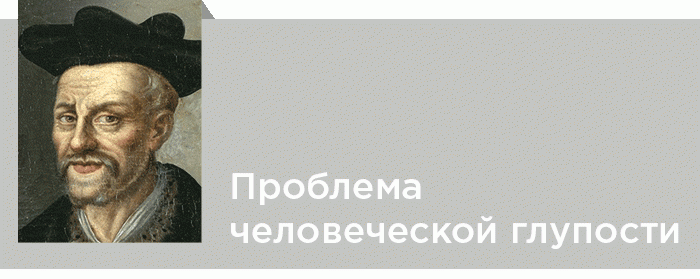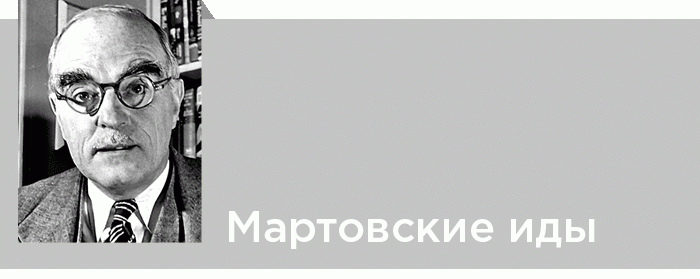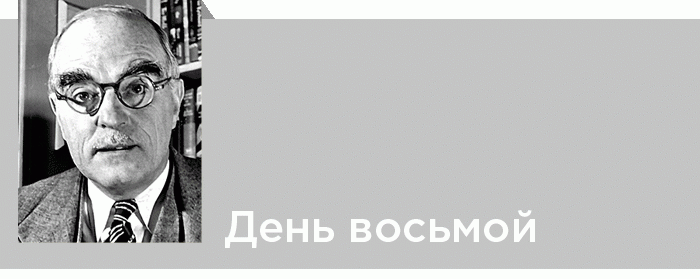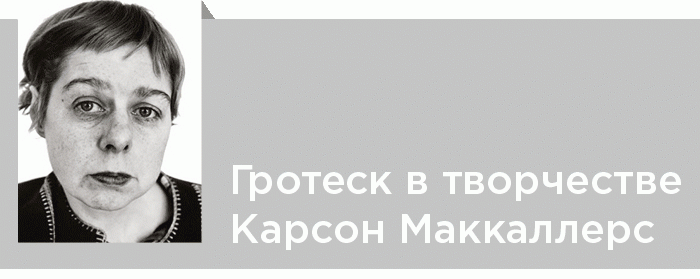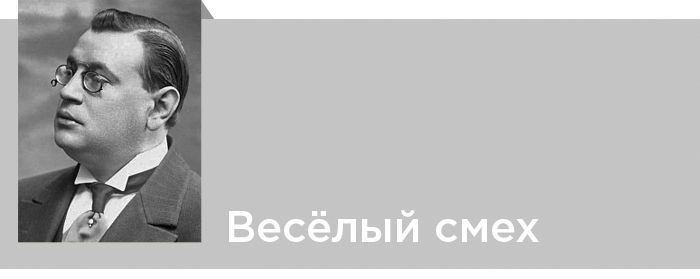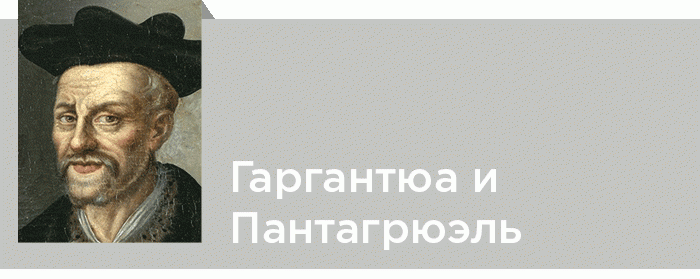Карсон Маккаллерс. Баллада о горестном кабачке
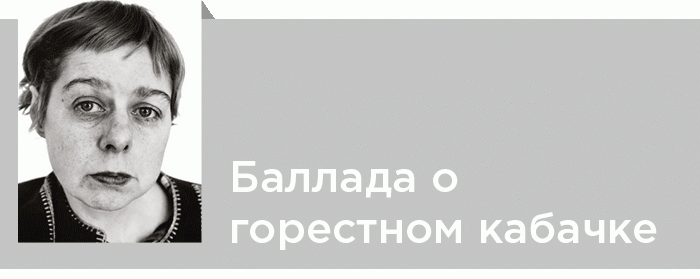
(Отрывок)
Сам городок безотраден; здесь мало что есть, кроме хлопкопрядильной фабрики, двухкомнатных хибарок, где живут рабочие, нескольких персиковых деревьев, церквушки с парой разноцветных окон, да жалкой главной улицы лишь в несколько сот ярдов длиной. По субботам сюда съезжаются обитатели окрестных ферм - потолковать да поторговаться. А в иные дни городок уныл и заброшен, точно его отрезали от остального мира. Ближайшая станция по железной дороге - Сосайэти-Сити, а автобусы "Грейхаунда" и "Белой Линии" ходят по шоссе на Форкс-Фоллз в трех милях отсюда. Зимы здесь коротки и суровы, а летом все нестерпимо сверкает и раскалено добела.
Если августовским полднем пройти по главной улице, заняться будет совершенно нечем. Самое большое здание в центре все заколочено досками и так скособочилось вправо, что того и гляди рухнет. Дом этот очень старый. При взгляде на него чувствуется какой-то странный надлом. Сперва дом озадачивает, но, приглядевшись, понимаешь - когда-то давным-давно правая сторона веранды и стена вместе с нею были выкрашены, но потом покраску бросили, и теперь одна половина дома выглядит темнее и мрачнее другой. Похоже, здесь никто не живет. Одно окно на втором этаже, однако, не заколочено; время от времени на исходе дня, когда припекает немилосерднее некуда, ставни медленно приотворяет чья-то рука, и сверху на город смотрит лицо. Похожее на кошмарные смутные лица сновидений, бесполое и белое, со скошенными к переносице серыми глазами - они устремлены куда-то внутрь под таким углом, будто обмениваются друг с другом одним долгим и тайным горестным взглядом. Лицо маячит в окне примерно с час, затем ставни закрываются вновь, и на главной улице скорее всего больше не увидишь ни единой души. Такие вот августовские дни - смена окончена, делать больше нечего, хоть ходи по шоссе на Форкс-Фоллз и слушай, как звенят кандалами каторжане.
В этом самом городишке, однако, имелся некогда кабачок, и равного старому заколоченному дому не было на много миль окрест. Стояли в нем столики под скатертями, на столиках - бумажные салфетки, на электрических вентиляторах трепыхались пестрые ленты серпантина, и вечерами по субботам набивались в него толпы народу. Владела им мисс Амелия Эванс. Удачу же и веселье приносил этому месту один горбун по имени Братишка Лаймон. И еще один человек сыграл свою роль в истории заведения - бывший супруг мисс Амелии, жуткий тип: он вернулся в городок, отсидев долгий срок в исправительном доме, навел на все порчу и снова отправился своей дорогой. Кабачок с тех пор давно закрылся, но вспоминают его и поныне.
Не всегда здесь кабачок был. Здание досталось в наследство мисс Амелии от отца, и торговали в нем главным образом фуражом, навозом и прочим товаром, вроде провианта и нюхательного табака. Мисс Амелия была богата. Помимо лавки правила винокурней на болотах в трех милях от городка и гнала лучшую выпивку в округе. Женщиной была смуглой, статной, кости и мускулы что у мужчины. Волосы носила коротко и зачесывала со лба, и чувствовался в ее загорелом лице какой-то изможденный напряг. И привлекательной считалась бы, если б тогда уже не косила чуть-чуть глазами. Поклонники имелись, да только мисс Амелии любовь мужская была без надобности, и держалась она особняком. Ничего похожего на ее брак не заключали никогда в их местах странный и опасный то был союз, и продлился всего десять дней, а городок долго потом ломал головы и оправлялся от потрясения. Если ж не считать этого чудного замужества, мисс Амелия проводила свою жизнь в одиночестве. Часто ночи напролет в робе и резиновых сапогах просиживала в своей сараюшке на болоте, где безмолвно поддерживала низкое пламя винокурни.
Чего бы ни могли сделать руки человеческие - все мисс Амелии удавалось. Требуху и колбасы продавала в соседнем городке. Ясными днями осени молола сорго, а сироп из ее чанов был темно-золотым и изысканно ароматным. За лавкой всего за две недели выстроила из кирпичей уборную, да и плотничала умело. Только с людьми мисс Амелии бывало не по себе. Человека ж не возьмешь в руки, если он совсем не доходяга или не припекло его по-настоящему, и не сделаешь из него за ночь что-нибудь достойное и выгодное. А потому польза от людей мисс Амелии была одна - деньжата из них выдаивать. Вот в этом-то она и преуспевала. Закладные на урожай и недвижимость, лесопилка, счет в банке самая зажиточная женщина в округе. Разбогатела бы, как конгрессмен, если б не одна ее слабость - любила мисс Амелия тяжбы да суды. Из-за малейшего пустяка затевала долгую и злую волокиту. Поговаривали, что стоит ей о камешек на дороге споткнуться, как тут же озираться начинает - на кого бы в суд подать. Кабы не тяжбы эти, жизнь ее текла бы размеренно, и каждый следующий день ничем не отличался бы от предыдущего. Если ж не вспоминать десятидневную семейную жизнь, то никаких перемен и не происходило - то есть, до той весны, когда мисс Амелии тридцать лет исполнилось.
Дело шло к полуночи - апрельский вечер стоял мягкий, спокойный. Небо как синий болотный ирис, луна - яркая и ясная. Виды на урожай в ту весну были хорошие, и последние недели фабрика работала в ночную смену. Приземистое кирпичное здание у речки все желтело огнями, в воздухе разносился слабый низкий гул ткацких станков. В такую ночь хорошо слушать издалека, из-за темных полей медленную песню негра, что идет на свиданье к любимой. Или же сидеть тихонько, струны гитарные перебирать, или просто отдыхать одному и ни о чем не думать. Улица в тот вечер была пустынна, но лавка мисс Амелии ярко светилась, а на веранде сидело пять человек. Одним был Кочерыжка Макфэйл, краснолицый десятник с тонкими руками багрового оттенка. На верхней ступеньке устроились два паренька в робах - близнецы Рэйни, долговязые, туповатые, у обоих волосы выгорели добела, а глаза сонные и зеленые. Последним был Генри Мэйси, личность робкая и забитая, манерами вежливый, а характера - дерганного. Он притулился на самом краю нижней ступеньки. Сама мисс Амелия стояла в дверях, прислонившись к косяку и скрестив ноги в болотных бахилах, и терпеливо развязывала узлы на попавшейся в руки веревке. Между собой они не разговаривали уже довольно долго.
Один из близнецов, глядевший на пустую дорогу, заговорил первым:
- Глянь, идет чего-то.
- То теленок отбился, - сказал его братец.
Приближавшуюся фигуру никак еще было не рассмотреть. От луны сквозь цветущие персики по краю дороги ложились тусклые корявые тени, а в воздухе цветочный аромат смешивался со сладостью свежей весенней травы и теплым кислым запахом близкой заводи.
- Не-а. Это чей-то шпаненок, - сказал Кочерыжка Макфэйл.
Без единого слова мисс Амелия вгляделась в дорогу. Веревку она отложила и смуглыми костлявыми пальцами теперь перебирала завязки робы. Она нахмурилась, на лоб ссыпалась темная челка. Все поджидали пришельца, а какая-то соседская собака вдруг взвыла дико и хрипло, и выла так, пока хозяин не прикрикнул. И только когда фигура вступила в круг желтого света с веранды, разглядели они, кто пришел.
Человек был чужим, а в городок пешком в такой час чужие приходят редко. Кроме того, человек был горбат. Росту в нем было не больше четырех футов, в потрепанном пыльном пальто, что доходило лишь до колен. Скрюченные ножки его казались слишком худенькими под тяжестью широкого кривого туловища и горба, громоздившегося на плечах. У него была очень большая голова с глубоко посаженными синими глазами и резким маленьким ртом. А лицо - одновременно мягкое и дерзкое; бледную кожу выжелтило пылью, а под глазами лежали бледно-лиловые тени. В руках он нес старый кособокий чемодан, перевязанный веревкой.
- Вечер, - произнес горбун и остановился перевести дух.
Ни мисс Амелия, ни мужчины на веранде не ответили ему. Вообще ничего не сказали. Только смотрели на него во все глаза.
- Я разыскиваю мисс Амелию Эванс.
Мисс Амелия откинула со лба челку и выпятила подбородок:
- Это зачем еще?
- Затем, что я ей родня, - ответил горбун.
Близнецы и Кочерыжка Макфэйл перевели взгляды на мисс Амелию.
- Я - она самая, - сказала она. - Что значит - "родня"?
- А то и значит, что... - начал горбун. Ему явно было не по себе вот-вот заплачет. Он водрузил чемодан на нижнюю ступеньку, но руку от ручки отнимать не стал. - Мать моя - Фэнни Джесап, и родом она из Чихо. А из Чихо она уехала лет тридцать назад, когда за первого мужа своего вышла. И я помню, рассказывала она, что была у нее сводная сестрица по имени Марта. А в Чихо мне сегодня сказали, что это ваша матушка и есть.
Мисс Амелия слушала его, чуть склонив голову набок. Обедала она по воскресеньям одна; сородичи у нее в доме никогда не толпились, и сама она в родственники ни к кому не набивалась. У нее в самом деле была когда-то двоюродная бабка в Чихо, извоз держала, но та бабка давным-давно богу душу отдала. Из прочей родни имелся лишь четвероюродный брат - он жил в двадцати милях в другом городишке, но с братом этим мисс Амелия не очень ладила: случись им повстречаться, плюнули бы друг другу под ноги. Другие люди время от времени очень старались дотянуть до мисс Амелии какие-то далекие родственные ниточки, но совершенно без всякого успеха.
Тут горбатый понес какую-то долгую околесицу - перечислял имена и места, слушателям на веранде неведомые и к делу отношения, видимо, не имеющие.
- Стало быть, Фэнни и Марта Джесап - сводные сестрицы, а я - сын Фэнни от третьего мужа. Поэтому мы с вами... - Он нагнулся и принялся развязывать чемодан. Руки у него походили на грязные коготки ласточки, и к тому же дрожали. Чемодан был доверху набит всяким барахлом: тряпьем, старым хламом, похожим на детали швейной машинки или на что-то вроде, столь же бесполезное. Порывшись в пожитках, горбун извлек старый снимок. - Вот и портрет - как раз мамочка моя со сводной сестрицей.
Мисс Амелия не говорила ничего. Челюсть ее медленно двигалась из стороны в сторону, и по лицу можно было сказать, о чем она думает. Кочерыжка Макфэйл взял у горбуна снимок и повернул к свету. На фотографии сидели двое бледных иссохших детишек, годиков двух-трех. От лиц у них остались лишь крохотные белые пятна. Снимок мог выпасть из чьего угодно альбома.
Кочерыжка Макфэйл протянул его обратно и ничего не сказал, а только спросил:
- Ты откуда идешь-то?
Голос горбуна прозвучал неуверенно:
- Я путешествовал.
Мисс Амелия по-прежнему молчала. Лишь стояла, опершись на косяк, и рассматривала сверху горбуна. Генри Мэйси нервно смаргивал и потирал руки, а потом соскользнул с нижней ступеньки и растворился во тьме. Добрая он душа, и положение, в котором оказался горбун, тронуло его сердце. Вот и не захотелось сидеть и ждать, когда мисс Амелия выставит пришельца со своего участка взашей и вообще погонит вон из города. Горбун стоял со своим открытым чемоданом на нижней ступеньке - он шмыгал носом и губы у него тряслись. Понял уже, наверное, в какую мрачную передрягу попал, - как тоскливо оказаться в таком городишке чужаком, с чемоданом всякой рухляди, да еще и набиваться в родню к мисс Амелии. Как бы там ни было, горбун уселся на ступеньки и вдруг расплакался.
Нечасто увидишь, как в полночь к лавке подходит горбун, садится и начинает ни с того ни с сего плакать. Мисс Амелия смахнула со лба волосы, а мужчины от неловкости переглянулись. Во всем городке стояла полная тишь.
Наконец, один из близнецов вымолвил:
- Черт бы меня побрал - ну вылитый Моррис Файнстин.
Все закивали и согласились, ибо у этого выражения имеется особое значение. Горбун же зарыдал еще пуще, поскольку не знал, о чем они толкуют. А Моррис Файнстин, между тем, жил в этом городке много лет назад. Просто-напросто проворный, шустрый еврейчик, он плакал, когда его в лицо называли христоубивцем, и каждый день ел белый хлеб с консервированной лососиной. Но на него свалились всякие напасти, и он переехал в Сосайэти-Сити. С тех пор, если человек жеманился хоть как-нибудь, или же мужчина начинал нюни распускать, про такого говорили, что он вылитый Моррис Файнстин.
- Гляди, как убивается, - произнес Кочерыжка Макфэйл. - По делу, должно быть.
Мисс Амелия двумя медленными нескладными шагами пересекла веранду, спустилась по ступенькам и остановилась, задумчиво разглядывая незнакомца. Робко, одним длинным бурым пальцем дотронулась она до горба у него на спине. Горбун еще всхлипывал, но уже потише. Ночь была тиха, а луна по-прежнему сияла своим мягким ясным светом. Холодало. И тут мисс Амелия сделала редкую вещь: достала из бокового кармана робы бутылку и, обмахнув горлышко ладонью, протянула горбуну. Ее и в кредит-то выпивку продать стоило долгих уговоров, а чтобы хоть каплю нацедила за так - и вообще дело неслыханное.
- Пей, - сказала она. - Хоть глотка отживеет.
Горбун перестал плакать, тщательно облизал с губ слезы и сделал как велено. Когда он выпил, мисс Амелия сама медленно приложилась, согрела жидкость во рту и покатала ее по нJбу, а потом выплюнула. И сделала новый глоток. У близнецов и десятника была своя бутылка, за которую они заплатили.
- Гладко пошла, - сказал Кочерыжка Макфэйл. - Мисс Амелия, у вас всегда все ладно выходит.
Виски, который они пили в тот вечер (два здоровенных пузыря) - штука важная. Без него трудно было бы представить, что все так выйдет. Без него, может, и кабачка бы никакого не было. Ибо выпивка мисс Амелии обладала особым свойством - чистая, язык обжигает, но оказавшись у человека внутри, долго потом его греет своим заревом. Но и это еще не все. Известно, что если лимонным соком на чистом листе бумаги написать записку, то никакого следа не видно. Однако, если бумагу потом поднести к огню на миг, буквы побуреют и все станет ясно. Вообразите теперь, что виски - это огонь, а смысл послания - то, что ведомо лишь душе человека; вот тогда-то и можно понять всю цену выпивке мисс Амелии. ВсJ незамеченное, все мысли, таившиеся на задах темного разума, - всJ вдруг признается и понимается. Прядильщик, знавший лишь один свой станок, судок с обедом, постель и снова станок, - выпьет такой прядильщик чуть-чуть в воскресенье, да наткнется на лилию болотную. И возьмет цветочек в ладонь, подержит, всмотрится в золотую хрупкую чашечку и сладость вдруг сойдет на него, что режет пуще боли. А ткач вдруг глаза подымет да увидит впервые холодное, зловещее мерцание полночного январского неба, и глубокая жуть от собственной малости сердце ему остановит. Вот такое, значит, и бывает, когда человек виски мисс Амелии выпьет. И страдать он может, и от радости заходиться - да только истина ему уже явилась, душу свою согрел он и увидел смысл, там сокрытый.
Пили они заполночь, пока луну не затянуло облаками так, что ночь потемнела и похолодала. Горбун по-прежнему сидел на нижних ступеньках, жалко скрючившись и уткнувшись лбом в колено. Мисс Амелия стояла руки в карманах, одной ногой на второй ступеньке лестницы. Молчала она долго. На лице ее застыло то выражение, какое часто видишь у немного косоглазых - точно они глубоко задумались: выражение одновременно очень мудрое и совершенно безумное. Наконец она произнесла:
- Я не знаю, как тебя зовут.
- Лаймон Виллис, - ответил горбун.
- Ну, заходи, что ли, - сказала она. - В печке с ужина осталось, хоть поешь.
Лишь несколько раз в своей жизни приглашала мисс Амелия кого-то в дом, если не хотела людей как-то надуть или выманить из них денег. Потому мужчины на веранде и почувствовали - дело нечисто. А позже между собой судачили, что, должно быть, прикладывалась она к бутылке у себя на болотах добрую половину дня. Но как бы дело ни обстояло, мисс Амелия с веранды ушла, а Кочерыжка Макфэйл с близнецами тоже по домам разошлись. Она заперла переднюю дверь на засов и огляделась - на месте ли товар. А потом пошла на кухню, что располагалась за лавкой. Горбун плелся за нею, волоча чемодан, шмыгая носом и вытирая его рукавом грязного пальто.
- Садись, - велела мисс Амелия. - Сейчас только разогрею, чего тут осталось.
Хорошо поели они вместе в ту ночь. Мисс Амелия была богата и потому в еде себе не отказывала. Была у них жареная курица (целую грудку получил горбун себе на отдельную тарелку), мятая брюква, зелень всякая и горячая бледно-золотая сладкая картошка. Мисс Амелия ела медленно, с батрацким смаком. Обоими локтями упиралась в стол, склонившись над тарелкой, а колени расставляла широко и ногами цеплялась за перекладины стула. Что же до горбуна, то свой ужин он заглатывал не жуя, точно еды не нюхал несколько месяцев. За столом лишь одна слезинка скатилась по его испачканной щеке - но и та не больше, чем остаток слез, а потому ничего и не значила. Фитилек лампы на столе был аккуратно подрезан, по краям горел синим и всю кухню заливал бодрым светом. Доев, мисс Амелия тщательно вытерла тарелку куском белого хлеба, а потом полила ломоть своим прозрачным сладким сиропом. Горбун сделал точно так же - только он оказался разборчивее и попросил чистую тарелку. Покончив с едой, мисс Амелия откинулась на стуле, сжала правую руку в кулак и почувствовала, как под чистой синей тканью рубашки вздулись твердые гибкие мускулы. Такая была у нее бессознательная привычка после еды. Затем она сняла со стола лампу и мотнула головой к лестнице, приглашая горбуна за собой.
Над лавкой у мисс Амелии было три комнаты, в которых прожила она всю жизнь - две спальни, а между ними большая гостиная. Немногие бывали в тех комнатах, но все знали, что обставлены они хорошо, и там очень чисто. И вот теперь мисс Амелия вела с собой наверх маленького грязного горбатого незнакомца, свалившегося на нее бог знает откуда. Мисс Амелия поднималась по лестнице медленно, перешагивая через две ступени зараз, и лампу держала повыше. Горбун терся сзади так близко, что в шатком свете на стене от них обоих изгибалась одна тень. Вскоре помещения над лавкой погрузились во тьму, как и весь остальной городок.
Следующее утро выдалось безоблачным, рассвет занимался тепло-пурпурный, с примесью розового. На полях вокруг городка вспахали свежие борозды, и обитатели спозаранку уже высаживали в них молодые темно-зеленые кустики табака. По-над самыми полями пролетали дикие вороны, бросая на землю быстрые синеватые тени. В самом городишке люди со своими обеденными судками выходили на работу рано, и окна фабрики сверкали на солнце ослепительным золотом. Воздух был свеж, а персиковые деревья в цвету - легки, точно мартовские облака.
Мисс Амелия спустилась вниз рано, как обычно. Вымыла под колонкой голову и вскорости принялась за дела. Чуть позже оседлала мула и отправилась осматривать хозяйство - посадки хлопка у самого шоссе на Форкс-Фоллз. К полудню, конечно, все уже знали про горбуна, пришедшего среди ночи в лавку. Да только никто его еще не видел. Дневная жара скоро разошлась вовсю, и небо залило густой полуденной синевой. Странного гостя же по сию пору еще никто в глаза не видел. Некоторые припомнили, что у матери мисс Амелии действительно имелась сводная сестра, вот только мнения разделились: умерла ли она или сбежала со шнуровщиком табака. Что же до претензий горбуна на родство, то все считали, что шиты они белыми нитками. И городок, зная мисс Амелию, решил, что, накормив, она наверняка выставила его из дому. Но к вечеру, когда небо побелело, а смена закончилась, одна женщина начала утверждать, что видела в окне над лавкой какую-то кривую физиономию. Сама мисс Амелия не говорила на это ничего. Некоторое время постояла за прилавком, часок попрепиралась с фермером из-за рукояти от плуга, залатала проволочную сетку, лавку заперла ближе к закату и удалилась к себе. Городок остался в недоумении и пересудах.
На следующий день мисс Амелия лавку открывать не стала - сидела у себя взаперти и никого не принимала. В тот день слухи и поползли - слухи настолько ужасные, что и сам городишко, и вся округа содрогнулись. Пустил сплетню ткач по имени Мерли Райан - человечишко никчемный, землистый лицом, ноги приволакивал, а зубов во рту - раз-два и обчелся. Свалился он с трехдневной малярией, а это означает, что каждый третий день на него лихорадка нападает. Два дня, значит, ходит понурый и злой, а на третий оживает, и, случается, в голову ему приходит мыслишка-другая - по большинству дурацкие. И вот, стало быть, в лихоманке своей Мерли Райан поворачивается как-то и заявляет:
- А я знаю, чего мисс Амелия сделала - укокошила она того побродяжника: в чемонаде у него что-то было.
Сказал он это спокойно - точно голый факт выложил. И за какой-то час новость по всему городку разлетелась. Лютую, тошнотворную байку в тот день люди сочинили. Было в ней все, от чего по сердцу мороз: и горбун, и как могилу в полночь на болотах рыли, и как мисс Амелию по улицам в тюрьму волокут, и даже как имущество ее делить, - и шушукались люди, и обрастал слух новыми и жуткими подробностями. Пошел дождик - так хозяйки даже белье с веревок снять забыли. Парочка смертных, кто мисс Амелии задолжали, даже воскресные костюмы надели, точно праздник какой случился. Народ толпился на главной улице, судачил и не сводил глаз с лавки.
Неправдой было б утверждать, что в этом злом веселье участвовал весь городок. Осталось и несколько здравых людей, кто рассудил, что мисс Амелии, богачке, не с руки было б убивать какого-то бродягу из-за его хлама. В городке жило даже трое добрых людей, и такого преступления им вовсе не хотелось - несмотря на весь интерес и суматоху, которые из-за него подымутся; никакого удовольствия из мысли, что мисс Амелия окажется за решеткой, а потом - и на электрическом стуле в Атланте, они не извлекали. Эти добрые люди судили мисс Амелию вовсе не так, как остальные. Когда человек во всем иной, как она, и когда грехов у него накопилось столько, что все зараз и не упомнить, - такой человек и суда другого требует, это ж ясно. Припоминали они, что мисс Амелия родилась темненькой и личиком странной, что растил ее отец без матери, сам же был нелюдимом, а она в ранней юности вымахала ростом аж под шесть футов два дюйма, что для женщины само по себе неправильно. Да и привычки ее, и манеры уж больно чудные, чтобы о них тут рассуждать. Но охотнее всего припоминали ее загадочное замужество - самый бестолковый скандал, что за всю историю в этом городке случился.
И вот, значит, эти добрые люди даже как-то по-своему жалели мисс Амелию. Когда она выезжала по делам своим диким - например, в дом к кому ворваться и за долги швейную машинку оттуда вытащить - или доводила себя до белого каления из-за какой-нибудь неурядицы с законом, они испытывали к ней странную смесь раздражения, смешной маленькой щекотки в душе и - глубокой, неизъяснимой грусти. Но - хватит уже о добрых людях, поскольку в городе их жило всего трое; остальные же обитатели устроили себе из этого воображаемого преступления праздник на весь день.
Сама мисс Амелия, странно сказать, казалось, ничего этого не ведала. Большую часть дня провела у себя наверху. Когда же спускалась в лавку, мирно бродила по всей комнате, засунув руки поглубже в карманы робы и наклонив голову так низко, что подбородок утопал в воротнике рубашки. Ни единого пятнышка крови на ней. Часто она останавливалась и просто стояла, мрачно уставясь на щели в полу, покручивая выбившуюся прядку коротких волос и шепча что-то себе под нос. Но в основном - наверху сидела.
Настала тьма. Дождь в тот день остудил воздух, поэтому вечер был тускл и мрачен, прямо как зимой. Звезд на небе не было, зарядила меленькая льдистая морось. Лампы в домах, если смотреть на них с улицы, мигали фитильками угрюмо и скорбно. Поднялся ветер - но не с болот, а с холодных черных сосняков к северу.
Городские часы пробили восемь. И по-прежнему - ничего. Безрадостная ночь после гнетущих дневных пересудов на некоторых нагнала страху, и они остались дома жаться к своим очагам. Другие сбивались в кучки. Человек восемь-десять сгрудились на веранде лавки мисс Амелии. Они безмолвствовали просто ждали, на самом деле. Они и сами не знали, чего поджидают, но так уж случается: стоит времени напрячься, стоит неотвратимо подступить какому-то великому действу, мужчины собираются вместе и ждут вот так вот. И немного погодя начинают действовать - все разом, не по замыслу или воле кого-то одного, но как если бы все их инстинкты слились воедино, и решение бы принял не кто-то один, а все вместе. В такие времена никто поодиночке не колеблется. И уладится ли дело миром или же этот совместный порыв выльется в погром, насилие и злодеяние - зависит уже от судьбы. Вот мужчины и ждали трезвомысленно на веранде лавки, и ни один не сознавал, что они станут делать, но втайне все знали, что должны просто ждать и что час уже почти пробил.
И вот дверь в лавку отворилась. Внутри все было ярко и как обычно. Налево - прилавок, на котором хранились горбыли белого мяса, леденцов и табака. За ним - полки с солониной и провиантом. С правой же стороны лавки держали по большей части сельскохозяйственную утварь и тому подобное. В глубине, налево, имелась дверь на лестницу, и она была открыта. А в дальнем правом углу - еще одна дверь, в комнатку, которую мисс Амелия называла своей конторой. И она теперь тоже была открыта. И в восемь часов того вечера мисс Амелия сидела там за своей конторкой с авторучкой и считала что-то на листках бумаги.
В конторе горел веселый свет, и мисс Амелия, казалось, вовсе не замечала делегацию, столпившуюся у нее на веранде. Все вокруг нее - в полном порядке, как обычно. Контора эта была знаменита на всю округу до жути. Отсюда мисс Амелия вела все свои дела. На столе стояла под аккуратным чехлом пишущая машинка - мисс Амелия знала, как с нею управляться, но пользовалась только для очень важных документов. По ящикам разложены буквально тысячи бумаг, и все - в папках по алфавиту. Здесь же мисс Амелия принимала недужных, ибо лечить людей ей нравилось, и поставила на ноги она многих. Целых две полки были заставлены разными пузырьками, склянками и прочей трихомудрией. У стены - скамейка, на которую садились пациенты. Мисс Амелия могла так залатать прокаленной иголкой рану, что та потом не зеленела. Ожоги пользовала прохладным сладким сиропом. Если ж недуг был непонятен, то она поила людей разнообразными снадобьями, которые сама же и варила по неведомым рецептам. Желудки они выворачивали будь здоров, но детишкам давать их не стоило, поскольку шли от них гадкие судороги; деток она потчевала совсем другим питьем, помягче и послаще. Да, что уж там говорить - мисс Амелию считали недурным лекарем. Хоть руки у нее крупные и костлявые, но касание в них легкое, а выдумки с запасом хватало на сотни самых разных средств. И перед самым опасным и необычным лечением она не колебалась, и ни одна хвороба, сколь бы страшной ни казалась, не могла отвратить мисс Амелию от попытки ее вылечить. За одним лишь исключением. Если приходили к ней с жалобами по женской части, она ничего не могла сделать. От одного простого упоминания таких слов лицо ее медленно темнело стыдом, и застывала она на месте, неловко потираясь шеей о воротник рубахи или переминаясь в болотных бахилах с ноги на ногу - сущее дитя, большое, посрамленное, с отнявшимся языком. В других же делах люди ей доверяли. Никакой платы за лечение она не брала, и больных у нее всегда была уйма.
Много написала в тот вечер мисс Амелия своей авторучкой. Но даже так не могла не обратить внимания на кучку людей, что толпились у нее на темной веранде и наблюдали за ней. Время от времени поднимала голову и пристально на них смотрела. Но орать - не орала, не требовала у них ответа, мол, чего это они отираются на ее недвижимости, точно жалкие кумушки. Лицо ее оставалось гордым и неприступным - как всегда, когда она сидела за столом в своей конторе. Через некоторое время, тем не менее, гляделки эти, кажется, стали ей досаждать, она вытерла щеку красным платком, встала и закрыла дверь.
И для группы на веранде движение это послужило сигналом. Время пришло. Долго простояли они там, отвернувшись от промозглой и гнетущей ночи на улице. Долго они ждали, и вот инстинкт действовать снизошел на них. Все разом, как по указке единой воли, шагнули они в лавку. И в этот миг все восемь мужчин стали совершенно одинаковыми - в синих робах, почти у всех волосы белесые, все бледные, а в глазах - нездешняя решимость. Кто знает, что сделали бы они дальше. Но в тот же самый миг с верхушки лестницы донесся до них какой-то шум. Мужчины подняли головы - и онемели. То был горбун, которого они мысленно уже похоронили. И, к тому же, не походил он вовсе на то существо, что они себе нарисовали - не жалкий грязный болтунишка, обнищавший и одинокий в целом мире. Не похож он был вообще ни на кого - не сподобился никто из них в жизни увидеть ничего похожего. Будто смерть в комнате повисла.
Горбун спускался по лестнице гордо, точно все доски пола под ногами ему принадлежали. За последние дни он сильно изменился. Во-первых - чист был так, что словами не опишешь. Пальтецо по-прежнему висело на нем, но его вычистили щеткой и хорошенько заштопали. Под ним - свежая рубаха в черно-красную клетку, что принадлежала мисс Амелии. Брюк на нем не было - то есть, таких, что обычным мужчинам предназначены, - зато его обтягивали узкие бриджи по колено. На худеньких ножках - черные чулки, а башмаки - какие-то особые, странной формы, с завязками на щиколотках, чистые и надраенные воском. Вокруг шеи - так, что закрывало даже большие бледные уши, - был обмотан желтовато-зеленый платок, бахрома которого едва не доставала до полу.
Горбун прошел по всей лавке своей неловкой жесткой походочкой и остановился в центре проникшей внутрь группы. Те расступились и вытаращились на него, безвольно уронив руки. Горбун же повел себя весьма причудливо. Каждому он пристально посмотрел глаза с высоты своего роста - а приходился он обычным мужчинам примерно по пояс. Потом, с нарочитой проницательностью осмотрел у каждого нижние части - от ремней до подметок. Удовлетворив таким образом свое любопытство, он на мгновение закрыл глаза и покачал головой, словно тому, что он увидел, красная цена была - грош. Затем уверенно, просто чтобы лишний раз удостовериться, задрал голову и обвел весь нимб лиц вокруг одним долгим взглядом. Слева в лавке стоял полупустой мешок гуано, и когда горбун таким вот макаром освоился, то уселся прямо на него. Устроившись поудобнее и скрестив ноги, он вытащил из кармана пальто некий предмет.
А у мужчин в лавке прийти в себя получилось не сразу. Первым рот открыл Мерли Райан - тот, с трехдневной лихорадкой, кто первым и пустил в тот день слух. Он присмотрелся к предмету, который вертел в руках горбун, и полузадушенно поинтересовался:
- А чего это у тебя там такое?
Все мужчины прекрасно знали, что у горбуна в руках. Ибо то была табакерка, и принадлежала она отцу мисс Амелии. Из голубой эмали, с тонким узором из золотой проволоки на крышке. Люди в лавке знали это и диву давались. Они украдкой поглядывали на дверь в контору и слышали, как за нею мисс Амелия тихонько что-то насвистывает.
- Да, чего это у тебя, Шибздик?
Горбун быстро поднял голову и навострил рот, прежде чем ответить:
- А, так это у меня капкан такой - любопытных за нос ловить.
Он сунул в табакерку корявые пальчики и положил что-то в рот - но окружающим попробовать не предложил. Не щепоть табаку вовсе взял он оттуда, а смесь какао с сахаром. Но вытащил ее точно настоящий табак, запихал комочек под нижнюю губу и принялся лизать его, мельтеша во рту язычком, отчего по лицу его часто забегала гримаса.
- У меня сами зубы во рту на вкус скисают, - как бы объяснил он. Потому и жую. Как сладкий табак.
Мужчины все еще толпились вокруг, сами себе неотесанные и ошеломленные. Ощущение это так никогда и не выветрилось, но его вскоре умерило другое чувство - будто все в лавке стали друг другу ближе, и между ними повисла смутная веселость. А звали мужчин, собравшихся в тот вечер, так: Торопыга Мэлоун, Роберт Калверт Хэйл, Мерли Райан, преподобный Т. М. Уиллин, Россер Клайн, Рип Уэллборн, Генри Форд Кримп и Хорэс Уэллс. За исключением преподобного Уиллина, все они во многом были схожи между собой, как уже говорилось, - в том или другом находили удовольствие, по-своему плакали и страдали, большинство - покладисты, если их не злить. Все работали на фабрике и жили вместе с остальными в двух-трехкомнатных домишках, плата за которые была десять-двенадцать долларов в месяц. Всем в тот день выдали жалованье, поскольку была суббота. Поэтому и считайте их пока одним целым.
Горбун, тем не менее, уже сортировал их в уме. Усевшись поудобнее, он начал с каждым болтать, выясняя, женат ли человек, сколько ему лет, какой у него, в среднем, недельный заработок и тому подобное - и постепенно добрался до совсем уж интимных подробностей. Вскоре группа пополнилась и другими жителями - Генри Мэйси, бездельниками, почуявшими, что происходит что-то необычное, - жены заходили за своими припозднившимися мужьями и оставались, даже один беспризорный светловолосый мальчишка зашел на цыпочках, спер коробку галет со зверюшками и так же потихоньку вышел. И вот помещение мисс Амелии вскоре наполнилось народом, а сама она дверей конторы еще не открыла.
Бывает такая разновидность людей - в них есть то, что отличает их от прочих, обыкновенных. У такого человека есть инстинкт, который, как правило, виден только в маленьких детях, - они умеют немедленно вступать в живую связь со всеми вещами на свете. Горбун, конечно, и был именно таким. Он просидел в лавке лишь полчаса, но между ним и каждым пришедшим сразу же возникла такая связь. Будто прожил он в городке много лет и стал личностью известной - сидел вот так же на мешке с гуано бессчетными вечерами. А от этого, помимо того, что стоял субботний вечер, в лавке и веяло таким духом свободы и недозволенной радости. Ну и напряг в воздухе витал, конечно, тоже - отчасти от общей странности происходящего, отчасти - от того, что мисс Амелия до сих пор сидела у себя в конторе и на люди не показывалась.
Вышла она в тот вечер лишь в десять часов. И те, кто ожидал какого-то драматического выхода, были разочарованы. Она просто открыла дверь и вышла своей медленной неуклюжей походкой, чуть враскачку. На крыле носа у нее размазалось немного чернил, а красный платок она повязала на шею. Казалось, ничего необычного она не замечает. Серыми косоватыми глазами глянула в тот угол, где сидел горбун, и на миг задержалась на нем взглядом. К остальной же толпе отнеслась с мирным удивлением.
- Кого-нибудь обслужить? - спокойно спросила она.
Покупатели нашлись - суббота все-таки, - и всем понадобилась выпивка. А лишь три дня назад мисс Амелия выкопала из земли один выдержанный бочонок и разлила его у винокурни по бутылкам. В тот вечер она приняла у покупателей деньги и пересчитала их под яркой лампой. Так обычно все и бывало. Необычным было дальнейшее. До сих пор всегда нужно было идти вокруг дома на темный задний двор, где мисс Амелия выдавала бутылки из кухонной двери. Никакой радости в такой покупке не ощущалось. Получив свою выпивку, покупатель исчезал в ночи. Или же, если дома не разрешала жена, можно было снова обойти дом и высосать пузырь на веранде или прямо на улице. Веранда и улица перед нею, конечно, тоже были собственностью мисс Амелии, уж будьте уверены - да только собственностью своей она их не считала: собственность начиналась для нее за дверью и включала в себя весь дом изнутри. А там не разрешалось открывать бутылки или выпивать никому, кроме нее самой. И вот, впервые в жизни, она это правило нарушила. Мисс Амелия сходила на кухню - горбун следовал за нею по пятам - и вынесла бутылки прямо в теплую, яркую лавку. Больше того - стаканы тоже вынесла и открыла две коробки крекеров, выложила их гостеприимно на блюдо и поставила на прилавок, чтобы все, кто пожелает, могли угоститься одним бесплатно.
Не разговаривала она ни с кем, кроме горбуна, да и у того спросила только, резковато и хрипло:
- Братишка Лаймон, ты так выпьешь, или тебе разогреть с водой на печке?
- Если угодно, Амелия, - ответил горбун. (А с каких это пор отваживался хоть кто-нибудь назвать мисс Амелию просто по имени, не прибавив почтительного обращения? Жених ее и муж десятидневный уж точно не смел. Фактически, с самой смерти отца, почему-то всегда звавшего ее Малюткой, никто не решался обращаться к ней столь фамильярно.) - Если угодно, я бы выпил разогретого.
Вот так и начался этот кабачок. Так вот просто и прямо. А вспомните ночь стояла мрачная, как зимой, и сидеть снаружи было б поистине жалким удовольствием. Внутри же собралась хорошая компания и поселилось сердечное тепло. Кто-то раскочегарил печку в глубине лавки, и купившие себе выпить стали наливать друзьям. Было там и несколько женщин - они брали лакричные жгутики, газировку, да и виски глоточками отпивали. Горбун всем был еще внове, и присутствие его всех развлекало. Из конторы вынесли скамейку и еще несколько стульев. Прочие опирались на прилавок или устраивались на бочонках и мешках кто как мог. Когда бутылки в доме открыли, никто не стал по этому поводу барагозить, неприлично хихикать или вообще себя как-то неправильно вести. Наоборот - общество было вежливо чуть ли не до робости, ибо обитатели городка не привыкли еще в то время собираться вместе удовольствия ради. Они встречались и шли работать на фабрику. Или же по воскресеньям выезжали на весь день и становились лагерем - и хотя делали это в радость, смыслом подобного предприятия скорее было явить публике картины Преисподней и вселить ей в сердца глубокий страх перед Господом Богом. Дух кабачка же дело совершенно другое. Самая богатая, самая жадная сволочь будет пристойно себя вести в настоящем кабачке и оскорблять никого не станет. А бедняки там лишь благодарно озираются и соль берут как лакомство - изящными и скромными щепотками. Поскольку в приличном кабачке все это в воздухе разлито - чувство товарищества, удовлетворение желудка, некая веселость и учтивость поведения. В тот вечер собравшимся в лавке мисс Амелии никто всего этого не говорил. Они это знали сами - хотя, конечно, до тех пор никаких кабачков в городишке никогда не было.
А сама виновница всего, мисс Амелия, простояла почти весь вечер в дверях кухни. Внешне, казалось, ничего в ней не изменилось. Но многие заметили ее лицо. Она наблюдала за всем, что происходило вокруг, но глаза ее, по большей части, томительно цеплялись за горбуна. А тот расхаживал по лавке, ел из табакерки и вел себя одновременно язвительно и покладисто. Туда, где стояла мисс Амелия, из щелей печки падали отсветы пламени, и смуглое вытянутое лицо ее несколько освещалось. Казалось, она смотрит вглубь себя. И виделись в ее выражении боль, недоумение и какая-то неуверенная радость. Губы у нее были не так стиснуты, как обычно, и она часто сглатывала. Кожа ее побледнела, а крупные пустые ладони покрылись испариной. В тот вечер, в общем, вид у нее был, как у тоскующей влюбленной.
Открытие кабачка завершилось к полуночи. Все со всеми попрощались очень дружелюбно. Мисс Амелия заперла переднюю дверь, но на засов заложить забыла. А вскоре всJ - главная улочка с тремя ее лавками, фабрика, домишки, весь город, на самом деле, - погрузилось во тьму и безмолвие. Так закончились три дня и три ночи, за которые случились приход горбуна, нечестивый праздник и открытие кабачка.
Вот и время должно пройти. Ибо последующие четыре года очень похожи один на другой. Большие перемены случились, но происходили они потихоньку, простыми шажками и сами собой кажутся незначительными. Горбун продолжал себе жить с мисс Амелией. Кабачок постепенно расширялся. Мисс Амелия начала торговать выпивкой вразлив, и в лавку поставили столики. Каждый вечер туда заходили посетители, а по субботам собиралась большая толпа. Мисс Амелия начала подавать на ужин жареного сомика - по пятнадцать центов за тарелку. Горбун уломал ее купить отличное механическое пианино. За два года это место перестало быть лавкой, превратилось в настоящий кабачок, что открывался в шесть и работал до двенадцати.
Каждый вечер горбун спускался по лестнице с видом человека, знающего себе цену. От него вечно попахивало ботвой репы, ибо по утрам и вечерам мисс Амелия натирала его отваром, чтобы сил прибавилось. Сверх меры его избаловала, да только не в коня корм: от еды горб его и голова, казалось, становились все больше и больше, а остальное тельце усыхало и кособочилось. Сама мисс Амелия внешне не менялась. Всю неделю носила робу и болотные бахилы, а по воскресеньям надевала темно-красное платье, висевшее на ней весьма причудливым образом. Манеры ее, вместе с тем, и сам образ жизни изменились сильно. Свирепую тяжбу в суде любила по-прежнему, но уж не так проворно дурачила своих собратьев и вынуждала их на неправедные платежи. Поскольку горбун был общителен, она даже начала выходить из дому - на церковные бдения, на похороны и тому подобное. Врачевала все так же успешно, а выпивка стала еще лучше, если это вообще возможно. Сам кабачок оказался предприятием выгодным и стал единственным местом развлечений на много миль вокруг.
Посмотрим же на эти годы наугад и в беспорядке. Вот горбун шагает мисс Амелии след в след - красным зимним утром они отправились в сосняки на охоту. Вот работают вместе на ее участке: Братишка Лаймон стоит рядом и совершенно ничего не делает, но быстро подмечает, если ленятся батраки. Осенними днями сидят на заднем крыльце и рубят сахарный тростник. Слепящее лето проводят на топях, где болотный кипарис исчерна-зелен, а под спутанной влажной растительностью лежит сонный полумрак. Вот тропа заводит их в трясину или к чистой воде, и мисс Амелия нагибается, а Братишка Лаймон карабкается ей на закорки - и идет она вброд, а горбун устроился на плечах и держится за уши или за ее широкий лоб. Время от времени мисс Амелия заводила "форд", купленный когда-то давно, и возила Братишку Лаймона развлечься кинокартиной в Чихо, на дальнюю ярмарку или петушиные бои: горбуна зрелища приводили в истовый восторг. Разумеется, были они каждое утро у себя в кабачке и сидели часами вместе у очага в гостиной наверху. Потому что горбуну по ночам становилось худо, и он боялся лежать один и смотреть во тьму. Страшился он смерти. И мисс Амелии не хотелось оставлять его наедине с таким мучением. Можно бы даже сделать вывод, что и кабачок начал расширяться главным образом из-за горбуна: ибо собиралось в нем общество ему на радость и помогало так скоротать ночь. И вот составьте из таких мгновений общую картину всех этих лет. И пусть ненадолго она останется в памяти.
Теперь же всему этому поведению нужно дать какое-то объяснение. Пришло время поговорить о любви. Ибо мисс Амелия любила Братишку Лаймона. Это было ясно всем - не более того. Жили вместе в одном доме, порознь их никогда не видали. А следовательно, если верить миссис Макфэйл, пронырливой тетке с бородавками на носу, которая постоянно передвигала свою рухлядь из одного угла гостиной в другой, если верить ей и еще некоторым, жила эта парочка во грехе. Будь они даже родней, получилась бы помесь между двоюродными и троюродными братом с сестрой, да и того доказать было б никак не возможно. Мисс Амелия, конечно, - дылда еще та, шести футов росту, а Братишка Лаймон горбатый хиляга и достает ей лишь до пояса. Но тут миссис Кочерыжке Макфэйл и ее кумушкам даже еще лучше, ибо подобные им просто упиваются такими союзами, неравными и ничтожными. Пусть себе. Добрые люди считали, что если эти двое и обрели какое-то телесное удовлетворение между собой, то касается это лишь их одних да Господа Бога. Вся здравая публика приходила к единому мнению об этой парочке, и ответ у них был простой и недвусмысленный - "не может быть". Что же это тогда за любовь, а?
Перво-наперво, любовь - совместное переживание двоих, но коли даже так, совместное переживание не означает, что переживание у этих двоих одинаковое. Есть любящий и возлюбленный, но они - из разных стран. Возлюбленный зачастую - лишь побуждение для всей любви, тихо копившейся в любящем очень и очень долго. Причем, каждому любящему это почему-то известно. В душе своей чувствует он, что его любовь - штука одинокая. И приходит к познанию нового, неведомого одиночества, и от знания этого страдает. И остается любящему тогда только одно. Он должен хранить в себе эту любовь, как только умеет; сотворить внутри целый новый мир, напряженный и странный, завершенный в самом себе. А добавить к этому можно еще и то, что такой любящий, о ком мы говорим, не обязательно - молодой человек, что откладывает деньги на обручальное кольцо; этим любящим может быть мужчина, женщина, дитя или вообще любое человеческое создание на этой земле.
Любимый тоже может быть кем угодно. Самые диковинные люди бывают таким побуждением к любви. Да окажись ты трясущимся от старости прадедушкой - но до сих пор будешь любить лишь странную девчонку, которую встретил как-то днем на улице в Чихо двадцать лет назад. И проповедник, случается, любит женщину падшую. Возлюбленный может быть личностью вероломной, с сальными волосами и дурными привычками. Да, и любящий видит все это так же ясно, как и любой другой - но это ни на гран не влияет на течение его любви. Самая заурядная персона бывает предметом любви - неистовой, сумасбродной и прекрасной, точно ядовитая болотная лилия. Хороший человек вызывает к себе любовь яростную и испорченную, а безумец с пеной у рта - укрывает чью-нибудь душу простым и нежным покоем. Ценность и свойства любви, значит, определяются самим любящим и никем больше.
Произведения
Критика