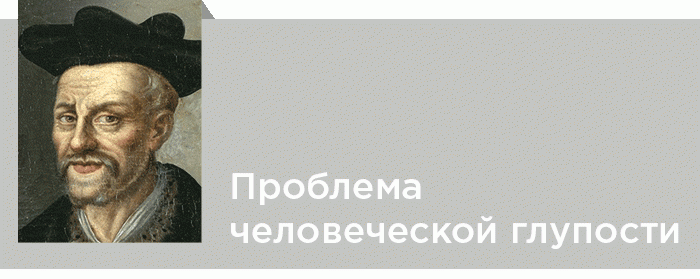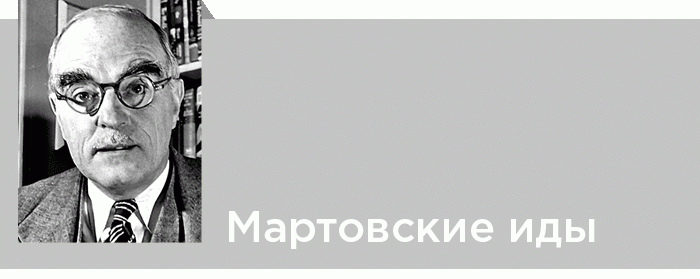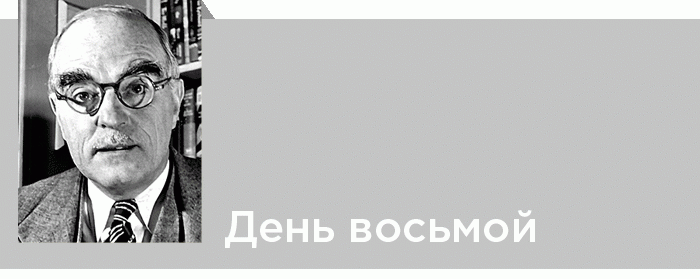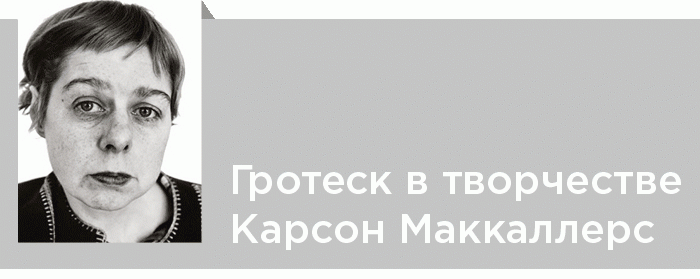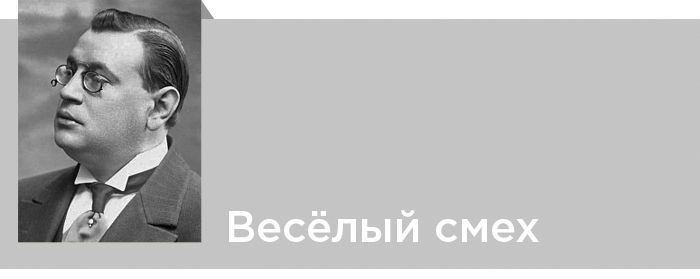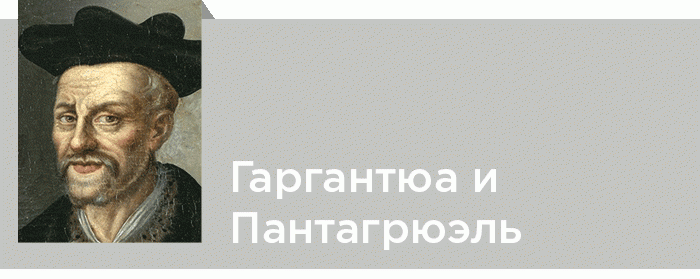Карсон Маккаллерс. Отражения в золотом глазу

Участница свадьбы
(Отрывок)
Часть I
В это зеленое сумасшедшее лето Фрэнки было двенадцать лет. Так случилось, что именно этим летом она надолго оказалась от всего в стороне. Не была членом клуба и вообще ни в чем не принимала участия. Она чувствовала себя какой-то неприкаянной, как человек, который отирается в чужих дверях, и ее мучили страхи. В июне деревья стояли опьяняюще зелеными, но позже листья потемнели, и город тоже потемнел и съежился под слепящим солнцем. Поначалу Фрэнки хваталась то за одно дело, то за другое. Тротуары утром и к вечеру казались серыми, но полуденное солнце наводило на них глянец, асфальт нагревался и начинал блестеть, как стекло. Постепенно тротуары так накалялись, что жгли Фрэнки пятки, вдобавок ко всему у нее начались неприятности. У нее было так много личных неприятностей, что она предпочитала сидеть дома, где не было никого, кроме Беренис Сэйди Браун и Джона Генри Уэста. Они сидели втроем за кухонным столом и без конца говорили одно и то же, и к августу слова уже сами собой рифмовались и теряли смысл. Казалось, что каждый день всему наступает конец и мир застывает в неподвижности. Это было не лето, а какой-то больной зеленый сон или безмолвные безумные джунгли под стеклянным колпаком. Но вот в последнюю пятницу августа все изменилось, да так неожиданно, что Фрэнки до вечера ломала над этим голову, но так ничего и не поняла.
— Все так странно, — сказала она, — все вышло так странно.
— Вышло? Что вышло? — спросила Беренис.
Джон Генри молча слушал и наблюдал.
— Просто голову сломала.
— Над чем?
— Над всем, — ответила Фрэнки.
— По-моему, просто солнце напекло тебе макушку, — заметила Беренис.
— По-моему, тоже, — прошептал Джон Генри.
Фрэнки чуть не согласилась, что, пожалуй, так оно и есть. Было четыре часа дня, в мрачной квадратной кухне стояла тишина, Фрэнки сидела за столом, прищурив глаза, и думала о предстоящей свадьбе. Ей виделась притихшая церковь, причудливый снег косо падает на витражи. Жених — ее брат, с ярким пятном на месте лица. Невеста, тоже безликая, рядом с ним в длинном белом платье со шлейфом. Что-то в этой свадьбе вызывало у Фрэнки ощущение, названия которому она не знала.
— Посмотри-ка на меня, — сказала Беренис. — Ты ревнуешь?
— Ревную?
— Ревнуешь, потому что твой брат женится?
— Нет, — ответила Фрэнки. — Просто я еще никогда не видела двух таких людей. Когда они вошли сегодня в дом, у меня появилось такое странное чувство.
— Ты ревнуешь, — заявила Беренис. — Иди и посмотри на себя в зеркало. Я все поняла по цвету твоих глаз.
Над раковиной в кухне висело мутное зеркало. Фрэнки посмотрелась в него, но увидела свои, как всегда серые, глаза. В то лето она так вытянулась, что выглядела долговязым уродцем: плечи узкие, ноги слишком длинные. Она носила синие шорты и майку и ходила босиком. Ее подстригли под мальчика, но уже давно, и сейчас в ее волосах даже пробора не проглядывало. Отражение в зеркале было искаженным, но Фрэнки хорошо знала, на что она похожа. Подняв левое плечо, она обернулась.
— Таких красивых, как она, мне еще не приходилось видеть, — сказала она. — Не могу понять, как все это вышло.
— Чего не можешь понять, дурочка? — спросила Беренис. — Твой брат приехал домой с девушкой, на которой собирается жениться, и сегодня они обедали вместе с тобой и с твоим папой. Их свадьба будет в это воскресенье в доме ее родителей в Уинтер-Хилле,[1] и вы с папой поедете на свадьбу. Вот и все. Так что тебя тревожит?
— Не знаю, — ответила Фрэнки. — Но могу поручиться, они с толком проводят время.
— Давайте и мы с толком проводить время, — предложил Джон Генри.
— Это мы-то с толком? — переспросила Фрэнки. — Мы?
Они все так же сидели за столом, и Беренис сдавала на троих карты для игры в бридж. Сколько Фрэнки помнила, Беренис всегда служила у них кухаркой. Беренис была очень черной, широкоплечей и низенькой. Она говорила, что ей тридцать пять лет, но утверждала это уже года три. Волосы она расчесывала на пробор, заплетала в косички и прилизывала кремом, лицо у нее было плоское и спокойное. Только одно портило внешность Беренис — ее левый ярко-голубой стеклянный глаз. Он дико смотрел в одну точку, выделяясь на ее темном спокойном лице, и никто на свете не мог понять, почему она выбрала именно голубой глаз. Ее правый черный глаз смотрел печально. Беренис сдавала неторопливо, облизывая большой палец, когда засаленные карты слипались. Джон Генри следил за каждой картой, пока Беренис сдавала. Его голая незагорелая грудь покрылась капельками пота, на шее у мальчика висел на шнурке крохотный свинцовый ослик. Фрэнки он доводился двоюродным братом и целое лето обедал у них и оставался до вечера или приходил ужинать и оставался ночевать, и Фрэнки никак не удавалось спровадить его домой. Для своих шести лет он казался очень маленьким, но зато таких больших коленок, как у него, Фрэнки ни у кого не приходилось видеть, и на одной из них обязательно красовалась царапина или повязка: он вечно падал и обдирал себе что-нибудь. Лицо у него было маленькое, белое, и он носил крошечные очки в золотой оправе. Он очень внимательно следил за каждой картой, потому что сильно проигрался — его карточный долг Беренис составлял больше пяти миллионов долларов.
— Червы, одна, — сказала Беренис.
— А я пики, — сказала Фрэнки.
— И я хотел пики, — сказал Джон Генри. — Я как раз собирался объявить пики.
— Значит, тебе не повезло. Я объявила их первой.
— Дура! — крикнул он. — Это нечестно!
— Не ссорьтесь, — вмешалась Беренис. — По правде говоря, не думаю, что у вас такие карты, чтобы из-за них спорить. Говорю, червы, две.
— А мне все равно, — сказала Фрэнки. — Для меня это несущественно.
Это действительно было так — в тот день она играла совсем как Джон Генри и ходила с первой попавшейся карты. Они сидели в кухне, печальной и безобразной. Джон Генри украсил ее стены, куда только мог дотянуться, причудливыми рисунками. От этого кухня смахивала на палату в сумасшедшем доме. Фрэнки тошнило от этой кухни. Она не знала, как называется то, что с ней творилось, но чувствовала, как ее сжавшееся сердце колотится о край стола.
— Все непостоянно в этом мире, — сказала она.
— Почему ты так думаешь?
— Я хотела сказать — стремительно, — поправилась Фрэнки. — Все так стремительно меняется.
— Ну, не знаю, — покачала головой Беренис. — Для кого стремительно, а для кого и нет.
Фрэнки прикрыла глаза, и собственный голос казался ей шершавым и доносящимся откуда-то издалека:
— Для меня — стремительно.
Еще вчера Фрэнки не думала о свадьбе всерьез. Она, правда, знала, что ее единственный брат Джарвис собирается жениться. Перед тем как уехать на Аляску, он обручился с девушкой из Уинтер-Хилла. Джарвис служил в армии капралом и пробыл на Аляске почти два года. Фрэнки очень-очень давно не видела брата. Когда она вспоминала его лицо, оно представлялось ей зыбким, как будто под водой. Зато сама Аляска! Фрэнки постоянно о ней мечтала, и особенно четко рисовалась ей Аляска этим летом; она видела снег, замерзшее море и ледники. Эскимосские иглу, полярных медведей и ослепительное северное сияние… Не успел Джарвис уехать на Аляску, как она послала ему коробку домашней помадки, аккуратно завернув каждый квадратик в вощеную бумагу. Она прямо трепетала при мысли, что ее помадку будут есть на Аляске, и ей виделось, как брат протягивает коробку закутанным в меха эскимосам. Через три месяца Джарвис прислал ей письмо, в котором благодарил за конфеты, и в конверт вложил пять долларов. Некоторое время Фрэнки почти каждую неделю отправляла ему помадку — то с фруктовой начинкой, то с орехами, но до Рождества Джарвис ей денег больше не присылал. Его короткие письма отцу смущали Фрэнки. Например, этим летом он упомянул в одном из писем, что ходил купаться и его совсем заели комары. Это как-то не вязалось с картинами, рисовавшимися воображению Фрэнки, но спустя несколько дней она снова мечтала о замерзших морях и снеге.
Когда Джарвис вернулся с Аляски, он сразу поехал в Уинтер-Хилл. Невесту звали Дженис Ивенс, и планы у них были такие: Джарвис прислал телеграмму, что собирается приехать с невестой в пятницу, пробудет дома один день, а в воскресенье в Уинтер-Хилле состоится свадьба. Фрэнки предстояло ехать с отцом на свадьбу почти за сто миль, и она заранее уложила чемодан. Она ждала приезда брата и его невесты, но никак не могла представить их себе и о свадьбе совсем не думала. Поэтому за день до их приезда она лишь сказала Беренис:
— Какое странное совпадение — Джарвису пришлось уехать на Аляску, а его невеста родом из Уинтер-Хилла, — медленно проговорила она, закрыв глаза, и название это слилось с мечтами об Аляске и белых снегах. — Хорошо бы, завтра было уже воскресенье, а не пятница. Хорошо бы уехать отсюда.
— Воскресенье придет, когда ему положено, — ответила Беренис.
— Ах, не знаю, — сказала Фрэнки. — Я так давно мечтаю уехать из нашего города и возвращаться после свадьбы сюда не хочу, а хочу уехать отсюда навсегда. Вот бы мне сто долларов, тогда я исчезла бы отсюда и никогда больше не видела этот город.
— Что-то ты много хочешь, — заметила Беренис.
— Мне так хочется быть кем угодно, только не самой собой.
День накануне всех этих событий был таким же, как все дни этого августа. Фрэнки слонялась по кухне, а ближе к вечеру вышла во двор. В сумерках беседка из вьющегося винограда позади дома казалась лиловой и темной. Фрэнки шла медленно. Джон Генри Уэст сидел в августовской беседке на плетеном стуле, скрестив ноги и засунув руки в карманы.
— Что ты делаешь? — спросила девочка.
— Думаю.
— О чем?
Он не ответил.
В это лето Фрэнки так вытянулась, что не могла проходить под свисающей лозой, как раньше. Другие люди, которым тоже было по двенадцать лет, могли проходить под ней, и давать в беседке представления, и вообще развлекаться. Даже взрослые женщины небольшого роста могли пройти под ней не сгибаясь. Но Фрэнки стала слишком долговязой. В то лето ей приходилось лишь ходить вокруг беседки и рвать с веток ягоды, как взрослой. Она заглянула под густые темные лозы, где пахло раздавленным виноградом. Сгущались сумерки, и ей сделалось страшно оставаться возле беседки. Она сама не понимала почему, но ей сделалось страшно.
— Знаешь что, — сказала она, — может, ты поужинаешь у нас и останешься ночевать?
Джон Генри достал из кармана часы ценой в один доллар и посмотрел на них, как будто придет он или нет, зависело от того, который час, но под деревом было слишком темно, и он не мог разглядеть цифры.
— Иди домой и скажи тете Пет. Я буду ждать тебя на кухне.
— Ладно.
Ей было страшно. Вечернее небо казалось бледным и пустым, свет из кухонного окна падал на землю в темнеющем саду желтым квадратом. Фрэнки вспомнила, что в детстве она верила, будто в сарае, где хранили уголь, живут три привидения и одно из них носит серебряное кольцо.
Она вбежала по ступенькам заднего крыльца и сказала:
— Я только что пригласила Джона Генри поужинать у нас и остаться ночевать.
Беренис бросила тесто на стол, присыпанный мукой.
— А мне думалось, он тебе надоел до чертиков.
— Он мне надоел до чертиков, — ответила Фрэнки, — но мне показалось, что он чего-то боится.
— Чего боится?
Фрэнки покачала головой.
— То есть я хотела сказать, он такой одинокий.
— Ладно, я оставлю для него кусочек теста.
После темного двора в кухне было жарко, светло и странно. Стены кухни угнетали Фрэнки — все эти странные рисунки с рождественскими елками, самолетами, уродливыми солдатиками и цветами. Джон Генри начал рисовать на стенах в один из бесконечных июньских дней, а раз стена была все равно испорчена, то он и дальше рисовал на ней когда вздумается. Иногда и Фрэнки рисовала. Сначала отец страшно сердился из-за того, что они мажут стены, но потом разрешил рисовать сколько угодно и сказал, что осенью стены все равно покрасят. Но лето все не кончалось, и стены начали действовать Фрэнки на нервы. В тот вечер ей показалось, что у кухни странный вид, и ей стало страшно.
Она остановилась в дверях и сказала:
— Я просто подумала, что его надо пригласить.
Когда совсем стемнело, Джон Генри с маленькой походной сумкой подошел к задней двери. Он надел белый парадный костюмчик, на ногах его красовались ботинки и носки. К поясу он прицепил кинжал. Джон Генри видел снег. Хотя ему было только шесть лет, он прошлой зимой ездил в Бирмингем и видел там снег. Фрэнки никогда не видела снега.
— Я возьму твою сумку, — сказала девочка. — Можешь сразу идти и делать человечка из теста.
— Спасибо, — ответил он.
Джон Генри не играл с тестом, он лепил из него человечка с таким видом, будто занимался очень важным делом. Время от времени он делал передышку, маленькой рукой поправлял на носу очки и рассматривал свою работу, словно крошечный часовщик. Он даже пододвинул к столу стул и влез на него с коленями, чтобы видеть свое творение сверху. Когда Беренис дала ему изюм, он не воткнул изюминки в тесто где попало, как сделал бы всякий другой ребенок. Джон Генри взял только две ягоды для глаз, но сразу понял, что они слишком велики, и тогда аккуратно разрезал одну изюминку и сделал человечку глаза, а из двух других — нос и маленький улыбающийся изюмный рот. Закончив, мальчик вытер руки о шорты; на столе лежал человечек-печенье с растопыренными пальцами рук, в шляпе и даже с тростью. Так усердно работал Джон Генри, что тесто стало серым и мокрым. Но это был отличный человечек из теста, и, по правде говоря, Фрэнки он напоминал самого Джона Генри.
— А сейчас я буду тебя развлекать, — заявила она.
Они поужинали на кухне вместе с Беренис, потому что отец Фрэнки позвонил и сказал, что задержится допоздна в своем часовом магазине. Когда Беренис вынула человечка-печенье из духовки, он получился таким, какими бывают все человечки из теста, вылепленные детьми. Фигурка распухла так, что все усилия Джона Генри пропали зря: пальцы слиплись, а трость стала похожа на хвост. Но Джон Генри только глянул на фигурку сквозь очки, вытер ее салфеткой и помазал маслом левую ногу.
Была темная, душная августовская ночь. Из приемника в столовой доносилось множество голосов: бормотание диктора, рекламировавшего товары, перебивало известия с фронта, а за их шумом слабо звучала нежная музыка оркестра. Приемник не выключали все лето, и в конце концов к нему настолько привыкли, что перестали замечать. Иногда, если радио говорило слишком громко, так, что им не было слышно самих себя, Фрэнки немного убавляла его. Но, как правило, из приемника постоянно неслись голоса и музыка, они переплетались друг с другом, и к августу уже никто не обращал на него внимания.
— Чем бы ты хотел заняться? — спросила Фрэнки. — Хочешь, я тебе почитаю про Ганса Бринкера? Или что-нибудь еще?
— Что-нибудь еще, — ответил Джон Генри.
— Так что?
— Давай поиграем на улице.
— Не хочу, — заявила Фрэнки.
— Сегодня вечером все будут играть на улице.
— У тебя есть уши, — сказала Фрэнки, — ты слышал, что я сказала.
Джон Генри стоял, плотно сдвинув большие колени. Наконец выговорил:
— Пожалуй, я пойду домой.
— Но ведь ты еще не спал! Нельзя же так — поужинать и сразу домой.
— Знаю, — тихо сказал он. Кроме радио до них доносились голоса детей, игравших где-то в темноте. — Ну, Фрэнки, пойдем. По-моему, там очень весело.
— Нет, не весело, — сказала она. — Там просто сборище противных дураков. Только и знают, что бегают да орут, бегают да орут. Ничего в этом нет веселого. Пойдем наверх и разберем твою сумку.
Фрэнки спала на застекленной веранде, которую пристроили ко второму этажу. Это была ее комната, соединенная лестницей с кухней. Там стояла железная кровать, шкаф и письменный стол, и еще моторчик, который можно было включать и выключать. С его помощью можно было точить ножи и даже подпиливать ногти, если они достаточно отросли. У стены лежал чемодан, приготовленный для поездки в Уинтер-Хилл. На столе стояла очень старая пишущая машинка. Фрэнки села за стол и стала думать, кому бы ей написать письма, но писать было некому, потому что на все письма она уже ответила, и даже по нескольку раз. Поэтому она накрыла машинку дождевиком и отодвинула ее в сторону.
— Правда, — сказал Джон Генри, — может, я лучше пойду домой?
— Нет, — сказала она, даже не взглянув на мальчика. — Садись там в углу и поиграй с моторчиком.
Перед Фрэнки лежали два предмета — зеленоватая морская ракушка и стеклянный шар. Его можно было потрясти, и тогда в нем поднималась снежная буря. Когда она подносила раковину к уху, то слышала теплые волны Мексиканского залива и думала о далеком зеленом острове, на котором растут пальмы. Когда же она подносила снежный шар к глазам и прищуривалась, то видела кружащиеся белые снежинки и смотрела на них до тех пор, пока глаза не начинало слепить. Она думала об Аляске… Вот она поднимается на вершину холодного белого холма и смотрит на снежную пустыню, расстилающуюся далеко внизу. Она смотрит, как лед вспыхивает разноцветными красками под лучами солнца, и слышит воображаемые голоса, видит воображаемые предметы. И всюду белый холодный мягкий снег.
— Послушай, — заговорил Джон Генри (он смотрел в окно), — кажется, у старших девочек сегодня в клубе вечер.
— Замолчи! — неожиданно крикнула Фрэнки. — Не говори мне об этих мошенницах.
Неподалеку от их дома находился клуб, но Фрэнки не состояла его членом. В клуб принимали девочек, которым уже исполнилось тринадцать, четырнадцать или пятнадцать лет. По субботам они устраивали вечера с мальчиками. Фрэнки была знакома со всеми участницами клуба. До этого лета старшие девочки принимали ее в свою компанию, хотя и смотрели как на маленькую, но теперь они организовали этот клуб, а ее туда не взяли. Ей сказали, что она еще недостаточно взрослая и злюка. В субботние вечера она слышала их ужасную музыку и видела свет в окнах клуба. Иногда она шла туда и стояла в переулке позади дома, прячась в зарослях жимолости. Она стояла там, смотрела и слушала. Эти их вечера затягивались допоздна.
— Может быть, они передумают и пригласят тебя? — сказал Джон Генри.
— Сукины дети!
Фрэнки всхлипнула и вытерла нос рукавом. Она присела на край кровати, совсем сгорбившись, и уперлась локтями в колени.
— Они болтали по всему городу, что от меня плохо пахнет, — сказала она. — Когда у меня были фурункулы и я мазалась вонючим черным бальзамом, нахалка Хелен Флетчер спросила, чем это от меня так пахнет… Ух, так бы их всех и перестреляла из пистолета!
Она услышала, что Джон Генри подошел к кровати, и почувствовала, как его ладошка легонько погладила ее шею.
— Вовсе ты не плохо пахнешь, — сказал он. — От тебя пахнет сладким.
— Сукины дети! — повторила Фрэнки. — Думаешь, это все? Они говорили всякие гадости о женатых людях. Ох, как я подумаю о тете Пет и дяде Юстасе… И о папе! Все это вранье. Они думают, что я дурочка.
— Я сразу узнаю тебя по запаху, как только ты входишь в дом, даже смотреть не надо. Пахнет как букет цветов.
— Все равно, — сказала Фрэнки, — все равно.
— Как букет цветов, — повторил Джон Генри. Он все похлопывал ее по шее своей влажной лапкой.
Фрэнки выпрямилась, облизнула языком слезы вокруг рта и вытерла лицо подолом рубашки. Она замерла, раздувая ноздри и принюхиваясь к своему запаху, потом подошла к чемодану и достала из него флакон «Сладкой серенады». Она слегка смочила волосы на макушке и вылила немного духов за воротник рубашки.
— Хочешь подушиться?
Джон Генри сидел на корточках перед открытым чемоданом и, когда она плеснула на него духами, поежился. Ему хотелось покопаться в чемодане Фрэнки и внимательно рассмотреть все. Но Фрэнки хотела, чтобы он увидел ее вещи только уложенными, не перебирая их, чтобы он не знал, что у нее есть и чего нет. Поэтому она затянула на чемодане ремень и поставила его опять к стене.
— Ей-богу, — сказала она, — никто в городе не изводит духов больше меня.
В доме было тихо, и только снизу, из столовой, доносилось приглушенное бормотание приемника. Отец уже давно вернулся домой, Беренис заперла дверь из кухни во двор и ушла. В ночной тишине больше не раздавалось детских голосов.
— Надо бы чем-нибудь развлечься, — сказала Фрэнки.
Но заняться было нечем. Джон Генри стоял посреди комнаты, сдвинув колени и заложив руки за спину. За окном кружили ночные бабочки — бледно-зеленые и лимонные, и бились о москитную сетку на окне.
— Какие красивые бабочки! — сказал он. — Им хочется в комнату.
Фрэнки смотрела, как они тихо порхают и бьются о сетку. Бабочки прилетали каждый вечер, как только на ее столе зажигалась лампа. Они прилетали из августовской ночи, вились вокруг окна и бились о сетку.
— Ирония судьбы, — сказала девочка. — Почему они прилетают именно сюда? Они ведь могут летать где угодно и все же постоянно кружатся возле наших окон.
Джон Генри поправил очки, и Фрэнки с вниманием вгляделась в его плоское, маленькое веснушчатое лицо.
— Сними очки, — внезапно сказала она.
Джон Генри снял очки и подул на стекла. Девочка посмотрела сквозь стекла очков, и комната сразу поплыла и скривилась. Потом она отодвинулась на стуле и взглянула на Джона Генри. Его глаза окружали два влажных пятна.
— Очки тебе совсем не нужны, — заявила Фрэнки и положила руку на пишущую машинку. — Что это такое?
— Пишущая машинка, — ответил мальчик.
— А это? — Она взяла в руки раковину.
— Раковина из залива.
— А что это ползет там по полу?
— Где? — спросил он, озираясь по сторонам.
— Да вот, у самых твоих ног.
— А, — сказал он и присел на корточки. — Это муравей. Как же он сюда забрался?
Фрэнки откинулась в кресле, скрестив босые ноги на столе.
— На твоем месте я бы их просто выбросила, — сказала она. — У тебя нормальное зрение.
Джон Генри ничего не ответил.
— Они тебе не идут.
Она протянула мальчику сложенные очки, он протер их розовой фланелевой тряпочкой и снова надел, ничего не сказав.
— Ну хорошо, — продолжала она. — Делай как знаешь. Я же хочу тебе добра.
Пора было ложиться спать. Они разделись, повернувшись друг к другу спиной, после чего Фрэнки выключила моторчик и погасила свет. Джон Генри опустился на колени, чтобы помолиться, и молча долго молился, потом лег возле нее.
— Спокойной ночи, — сказала Фрэнки.
— Спокойной ночи.
Фрэнки смотрела в темноту.
— Ты знаешь, я до сих пор не могу себе представить, что Земля вращается со скоростью около тысячи миль в час.
— Знаю, — ответил он.
— И непонятно, почему, когда прыгаешь вверх, не приземляешься в Фэрвью, Селме или где-нибудь еще, миль за пятьдесят отсюда.
Джон Генри повернулся и сонно засопел.
— Или в Уинтер-Хилле, — продолжала она. — Как бы мне хотелось уехать туда прямо сейчас.
Джон Генри уже спал. Фрэнки слышала в темноте его дыхание и поняла, что именно этого ей так хотелось все лето — чтобы ночью рядом с ней кто-то был. Она лежала и слушала, как он дышит в темноте, а потом приподнялась на локте. Джон Генри был веснушчатый и маленький, в лунном свете белела его голая грудь, а одна нога свисала с кровати. Осторожно она положила руку ему на живот и придвинулась ближе. Казалось, что внутри у него постукивают маленькие часики, и пахло от мальчика потом и «Сладкой серенадой». Такой же запах бывает у бутона маленькой кислой розы. Фрэнки нагнулась и лизнула его за ухом. Она вздохнула, положила подбородок на его влажное острое плечико и закрыла глаза: наконец рядом с ней кто-то спал в темноте и ей было не так страшно.
Белое августовское солнце разбудило их ранним утром. Фрэнки не удалось отправить Джона Генри домой. Он увидел, что Беренис жарит ветчину, и решил, что праздничный обед будет очень вкусным.
Отец Фрэнки читал газету в столовой, а потом пошел в город завести все часы в своем магазине.
— Если брат не привез мне с Аляски подарок, я, честное слово, просто взбешусь, — объявила Фрэнки.
— Я тоже, — сказал Джон Генри.
Чем же они были заняты в это августовское утро, когда ее брат с невестой должны были приехать домой? Они сидели в беседке и говорили о Рождестве. Солнце светило ярко и сильно, одуревшие от его света, кричали и дрались сойки. А они разговаривали, и их слова сливались в простенькую мелодию, и они снова и снова повторяли одно и то же. Они тихо дремали в тени беседки.
Фрэнки не думала ни о какой свадьбе. Вот каким было это августовское утро, когда ее брат должен был приехать домой с невестой.
— О, Господи! — сказала Фрэнки. Карты на столе лежали такие засаленные, а лучи вечернего солнца косо падали во двор. — Все так стремительно меняется в этом мире.
— Да перестань ты говорить об этом, — перебила ее Беренис. — Ты об игре думай.
Фрэнки думала и об игре. Она пошла с дамы пик, которая была козырной, Джон Генри сбросил бубновую двойку. Она поглядела на него. Он так и впился взглядом в ее руки, словно жалел, что у него нет в глазу перископа, чтобы заглядывать в чужие карты.
— У тебя же есть одна пика, — сказала Фрэнки.
Джон Генри засунул в рот ослика и отвел взгляд.
— Жулик, — заявила она.
— Клади свою пику, — поддержала ее Беренис.
Тогда он заспорил:
— Я ее не видел, она была за другими картами.
— Жулик.
Но он продолжал держать карту — грустно смотрел на партнеров и не сбрасывал ее, задерживая игру.
— Давай же, — потребовала Беренис.
— Не могу, — сказал он наконец. — Это валет. Из пик у меня только валет. Я не хочу, чтобы Фрэнки убила его своей дамой. Не стану я так ходить.
Фрэнки швырнула карты на стол.
— Вот! — сказала она Беренис. — Он не соблюдает даже простых правил! Он еще ребенок! Это безнадежно! Безнадежно! Безнадежно!
— Выходит, что так, — согласилась Беренис.
— Как мне все надоело, — сказала Фрэнки. Она села, поджав босые ноги, и закрыла глаза, навалившись грудью на стол. Красные засаленные карты валялись в беспорядке, и от одного их вида Фрэнки стало тошно. Каждый день после обеда они играли в карты, и если бы эти старые карты пожевать, во рту от них остался бы смешанный вкус всех обедов, съеденных в августе, и еще неприятный привкус потных рук. Фрэнки смахнула карты со стола. Свадьба виделась ей чем-то светлым и прекрасным, как снег, и на сердце у нее лежал камень. Она встала из-за стола.
— Всем известно: у кого глаза серые, тот ревнивый.
— Я уже сказала, что не ревную, — ответила Фрэнки, расхаживая по комнате. — Я не могла бы ревновать одного из них и не ревновать другого. Для меня они одно целое.
— А я ревновала, когда мой сводный брат женился, — сказала Беренис. — Ей-богу, когда Джон женился на Клорине, я ей написала, что уши ей оторву. Но видишь, я этого не сделала, и уши у Клорины есть, как у всех людей. А сейчас я ее люблю.
— Дж, — сказала Фрэнки. — Дженис и Джарвис. Как странно!
— Что?
— Дж, — ответила она. — У них обоих имена начинаются с Дж.
— Ну и что? Что из этого?
Фрэнки все кружила по кухне.
— Вот если бы меня звали Джейн, — сказала она, — Джейн или Джэсмин.
— Что-то я не пойму, о чем ты, — ответила Беренис.
— Джарвис, Дженис и Джэсмин. Понимаешь?
— Нет, — ответила Беренис. — А я утром слышала по радио, что французы гонят немцев из Парижа.
— Париж, — повторила Фрэнки пустым голосом. — Интересно, разрешается ли по закону менять имя? Или взять еще одно?
— Конечно, нет. Это не разрешается.
На лестнице, которая вела в ее комнату, лежала кукла. Джон Генри принес ее, сел к столу и начал укачивать.
— Ты правда отдаешь ее мне? — спросил он и, задрав у куклы юбочку, потрогал пальцем настоящие трусики и рубашку. — Я буду звать ее Белль.
Фрэнки посмотрела на куклу.
— Не знаю, о чем думал Джарвис, когда привез мне эту куклу! Подумать только — куклу! А Дженис все говорила, будто представляла меня себе маленькой. Я так надеялась, что Джарвис привезет мне что-нибудь с Аляски.
— На тебя стоило посмотреть, когда ты развернула сверток, — вставила Беренис.
Кукла была большая, с рыжими волосами и фарфоровыми закрывающимися глазами. Джон Генри положил ее на спину, и глаза у нее закрылись; он попытался открыть их, дергая вверх ресницы.
— Перестань, это действует мне на нервы! И вообще убери куклу куда-нибудь подальше, чтобы я ее не видела.
Джон Генри отнес куклу на заднее крыльцо, чтобы захватить ее по пути домой.
— Ее зовут Лили Белль, — сказал он.
На полке возле плиты негромко тикали часы; они показывали только без четверти шесть. Свет за окном все еще оставался резким, желтым и ярким. На заднем дворе тень от беседки казалась особенно черной и густой. Все замерло. Откуда-то издалека доносился свист, неумолчная, горестная августовская песня. Время тянулось бесконечно.
Фрэнки опять подошла к зеркалу и посмотрела на себя.
— Напрасно я сделала себе эту короткую прическу. Мне нужно было прийти на свадьбу с длинными соломенными блестящими волосами. Как ты думаешь?
Она глянула в зеркало, и ей стало страшно. Для Фрэнки это лето вообще оказалось летом страхов, один из них она даже вывела арифметически, сидя с карандашом над листом бумаги. В то лето ей было двенадцать лет и десять месяцев. Ее рост достиг метра и шестидесяти четырех с половиной сантиметров, Фрэнки носила туфли седьмого размера. За последний год Фрэнки выросла на десять сантиметров, во всяком случае так ей казалось. И нахальные дети в то лето кричали ей: «Эй, там наверху не холодно?» А от высказываний взрослых по своему адресу она всякий раз вздрагивала. Если своего полного роста она достигнет в восемнадцать лет, значит, ей еще предстоит расти пять лет и два месяца. Следовательно, как показывала математика, в ней тогда будет два метра семьдесят сантиметров (если только ей каким-то образом не удастся остановиться). А как называется женщина ростом выше двух метров семидесяти сантиметров? Она называется Урод.
Каждый год в начале осени в городе устраивались ярмарки, и целую неделю в октябре ярмарочная площадь манила аттракционами — «колесом обозрений», русскими горами, комнатой смеха и еще «домом уродов». Его устраивали в длинном павильоне, внутри которого устанавливали ряд кабинок. Заплатив двадцать пять центов, можно было войти в павильон и посмотреть уродов в их кабинках. В глубине за занавесом находились еще экспонаты, но чтобы увидеть и их, нужно было заплатить еще по десять центов за вход в каждую кабинку. В октябре прошлого года Фрэнки видела на выставке всех уродов:
Великана,
Толстуху,
Лилипута,
Чернокожего дикаря,
Булавочную Головку,
Мальчика-аллигатора,
Женщину-Мужчину.
Ростом Великан был почти два метра. Его громадные руки расслабленно болтались, а челюсть отвисала. Толстуха сидела на стуле, ее тело напоминало жидкое тесто, которое она похлопывала и мяла руками. Рядом с ней находился сморщенный человечек — Лилипут, одетый в крошечный фрак. Чернокожий был родом с острова, где живут дикари. Он сидел на корточках в своей кабине посреди пыльных костей и пальмовых листьев и ел живьем крыс. Хозяева ярмарки разрешали смотреть его бесплатно каждому, кто приносил крыс подходящей величины, и дети тащили их в холщовых мешочках и в коробках из-под обуви. Чернокожий дикарь хлопал крысу головой о свое колено, сдирал шкурку и начинал хрустеть, жадно пожирая ее, сверкая своими дико голодными глазами. Поговаривали, что он не настоящий дикарь, а просто сумасшедший негр из Селмы. Во всяком случае, Фрэнки не понравилось долго смотреть на него. Она протиснулась сквозь толпу к кабине Булавочной Головки, где Джон Генри простоял всю вторую половину дня. Булавочная Головка подпрыгивала, хихикала и то и дело озиралась по сторонам. Голова ее размером с апельсин была выбрита наголо, но на макушке остался локон, перевязанный розовым бантом. В следующей кабине толпились люди — там сидела Женщина-Мужчина, чудо науки, урод. Левая часть его была одета в леопардовую шкуру, правая — в лифчик и юбку, украшенную блестками. Половина лица заросла бородой, другая половина была ярко накрашена. В обоих глазах застыло странное выражение. Фрэнки слонялась по павильону и заглядывала во все кабинки. Она боялась всех этих уродов — ей казалось, что они украдкой смотрят на нее, пытаясь встретиться взглядом и сказать: мы тебя знаем. Их удлиненные уродские глаза пугали девочку. И весь год Фрэнки не могла забыть их до этого последнего августовского дня.
— Те уроды, — сказала она, — они, наверное, не могут жениться и даже быть на чьей-нибудь свадьбе.
— Какие еще уроды? — спросила Беренис.
— Уроды на ярмарке, — ответила Фрэнки, — те, которых мы видели в прошлом году в октябре.
— А, эти…
— Интересно, много им платят? — спросила Фрэнки.
— Откуда я знаю, — ответила Беренис.
Джон Генри приподнял воображаемую юбку и, приставив пальцы к макушке своей большой головы, запрыгал вокруг кухонного стола, подражая Булавочной Головке.
Потом сказал:
— Она самая симпатичная девочка на свете. Правда, Фрэнки?
— Вот уж нет, — сказала Фрэнки, — по-моему, она совсем не симпатичная.
— Я тоже так думаю, — согласилась Беренис.
— Ну-у! — заспорил Джон Генри. — Она симпатичная.
— Если хотите знать мое мнение, — продолжала Беренис, — от всех этих на ярмарке у меня мурашки по спине бегали. Один хуже другого.
Фрэнки долго смотрела на Беренис в зеркале, потом спросила с расстановкой:
— А от меня у тебя не бегают мурашки?
— От тебя? — переспросила Беренис.
— Как ты думаешь, я стану уродом, когда вырасту? — прошептала Фрэнки.
— Ты? — опять переспросила Беренис. — Нет, конечно.
Фрэнки стало легче. Она искоса посмотрела на себя в зеркало. Часы медленно пробили шесть, и она спросила:
— Ты думаешь, я буду хорошенькой?
— Может быть. Только хотя бы пригладь вихры.
Фрэнки стояла на левой ноге и медленно водила правой по полу. Она почувствовала, как под кожу вошла заноза.
— Нет, я серьезно, — сказала она.
— Тебе надо немного поправиться, и ты будешь совсем ничего. И вести себя как следует.
— Но мне хотелось бы похорошеть к воскресенью, — объяснила Фрэнки. — Мне надо на свадьбе выглядеть получше.
— Тогда хоть умойся. Отмой локти и приведи себя в порядок, вот и будешь хорошенькой.
Фрэнки последний раз взглянула на себя в зеркало и отвернулась. Она подумала о брате и его невесте — внутри у нее что-то сжалось и не отпускало.
— Не знаю, что мне делать. Вот бы умереть!
— Ну, умри, если так! — заявила Беренис.
— Умри! — как эхо, повторил Джон Генри.
Мир остановился.
— Иди домой, — приказала Фрэнки Джону Генри.
Он стоял, сдвинув большие колени, положив маленькую грязную руку на край белого стола, и не двинулся с места.
— Слышишь, что я сказала? — крикнула Фрэнки и, грозно взглянув на него, схватила сковородку, висевшую над плитой.
Она три раза обежала вокруг стола, пытаясь догнать Джона Генри, наконец он выскочил в прихожую и за дверь. Фрэнки заперла дверь и еще раз крикнула:
— Иди домой!
— Ну что ты творишь, о, Господи! — сказала Беренис. — Таким злюкам лучше не жить на свете.
Фрэнки открыла дверь на лестницу, которая вела в ее комнату, и села на нижнюю ступеньку. В кухне стало по-идиотски тихо и печально.
— Знаю, — ответила она. — Я хочу посидеть спокойно и немного подумать.
В это лето Фрэнки была противна самой себе. Она ненавидела себя; она была ни к чему не годной, слонявшейся все лето по кухне бездельницей, грязной, жадной, злой и унылой. Она была не просто злюкой, которой лучше не жить на свете, а еще и преступницей. Если бы закону было все известно про нее, ее судили бы и отправили в тюрьму. Но не всегда Фрэнки была преступницей и ни к чему не годным человеком. До апреля этого года и еще раньше она была как все люди. Она вступила в клуб и училась в седьмом классе. По утрам в субботу она помогала отцу, а днем после этого ходила в кино и даже не знала, что такое страх. Ночью девочка все еще спала рядом с отцом, но вовсе не оттого, что боялась темноты.
Но весна этого года оказалась необычной. Все начало меняться, и Фрэнки не могла понять этих перемен. После унылой, серой зимы в окно застучали мартовские ветры и по синему небу поплыли белые плотные облака. Апрель наступил внезапно и был тихим, а деревья стояли в буйной яркой зелени. По всему городу цвели бледные глицинии, потом цветы бесшумно осыпались. Фрэнки было почему-то грустно от этих зеленых деревьев и апрельских цветов. Она не понимала, отчего грустит, но именно из-за этой непонятной грусти вдруг решила, что должна уехать. Она читала сообщения о войне, думала об огромном мире и даже уложила свой чемодан, чтобы уехать, но не знала куда.
В тот год Фрэнки впервые задумалась о мире в целом. Для нее мир был не просто круглым школьным глобусом, на котором каждая страна четко обозначалась своим цветом. Ее мир был огромный, весь в трещинах, свободный, он вращался со скоростью тысяча миль в час. Школьный учебник географии устарел — страны на Земле изменились. Фрэнки читала в газетах сообщения о войне, но на свете оказалось так много стран, и события на войне происходили так быстро, что временами она ничего не могла понять. В это лето Паттон[2] гнал немцев через Францию. В России и на Сайпане[3] тоже шла война. Ей мерещились сражения и солдаты. Но в разных местах шло одновременно так много сражений, что она не могла сразу представить себе миллионные армии солдат. Она видела русского солдата в русских снегах, смуглого и замерзшего и с замерзшей винтовкой. Она видела япошек с узкими глазами на острове, покрытом джунглями из лиан. Европу, трупы повешенных на деревьях и военные корабли на синих океанах. Четырехмоторные самолеты, горящие города и хохочущего солдата в стальной каске. Иногда картины войны и земного шара начинали вихриться перед ее глазами, у Фрэнки кружилась голова. Когда-то, еще давно, она предсказывала, что война кончится через два месяца, но теперь уже не была в этом уверена. Ей хотелось стать мальчиком, служить в морской пехоте и попасть на войну. Она мечтала летать на самолетах и получать золотые медали за храбрость. Но на войну она попасть не могла, и по временам ее охватывало уныние, и она не знала, куда деваться. Она решила стать донором Красного Креста, сдавать кровь по кварте в неделю, чтобы ее кровь текла в жилах австралийцев, сражающихся французов и китайцев — людей, разбросанных по всей земле, и тогда все они станут ей как бы родными. Ей чудились голоса военных врачей, которые говорят, что такой красной и здоровой крови, как у Фрэнки Адамс, им еще никогда не приходилось видеть. И ей рисовалась картина, как через много лет после войны она встретит солдат, которым перелили ее кровь, и они скажут, что обязаны ей жизнью; они не будут называть ее «Фрэнки», а скажут «Адамс». Но из этого ничего не вышло. Красный Крест отказался брать у нее кровь — ей было слишком мало лет. Она разозлилась на Красный Крест и почувствовала себя никому не нужной. Война и большой мир оказались слишком стремительными, необъятными и чужими. Когда она подолгу думала о большом мире, ей становилось страшно. Она не боялась ни немцев, ни бомб, ни японцев. Она боялась только, что ей не дадут принять участие в войне, и тогда мир окажется отгороженным от нее.
Поэтому она решила, что должна уехать из этого города, уехать куда-нибудь подальше. Поздняя весна в этом году была ленивой и слишком ароматной. Эти нескончаемые дни пахли цветами, и зеленое благоухание вызывало у нее отвращение. И город вызывал у нее отвращение. Фрэнки никогда не плакала, что бы ни происходило, но в это лето она могла неожиданно заплакать из-за пустяков. Иногда она выходила во двор рано-рано и долго стояла и смотрела на небо и восходящее солнце. У Фрэнки было такое чувство, будто ее мучит какой-то вопрос, а солнце не отвечает. Многое, на что раньше она почти не обращала внимания, теперь угнетало ее: свет в окнах домов на улице, незнакомый голос, донесшийся вдруг из переулка. Она смотрела на свет и слушала этот голос, и внутри ее что-то напрягалось в ожидании. Но свет гас, голос умолкал, и, хотя она продолжала ждать, все кончалось ничем. Фрэнки боялась всего, что заставляло ее задуматься, кто же она такая, кем будет и почему она стоит в эту минуту одна, смотрит на свет, слушает или смотрит в небо. Ей делалось страшно, и в груди ее что-то странно сжималось.
Однажды вечером, еще в апреле, когда Фрэнки с отцом собиралась ложиться спать, отец посмотрел на нее и вдруг сказал:
— Что это за долговязый пистолет двенадцати лет от роду, который все еще хочет спать рядом со своим отцом?
Она стала уже слишком большой, чтобы, как прежде, спать рядом с отцом. И теперь ей приходилось спать в своей комнате наверху одной. Фрэнки почувствовала к отцу неприязнь, и они часто обменивались косыми взглядами. Ей расхотелось бывать дома.
Она бродила по городу, и все, что видела и слышала, казалось ей каким-то незаконченным, ею овладела скованность, которая никак не проходила. Она спешила заняться чем-нибудь, но за что бы она ни бралась, все получалось не так. Она заходила к своей лучшей подруге Эвелин Оуэн, у которой была футбольная форма и испанская шаль; одна из них надевала футбольную форму, а другая накидывала шаль, и они вдвоем шли в город, в магазин, где любая вещь стоит десять центов. Но и это не помогало, все было совсем не то, чего хотелось Фрэнки. Когда же наступали бледные весенние сумерки, в воздухе повисал горько-сладкий запах пыли и цветов, в окнах загорался свет, на улице слышались протяжные голоса, зовущие детей ужинать, над городом собирались стаей стрижи и, покружив, все вместе улетали, и небо тогда оставалось пустым и просторным, — после этих долгих весенних вечеров и прогулок по улицам города Фрэнки охватывала острая грусть, сердце ее сжималось и почти переставало биться.
Ей никак не удавалось преодолеть эту скованность, и потому она спешила заняться чем-нибудь. Вернувшись домой, она надевала на голову ведерко для угля, точно колпак сумасшедшего, и слонялась вокруг кухонного стола. Она принималась за все, что только могла придумать, но что бы она ни делала, все получалось не так. А потом, натворив всяких глупостей, от чего ей становилось противно и пусто на душе, она входила в кухню и говорила:
— Как бы мне хотелось разнести вдребезги весь этот город.
— Ну так разнеси, только не торчи с таким кислым видом. Займись чем-нибудь.
И наконец начались неприятности.
Она совершала проступок за проступком и попала в беду.
Фрэнки нарушила закон, и, однажды став преступникам, она нарушала его снова и снова. Она взяла из отцовского письменного стола пистолет и ходила с ним по городу, расстреляв на пустыре все патроны. Потом она стала грабителем — украла в магазине Сирса и Роубака нож с тремя лезвиями. А однажды в субботу после обеда (дело было в мае) в гараже Маккинов Барни Маккин совершил при ней что-то странное и противное. При воспоминании об этом в желудке у нее поднималась тошнота, и она боялась смотреть людям в глаза. Она возненавидела Барни и хотела убить его. Иногда, лежа в кровати, она мечтала застрелить его из пистолета или вонзить ему нож между глаз.
Ее лучшая подруга Эвелин Оуэн уехала насовсем во Флориду, и Фрэнки не с кем стало играть. Долгая цветущая весна прошла, и в городе началось лето, безобразное, одинокое и очень жаркое. С каждым днем ей все больше и больше хотелось уехать из города — уехать в Южную Америку, в Голливуд или Нью-Йорк. Она много раз укладывала чемодан, но никак не могла решить, куда же ей уехать и как добраться туда одной.
Поэтому Фрэнки осталась дома, слонялась по кухне, а лето все не кончалось. Когда наступили самые жаркие дни, ее рост достиг ста шестидесяти четырех с половиной сантиметров, она была долговязой жадиной, лентяйкой и злюкой, такой злюкой, каким лучше не жить на свете. И ей было страшно, но не так, как бывало раньше. Остался лишь страх перед Барни, отцом и законом. Но даже эти страхи в конце концов исчезли; спустя некоторое время грех, совершенный в гараже Маккинов, стал забываться, и она вспоминала о нем только во сне. Она больше не думала ни об отце, ни о законе. Фрэнки сидела на кухне с Джоном Генри и Беренис. Она не думала ни о войне, ни о большом мире. Ничто больше не причиняло ей боль, ничто ее не заботило. Она больше не выходила на задний двор смотреть в небо. Она не обращала внимания на звуки и голоса лета и не гуляла вечером по городу. Она не поддавалась грусти, и ей все было все равно. Она ела, писала пьесы, училась бросать нож в стену гаража и играла в бридж на кухне. Каждый день был похож на предыдущий, только становился длиннее, и ничто больше не причиняло ей боли.
Вот почему в эту пятницу, когда приехал ее брат с невестой, Фрэнки поняла, что все изменилось. Но почему и что с ней еще должно случиться, этого она не знала. И хотя она пробовала поговорить с Беренис, та тоже ничего не знала.
Произведения
Критика