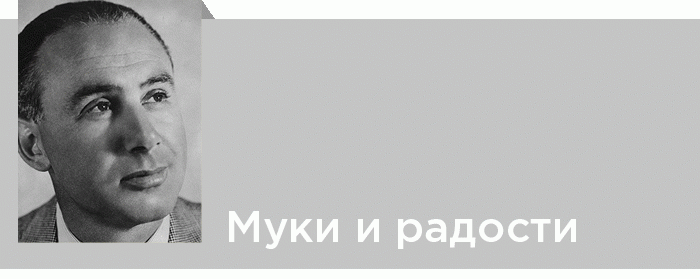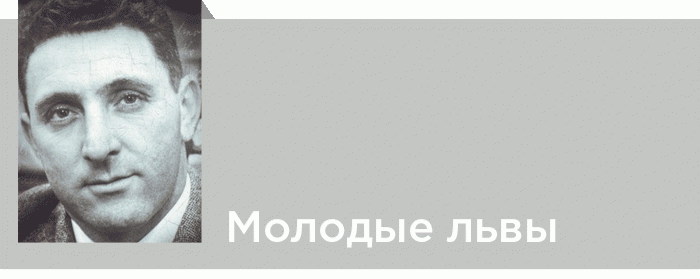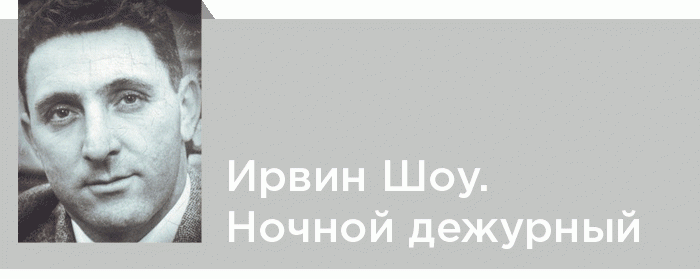Прейскурант благодеяний, или Сколько стоит добро? (О романе Ирвина Шоу «Хлеб по водам»)
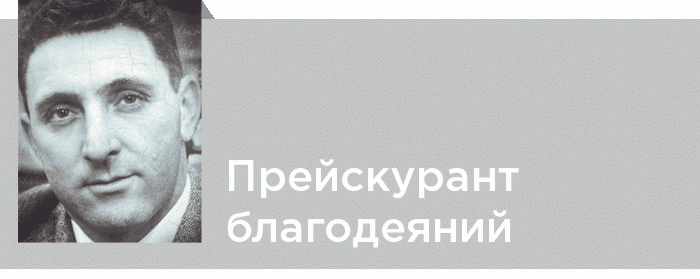
А. Кубатиев
Ирвин Шоу был всем, чем были его герои, — солдатом, журналистом, профессиональным спортсменом, бедным учителем и богатым человеком.
Но большую часть своей жизни, с тридцатых годов до самой кончины в 1984 году, он был и оставался профессиональным литератором — беллетристом, драматургом, сценаристом.
Ему везло. На него почти всегда был спрос. По крайней мере, после появления первого романа «Молодые львы» книги его регулярно числятся в списках бестселлеров, и это удивительно. Ведь Шоу, хотя и подыгрывает стандартам расхожего беллетризма, все же остается писателем, чей труд неукоснительно подчиняется иным требованиям. Впрочем, «бестселлер» не всегда обозначает дутую славу, искусственную популярность.
Критикам Шоу известен с 1936 года, когда одна за другой вышли две его пьесы — антимилитаристский гротеск «Предайте мертвых земле» и «Осада», драма о гражданской войне в Испании. За ними последовала еще одна пьеса — «Бруклинская идиллия», написанная без всякой гримировки отечественного материала о жестокой, грязной, циничной Америке, отданной на откуп гангстерам, спиртобосам, сутенерам.
Так вошел Ирвин Шоу в американскую литературу. Случилось это в грозное время, когда затягивались конфликтные узлы истории нашего века; под знамена прогрессивного искусства приходили разные люди: те, кто и потом продолжал удерживать позиции пролетарской литературы, сохраняя критический взгляд на американскую действительность, и те, кто впоследствии вернулся-таки в лоно буржуазной идеологии. Наиболее прозорливые и мужественные из писателей уже тогда предупреждали своих сограждан, что фашизм — бедствие не только европейского образца. Хемингуэй, Синклер Льюис, Фолкнер видели, как легко мог пустить нацизм свои корни в американской «демократии».
Не за славой, не за впечатлениями пошел на войну Ирвин Шоу, а затем, чтобы, как Эрнест Хемингуэй, кумир его юности, драться против жуткой силы, надвигавшейся на мир. Тогда и произошел первый важный перелом в жизни уже не очень молодого писателя, сперва солдата, а потом военного журналиста.
Воевал он в Европе и в Африке, а когда на исходе третьего года мирного времени вернулся в большую литературу, то оказался в ней не единственным фронтовиком. Едва ли не лучшими своими книгами дебютировали Норман Мейлер («Нагие и мертвые»), Джеймс Джонс («Ныне и вовеки») — военная тема в послевоенной литературе США с них начинается, но ими не исчерпывается. Эти жестокие, горькие и сильные произведения закрепили и продолжили стойкую традицию американского антивоенного романа, существовавшую с XIX века.
Книга Ирвина Шоу «Молодые львы» (1948), мгновенно прославившая автора в своем отечестве и за его пределами, варварски изувеченная потом в голливудской постановке, оказалась в той же обойме военных романов, так как была написана о том же, исходя из той же суммы личного опыта. Разница зачастую определялась тем, у кого учились начинающие романисты.
Джонсу и Мейлеру были ближе всего писатели «потерянного поколения», понявшие ужас первой мировой войны и лживость воспитавшей их морали, но не вынесшие из этого ничего, кроме чувства утраты. Герои, потерявшие все и ничего взамен не приобретшие, были близки их героям. Экзистенциализм послевоенной американской литературы усугублялся тем, что опыт общения с американской армией учил молодого человека совершенно другому. Ни в одной из этих книг борьба с фашизмом не стала главной темой именно потому, что враг был рядом.
Он говорил на том же языке, носил тот же мундир с офицерскими или сержантскими знаками различия. Он, а не нацисты, втаптывал тебя в грязь и посылал на бессмысленную смерть.
Ранние герои Хемингуэя объявляли «сепаратный мир» для себя и ни для кого больше. Только потом, в «Пятой колонне» Филип Роллингс предсказывает «пятьдесят лет необъявленных войн», в которых он будет сражаться против всех воплощений фашизма.
Герои Мейлера, Джонса, Джона Херси лишены и подобия этого чувства: для них война — это прежде всего покушение на их личную свободу. Они ничего не защищают — даже самих себя. Просто тянут бессмысленную, нудную и опасную солдатскую лямку, сводят счеты и нарушают уставы где только возможно.
Сейчас роман «Молодые львы», особенно в сопоставлении со зрелым творчеством Шоу, зияет своими недостатками, слабостями, надуманностью. Но именно здесь Шоу исподволь начинает свою атаку на идею индивидуального преуспевания, ставшую важнейшей опорой «истинно американского характера».
Многие из писателей этого поколения прошли школу Хемингуэя, но лучше многих из них суть его уроков ощутил именно Шоу. Почти всегда он немногословен, диалоги в его произведениях звучат если не с прославленной хемингуэевской краткостью, то с его точностью интонации и подтекста. Конечно, ученик все же не победил учителя — знаменитый «айсберг» хемингуэевской прозы, глубочайший подтекст, укрытый за внешним, за фабулой, за действиями и событиями, у Ирвина Шоу не настолько грандиозен. Кроме достоинств учителя, он так же прочно усваивал его недостатки. А избавляться от них было куда сложнее.
То самое «нежелание рисковать» выработанным раз навсегда удачным стилем, в котором весьма обоснованно упрекал Хемингуэя Уильям Фолкнер, передалось и Шоу. Формой он владел всегда, многие его произведения пятидесятых-шестидесятых годов, прекрасно сделанные, увлекательные, легко читающиеся, принесли ему известность и деньги. Но даже с упомянутым выше скромным (по литературным качествам) дебютом Шоу-романиста их нельзя сравнивать. И все же в книгах этой поры он ищет и пробует, выясняя для себя те ценности, во имя которых его героям следует жить и действовать, а ему писать. Это была нужная и тяжелая работа, и завершилась она не скоро.
В конце шестидесятых — начале семидесятых годов американская литература словно бы пропитывается стремлением изображать современную Америку царством абсурда и равнодушного зла. Вместо оправданной, социально и исторически, критики писатели погружались во всеобщее отрицание, наслаждаясь самим изображением распада морали и разрушения душ. Вопль ожившего мертвеца из рассказа Достоевского «Бобок»: «...Ах, как я хочу обнажиться и заголиться!..» — гремит со страниц книг того же Нормана Мейлера, Джона Барта, Эдгара Доктороу и Курта Воннегута. Пусть такой подход продиктован яростным неприятием происходящего, отчаянием или горестным изумлением, — он ограничивает возможности самого писателя.
Ирвину Шоу, как и его современникам Джону Гарднеру, Рэю Бредбери, Энн Тайлер, Джойс Кэрол Оутс, недостаточно только негативного отношения.
Шоу всегда писал новеллы. В них он предстает совсем другим писателем — как бы менее озабоченным финансовым успехом, блестящим, ироническим и разрешающим себе насмешку, гротеск, внезапную концовку. Новеллы Шоу часто основаны на ситуации, когда благополучный и респектабельный герой вдруг заболевает пронзительным ощущением никчемности, бессмысленности своего образа жизни, где еще недавно все казалось так спокойно и разумно...
«Self-made man», человек, создавший себя, все чаще уступает на страницах американской прозы место «Self-destroyed man» человеку, разрушающему себя.
Гармония мира героев Шоу кажущаяся, прежде всего потому, что они строят свою жизнь и будущее, избирая вместо путеводной звезды хорошо ограненный бриллиант.
В начале статьи была упомянута пестрая биография Шоу: она такова не из любви к приключениям. Он рос в богатой семье, но его отец разорился во время Великой депрессии 1929 года. Всю опасную шаткость жизни, ориентированной только на материальное преуспеяние, Ирвин Шоу испытал на себе.
Социальная зоркость писателя обострилась после второй мировой войны, упрочилось его неприятие самодовольной сытости, гедонизма и стяжательства. Но в это же время и крепнет уверенность писателя в том, что удел человека трагичен; все время идет невидимая отчаянная борьба, где не бывает победителей. Даже «Доллар Вседержитель», как горько сострил когда-то Вашингтон Ирвинг, не всегда помогает выстоять в этой схватке — иногда большие деньги только ужесточают приговор.
Дилогия о семье Джордахов — «Богач, бедняк» и «Нищий, вор» — это повесть о болезнетворном начале, социальной патологии, воплощающейся в стремлении всему на свете найти денежное выражение. Шоу фабулист: вся логика житейских действий его персонажей вычерчена конкретными поступками, цепь которых очень часто ведет их к гибели, физической или нравственной.
Человек, соприкоснувшийся с миром богатых, обречен. Это Шоу знает твердо, и уверенности этой следует почти без отклонений. Но обречен и другой — тот, кто отступил от правил богатой жизни, решил соединить два мира в один. Обречен и тот, кто вспомнил о человечности: попросивший помощи, полюбивший, сжалившийся — погиб. Таких героев в романах Шоу немало, и самый характерный клубок подобных судеб сплетен в одиннадцатом его романе «Хлеб по водам».
В библейском изречении, строчке из Екклезиаста, давшей название роману и заключившей в себе его идею — твори добро, даже расставаясь с нажитым, даже теряя на этом, в конечном счете ты выигрываешь важное и нужное, без чего не прожить, — отразилась и непростая участь автора. Шоу ставит перед собой не в первый раз эту трудную задачу — найти в кризисной, насыщенной конфликтами мрачной реальности Запада пути, ведущие к нравственному возрождению человека, проявление способности к добру и самопожертвованию.
Уже полтора века тому назад Алексис де Токвиль, французский историк, социолог и политический деятель, побывал в Новом Свете и в книге «О демократии в Америке» отметил, что «...жажда обогащения превратилась в преобладающий национальный признак Америки. Мощный поток страстей властно вторгается во все области окружающего мира».
Век Ф.С. Фитцджеральда, считавшего богатых особой расой, миновал. Но вряд ли прав советский критик А. Мулярчик, полагающий, что Шоу не сумел «разделить» американцев, что богатые и бедные суть одна Америка, «обыкновенные богатые, обыкновенные бедные». Пусть Шоу не всегда удается разобраться в реальной сложности происходящего, но нельзя забывать, что свое дело он делает в ситуации, все более обесчеловечивающейся, все более опасной для личности.
С бедой появляется впервые в доме Стрендов Рассел Хейзен, один из главных персонажей романа — избитый, окровавленный, чудом уцелевший. На других страницах он появляется куда более благополучным, но и в первую встречу с ним Шоу дает нам ощутить силу, властность и самообладание своего героя. И все-таки именно из-за Хейзена роман отчасти напоминает возведенную в ранг трагедии историю из марк-твеновского рассказа «Человек, который совратил Гедлиберг».
...В город, где живут достойные, солидные и уважающие себя люди, проникает соблазнитель; казавшаяся нерушимой верность десяти заповедям разлетается в черепки от легкого удара мешка с сорока тысячами золотых долларов. Когда вожделенный приз оказывается фальшивкой, вся история циничным розыгрышем, а изолгавшиеся граждане разоблачили сами себя, — все они пристыжены, но не обескуражены. Им даже легче: теперь не надо стесняться своих истинных натур.
Рассел Хейзен не искуситель и не соблазнитель. Во-первых, он совершенно искренен и последователен в своем желании облагодетельствовать Стрендов. Он не просто платит им за то, что Каролина Стренд не смалодушествовала в Центральном парке и разогнала юных хулиганов. Как верно подмечает американский критик Иоаким Бэр, Хейзен оказывается в положении, типичном для многих богатых, — у него нет времени, чтобы наслаждаться своим богатством и всеми преимуществами своего положения. В некоторых ситуациях они удесятеряют тяжесть его удела — например, в мучительной и жестокой истории отношений Хейзена с давно покинувшей, но не отпускающей его женой.
Намерение Хейзена осчастливить Стрендов окончательно, дав им все, чего им, по его мнению, недостает, возникает у него еще и потому, что Хейзен ощущает в их отношениях все то, чего он сам лишен, — верность, взаимоуважение, спокойное тепло «без признаков смертельной болезни — одиночества». Шоу расценивает попытку Хейзена не столько как порыв доказать, что и его ценности чего-то стоят, могут дать хоть какую-то иллюзию счастья, сколько как желание отвоевать и себе немного радости, сделав добро другому.
Но эта альтруистическая сторона жизни Хейзена будет неизбежно омрачена. Вместе с дарами могущественного благодетеля перед Стрендами распахивается и полный ящик скандальных и неприятных ситуаций. Не только беда привела его в этот дом. И он приводит за собой беды, являющиеся неумолимым логическим следствием его благодеяний.
Хейзен властолюбив — он плоть от плоти нескольких поколений людей, правивших, этой страной, живших в богатстве и обучавшихся в лучших университетах. Добро, которое может сделать Хейзен другим, для него всегда измеримо в его системе эквивалентов — деньгах, постах, количестве подчиненных, деловых знакомствах. Он честолюбив, целеустремлен, превосходно владеет искусством навязывать свою волю другим. В дарах, измеряющих симпатию Хейзена к Стрендам, всегда глубоко сокрыт зародыш будущей расплаты — именно потому, что они сами цена чего-то.
Аллен Стренд — один из наиболее близких самому Шоу героев. Это видно по той неторопливой, задумчивой, философской интонации, которой окрашено присутствие Стренда в книге, как бы ее музыкальной теме. Именно Стренда автор делает героем-свидетелем, чьими глазами нам суждено увидеть наиболее важные моменты происходящего. Стренд — профессиональный преподаватель истории, но скорее, больше учитель, чем историк, скорее воспитатель, нежели исследователь, и свою «плохо оплачиваемую, изнурительную и время от времени опасную» работу он любит так же искренне, как жену и детей, — для него это ценности одного порядка. Пережив целый ряд потрясений и горестных разочарований, Стренд опять ищет душевную опору в своем деле, но не ради себя самого, а ради новых учеников — дерзких, насмешливых, не верящих в идеалы старшего поколения, но воплощающих в себе часть той надежды на спасение Америки, которой не поступается даже Хейзен.
Стренд — не безмятежный мудрец, у которого смятенная душа Хейзена ищет покоя. Не идеальный и не безупречный, это все же хороший человек, честный, добросовестный, способный на бескорыстную дружбу. В предсмертном письме Хейзен грустно улыбается тому, насколько свободны Лесли и Аллен даже от памяти о непрочной и выгодной американской игре в наживу. Именно поэтому Стренд так болезненно переживает события, в той или иной степени явившиеся следствием благодеяний Хейзена. Нет спора, богатство и власть могут помочь осуществить почти все желания, но испытания ими не выдерживает никто из героев романа.
Хейзен не единственный виновник трагических изменений в симпатичном семействе Стрендов, хотя в том же последнем письме всю вину за это берет на себя. Но есть и монолог Лесли, открывающей Аллену глаза на ту тяжелую ношу, которую жена добровольно, ради его душевного спокойствия взвалила на себя. Не такой уж это идиллический островок семейного счастья в море житейских бед, каким он видится Хейзену. Его захлестывают те же волны, на нем оседает та же грязь. Но то, что спасает Стренда, в жизни Хейзена отсутствует напрочь. Его семья симметрична Стренду — был сын, есть дочери, жена, симметричны несчастья, обрушившиеся на обе семьи. Но в одной любят, щадят и берегут друг друга, а в другой идет самоубийственная и затяжная война...
Жена Хейзена Кэтрин является посреди праздника, словно все три шекспировских ведьмы сразу, и перечеркивает всю радость каникул, но зато обнажает еще один аспект душевной драмы Рассела. Его жена, мать его детей, пьяная, отвратительная, нагло и умело создающая скандальную ситуацию, — порождение того мира, которому он продолжает служить, который породил его самого.
Шоу как бы разделяет со своим героем горькое неверие в то, что циничная и беспощадная речь Хейзена, произнесенная им по телевидению, вызовет хотя бы скандал. Американская телесеть знает и более потрясающие сюжеты — например, самоубийство по прямой трансляции, — но и они забываются так же быстро, как утренняя проповедь. А ведь Хейзен говорит о бедствиях страны, видимых им изнутри, — коррупция, политический цинизм, государственный терроризм, парламент воров на том берегу Ист-Ривер, и говорит с такой степенью откровенности, какая для человека его клана, означает политическую смерть. Холодней усмешкой освещено двойное самоубийство.
Хейзен не выдержал испытания, устроенного себе. Все, чем он владел, оказывается ничего не стоящим по сравнению с «банальными» ценностями — дружбой, любовью, бескорыстием. Почти все высокие достоинства Хейзена были продолжением его недостатков — не столько как личности, сколько как члена определенной общественной структуры.
Он не выдерживает испытания добром, ибо искренне верит, что оно лишь некая часть материального и профессионального успеха. Хейзен верит даже не в то, что деньги могут творить добро, а в то, что его можно ценить в деньгах.
В романах Шоу уже появлялись бунтари, аутсайдеры, самоизгнанники, но автор испытывает к ним вполне обоснованное им недоверие. Дилогия о Джордахах, «Вечер в Византии», «Вершина холма» были написаны с настойчивым желанием показать, а если удастся, то и разъяснить, что изменилось в характере и образе, мыслей американца за тридцать с лишним лет. Бунтари — неотъемлемая часть истории послевоенной Америки со времени битников: поколение Гинсберга, Керуака, Сэлинджера виделось воплощением неприятия самодовольного приспособленчества, деляческого прагматизма. Время обнаружило внутреннюю связь этого движения с обществом, которое оно хулило, — битники очень быстро стали частью буржуазной культуры, так как ничего всерьез не задевали. Упреками стареющему поколению, развратившему и предавшему их, в сущности, ограничился весь бунт.
Но «Хлеб по водам» — роман уже другой эпохи: его появление подводит итог напряженному и глубокому поиску, предпринятому Шоу. Юный мятежник Ромеро — бунтарь всерьез, разрушитель, не верящий ни в одно из рекламируемых преимуществ капиталистического общества.
Среди учеников Стренда Ромеро выделялся своими способностями. Но Стренда он явно привлекал качествами, которые в его собственной натуре отсутствуют или развиты слабо, — дерзостью, независимостью, самостоятельностью мышления.
Когда Ромеро позволяет подарить ему модную экипировку, перевести его в престижную школу, открывающую дорогу в престижный университет, он ни на секунду не забывается и не поддается властному обаянию Хейзена.
Выученный беспощадной реальностью гетто, рано повзрослевший, Ромеро видит мир куда трезвее и глубже, чем его благополучные сверстники. Он больше знает о Стренде, чем Стренд о нем, и фактически предсказывает ему его будущее, когда говорит, что Стренд никогда не сможет стать «приходящим преподавателем», а всегда останется воспитателем и будет страдать и радоваться только со своими воспитанниками.
Почему же Ромеро все-таки соглашается на предложение Хейзена? Именно потому, что в отличие от него ненавидит богатых. Стренд не может порвать с Хейзеном, потому что постоянно чувствует, что Хейзен в нем нуждается. Ромеро же стоит в той шеренге героев Шоу, где и старый боксер Доминик Агостийо. с его заповедью: «никогда не доверяй богатым», которую, он дарит
Тому Джордаху, Аксель Джордах с его борьбой в одиночку против всех. Дав ввести себя за руку в чужой мир, Ромеро не хочет приживаться в нем.
Разговор со Стрендом о труде английского историка Гиббояа «История упадка и разрушения Римской империи» позволяет понять истинное отношение Ромеро не только к своим соученикам. Он читал это громадное исследование как книгу о своем времени, «о Британской империи, о толстозадых американцах», как зловещее и точное предсказание гибели страны. Ромеро отождествляет себя не с римлянами, «воображавшими, будто они зажали мир в кулак», а с готами, не носившими роскошных туник и не строившими дворцов, но стершими Рим с лица земли. «Готов» много — они жили с ним по соседству и росли такими же, как он. Пока время великой резни не настало, Ромеро движется по этой стране, как лазутчик, соглядатай, «тейсинтай» — диверсант-смертник.
Удар ножом, нанесенный богатому юному подонку, издевавшемуся над Ромеро, отзывается в судьбах Стренда и Хейзена. Само появление Ромеро словно ускоряет движение Хейзена к гибели — не будь Ромеро, не было бы той встречи Хейзена с сенатором Хитцем. Для Ромеро суд, тюрьма — будущее, к которому он давно готов, судьба его поколения. Ненависть — вот основа его иммунитета, которого у Стренда быть не может. Но она же и причина его дальнейших бед, его неуклонного движения к терроризму.
По-своему привязанный к Стренду, Ромеро не может не презирать его. Ведь даже этот «лучший из гринго» скован той же цепью лжи и предрассудков, которой Ромеро знает цену. Он как бы прямой потомок джек-лондонского «Мексиканца» — Фелипе Риверы. Но, унаследовав его ненависть, Ромеро лишен важнейшего источника духовной силы героя Лондона, его всеподчиняющей любви к революции. Ромеро хочет разрушать не во имя создания лучшего, а во имя самого разрушения.
Деформацию американского общества и морали Шоу показывает, начиная с семьи, тесно связывая их описание с типично американскими бытовыми и социальными проблемами. Это признают и критики — соотечественники Шоу. Семьи распадаются, дети вырастают и уходят, думает Стренд, таков закон жизни. И все же с его семьей это произошло со скоростью, присущей только нашему веку.
В конце романа повзрослевшая и уже по-взрослому несчастная Каролина возвращается к отцу и остается с ним. Тут нет места надежде на возрождение семьи Стрендов, оплота против бесчеловечного и прагматичного общества. Не вернется Джимми, поднявший когда-то в доме Хейзена тост за здоровье богатых и решивший сам стать богатым любой ценой. Опять звучит это слово, но Джимми действительно платит — отказом от юности, от музыки, составлявшей главную ценность его жизни. Теперь он ею торгует. Вспоминаются слова Герцена о «пожилых американских людях в пятнадцать лет». Не вернется Элеонора, отказавшаяся от блестящего будущего, ради возможности быть с любимым человеком. В семье Стрендов это едва ли не единственный человек, не позволивший благодеяниям Хейзена слишком далеко проникнуть в ее жизнь, хотя и тут газета, подаренная им ее мужу, едва не погубила их обоих.
Не встанет из руин бастион Стрендов еще и потому, что здесь роман Шоу начинает постепенно утрачивать историческую конкретность, сохраняя лишь достоверность внешних черт и признаков.
Вряд ли мы найдем в творчестве Шоу другой такой роман, в котором Шоу так же часто и горько сетует об утратах Америки. Хейзен в своей пьяной исповеди говорит, что завидует Аллену, так как он, Аллен, может не иметь дело с ворами, а он, Хейзен, обречен на это. Щедрость Хейзена — еще одно проявление неутолимой тяги к независимости от своей среды. В той же исповеди он втолковывает Стренду, что миром движет не любовь, а «голая алчность, всепоглощающая, преступная... Если бы законы этой страны хоть раз пришли в действие, три четверти наших самых уважаемых граждан очутились бы в тюрьмах...»
Трезвый Хейзен не раскаивается в своей откровенности — напротив, он говорит еще более страшные вещи о поколении, которое отдано во власть нигилизма. Его попытка спасти Ромеро рождена желанием «спасти лучших, откуда бы они ни брались, — с ферм, из трущоб, из поместий, из гетто — это безразлично». Но Ромеро не собирается становиться порядочным американским юношей и спасать Америку от себя самой. Да и Хейзен знает, что его страна «переживает жуткие времена, и если наши лидеры собираются оставаться невежественными и необразованными, мы движемся к катастрофе».
В истории не раз возникала иллюзия, что знаний и профессиональной компетентности довольно, чтобы достичь общественной гармонии. В замысле Хейзена спасти страну с помощью «молодых львов», отрезвить Америку, «случайно забредшую в величие, хотя ничего такого ей не предстояло», — признание глубочайшего банкротства системы, которой он деятельно и умело служит.
Все то положительное, что отыскивает Шоу в своих героях, — результат его стремления найти не только знаки добра, уцелевшие в душах его соотечественников, но и доказать, что оно живо и действует. Шоу не переоценивает Хейзена. Как ни отвратительна его жена в сцене скандала, разыгранного с целью унизить мужа и Стрендов как нищих, затесавшихся на миллионерский бал, все же трудно не поверить ей, когда она предупреждает Аллена и Лесли, что Хейзен может убить их своей щедростью. Однажды вы поскользнетесь, говорит она, и вас выбросят вон, даже не глянув вслед. Шоу рисует Хейзена способным на крайнюю беспощадность — ведь для него Стренды еще и воплощение каких-то его абстрактных представлений о человеческой натуре, а уж от иллюзий Хейзен умеет отказываться.
Границы истинной доброты не там. По Шоу, спасение в истовой и глубокой преданности религии добрых дел. Роллинз, негр-футболист, единственный, с кем сблизился Ромеро в школе, тоже изгой, но он спасен от многого, перед чем Ромеро, беззащитен, Роллинз из богатой семьи. Спасают Ромеро снова деньги — Роллинз вносит за него залог, оставляющий Ромеро на свободе. Роллинз берет Ромеро в свою семью, опекает его до суда, стремится сберечь, и все это, настаивает Шоу, — бескорыстно.
К счастью, «Хлеб по водам» лишен хэппи-энда, которым Шоу не раз злоупотреблял. И все же именно там, где он выискивает и создает «положительные основания» человеческого бытия, роман выглядит наименее достоверно. Драматично положение, в котором оказывается решающий такую задачу художник, потому что Шоу как бы выбирает те условия, что облегчат решение. Точку отсчета он стремится отыскать в рамках ценностей той же системы, которую, на первый взгляд, и разоблачает.
Творите добро не ради воздаяния, и оно к вам вернется. Забывайте о себе ради других — так толкуется фраза из Екклезиаста, давшая название роману. Тема самоотверженности, отказа от своих интересов ради чужой беды все чаще звучит в последних романах Шоу, но способы художественного воплощения этой мысли не всегда адекватны ее значению.
«Хлеб по водам» в меньшей степени уязвим для упрека, что Шоу утверждает позитивную идею, жертвуя правдой повседневной реальности, правдой человеческих отношений в американском обществе. И все же Ирвину Шоу легче ответить на вопрос, что есть зло, чем на вопрос, из чего состоит добро.
После «Хлеба по водам» Шоу успел издать еще один роман — «Допустимые потери», о преуспевающем литературном агенте, вынужденном защищать свою жизнь от неведомого убийцы. Герой постигает ценность существования только перед лицом утраты и с ужасом понимает, что исковеркал много жизней сам, чтобы отнестись к анонимной угрозе безразлично. Только ценой потери — в данном случае здоровья и спокойствия — он выходит на тот путь, который Шоу пытается определить всем своим героям.
Говорить о стойком гуманизме и человечности Шоу нет смысла — они бесспорны. Сложнее другое: объяснить, как удается Шоу их сохранить. Те недостатки художественной системы Шоу, о которых говорилось выше, вполне могут быть отнесены на счет мучительного желания писателя одновременно и не признаваться себе в гигантском размере утрат, постигших Америку, и раскрыть американцам глаза на беду, которая вот-вот перешагнет последние дамбы и захлестнет все.
Уитмен горестно воскликнул когда-то, на закате жизни, видя, как уничтожаются прославлявшиеся им добродетели: «Такой конец — после такого начала!».
Ирвин Шоу словно бы ощущает то же самое — не любить свою страну невозможно, как невозможно и примириться с нею. Трудному делу отдал свой талант писатель, и с каждой книгой последнего десятилетия оно словно бы становилось все труднее…
Л-ра: Сибирские огни. – 1987. – № 4. – С. 122-126.
Произведения
Критика