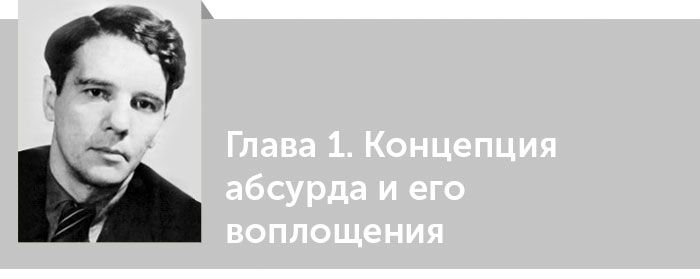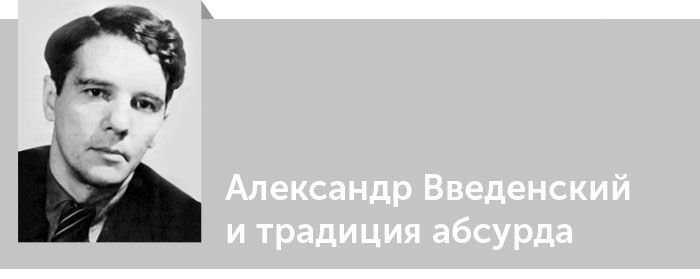Глава 3. Александр Введенский и традиция абсурда
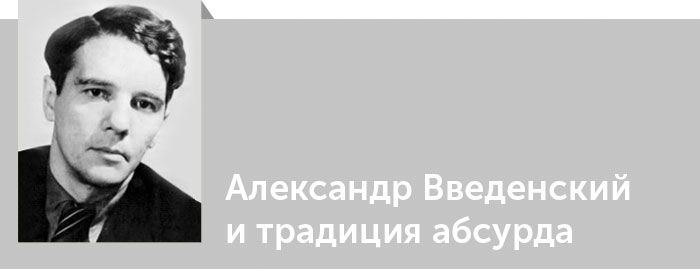
3.1. А. И. Введенский и русская философия экзистенциализма
В предыдущей главе нами была предпринята попытка взглянуть на творчество А. Введенского в нескольких интересующих нас ракурсах. Каждое из проведенных нами рассмотрений наметило путь к исследованию категорий мировоззрения: времени, смерти, рационального, иррационального, божественного. Данная часть работы посвящена попытке проанализировать те сложные противоречивые отношения между указанными категориями, которые характеризовали творчество Введенского, и обнаружить сходства с некоторыми установками экзистенциальной мысли Льва Шестова. Данная попытка обусловлена необходимостью включения творчества А. Введенского в более широкий контекст изучения традиции абсурда. Для этого будет произведен сопоставительный анализ основополагающих концепций философии абсурда Л. Шестова и концепции бессмыслицы А. Введенского в четырех плоскостях их реализации: онтологической, фидеистической, проблемной и игровой.
Говоря о философии экзистенциализма, мы исходим из того, что данное определение, при всей его условности, является историко-философским обозначением для совокупности авторских рассуждений о существовании человека в рамках философии и литературы. Совершенно справедливо исследовательница Т. Лифинцева полагает, что основными темами, присущими экзистенциальной философии являются: «1) индивид (личность) и система; 2) интенциональность сознания; 3) бытие и ничто; 4) абсурдность; 5) природа и значение выбора; 6) роль пограничного опыта (пограничной ситуации); 7) смысл и значение коммуникации»1.
Возникновение русской экзистенциальной философии ни в какой степени не обусловлено западноевропейской традицией экзистенциализма. Она является естественным и самобытным проявлением русской духовности. Русский экзистенциализм, в отличие от французского, определяется религиозно-теистической и катастрофически-эсхатологической доминантой, категорической постановкой вопроса о значении знания, трагической философией личности, утверждением ее конфликта с категории необходимости. Русский экзистенциализм наиболее полно и убедительно представлен философией Николая Александровича Бердяева и Льва Исааковича Шестова. По словам исследователя, их имена «часто упоминали вместе как выразителей особого российского «религиозного экзистенциализма», сформулировавших его основные положения задолго до Карла Ясперса, Мартина Хайдеггера и Жан-Поля Сартра»2. Подтверждает данное предположение и Рената Гальцева, говоря, что «он [Шестов — прим А.Р.] экзистенциалист, появившийся задолго до экзистенциализма»3. Философия Л. Шестова как одного из выдающихся представителей русского экзистенциализма привлекала к себе внимание в большей степени западных, чем отечественных исследователей. Внимательное изучение текстов А. Введенского дает веские основания полагать, что исходные положения, интуиции, возведение опыта переживания абсурда в мировоззрение, которые лежат в основе рассуждений Л. Шестова, обнаруживают значительные сходства с бескомпромиссностью положений писателя-абсурдиста.
Мировоззрение Л. Шестова было сформировано, прежде всего, литературой и поэзией. Влияние литературы было одним из самых значительных факторов духовного развития философа. Л. Шестов предстает как «философский эссеист»4, философ
литературного типа, как представитель адогматического мышления. О себе Шестов в разговоре с
Фонданом говорил: «Я никогда в университете не изучал философии, никогда не посещал лекций по философии и
не считал себя философом. Меня принимали за литературного критика, так как мои
первые книги были посвящены Шекспиру, Толстому, Чехову. Да я и сам себя считал
скорее критиком [чем философом]»5. О своем первом опыте столкновения
с абсурдностью мира, понимаемого как нарушение причинно-следственных связей и
дискретность течения времени Шестов рассказывает в статье о Э. Гуссерле. Он
пишет: «Может быть, иным это покажется странным, — но моим первым учителем философии был
Шекспир. От него я услышал столь загадочное и непостижимое, а вместе с тем,
столь грозное и тревожное: время вышло из своей колеи.»6.
На протяжении всего творческого пути рассуждениям Шестова были присущи антиномизм, адогматизм, апофатичность и беспочвенность. Он стал богоискателем, так и не выразившим до конца свой символ веры, не сделавшим окончательный выбор между умозрением и откровением. Все это во многом применимо и к основным художественно-философским установкам А. Введенского. Этим объясняется целесообразность настоящего сравнительного исследования: Введенский как поэт-философ сопоставляется с философом-писателем Шестовым.
Об А. Введенском можно сказать, что он исследует основы человеческого бытия в «пограничной ситуации», где разделяющая черта между жизнью и смертью, рациональным и иррациональным, бытием и небытием размыта. Антигуманный характер эпохи, в которой пришлось существовать Введенскому, вызывает необходимость взглянуть на творчество поэта через призму «экзистенции». Лирический герой Введенского является средством осмысления действительности, раскрытия сущности бытия. Онтологический конфликт представлен через характеристику переживаний и размышлений лирического героя и второстепенных персонажей. Герои произведений А. Введенского преимущественно лишены внешних примет, индивидуальных черт, а их переживания приобретают онтологическое измерение, так как объектом исследования Введенского является проблема Времени, Смерти и Бога, сути человеческого существования, иначе экзистенции. Подобная проблематика была характерна и для экзистенциальной философии, представители которой стремились найти источник и первопричину переживания, которое выделяет человека из природы. Л. Шестов утверждает, что есть только один философский вопрос — как жить, вопрос жизни и смерти7
Одной из основных черт, сближающих рассматриваемых авторов является подход к их собственному творчеству. Поэтическое исследование мира и человека в творчестве Введенского и адогматические рассуждения Шестова осуществляются исходя из собственного опыта, а не с позиции отстраненного познающего субъекта. Однако, стоит оговориться, что у Введенского философская мысль претерпевает более сложное художественное преломление. В некоторых произведениях, особенно ранних (Стихи из цикла Дивертисмент), установка на поэтическое исследование проявляется не со всей очевидностью, как это, например, происходит в более зрелом творчестве (Значение моря, Потец). В этом смысле Шестов и Введенский наследуют философскую традицию, представленную именами Тертуллиана, Б. Паскаля и др. Схожие установки можно найти, например, у Кьеркегора. Таким образом, определяющий мотив установления значения и крайне распространенную в художественной практике вопросно-ответную структуру композиции А. Введенского можно сопоставить с формой адогматического исследования Л. Шестова — трагическим вопрошанием.
Приведем один предельно красноречивый фрагмент из афоризма №14 второй части Апофеоза беспочвенности (1905): «...молодость никогда и не спрашивает. О чем ей спрашивать? Разве песня соловья, майское утро, цветок сирени, веселый смех и все прочие предикаты молодости требуют истолкования? Наоборот, всякое истолкование к ним сводится. Настоящие вопросы впервые возникают у человека при столкновении со злом. Заклевал ястреб соловья, увяли цветы, заморозил Борей смеявшегося юношу, и мы в испуге начинаем спрашивать. «Вот оно зло! Правду говорили старики! Недаром и в книгах называют нашу землю юдолью плача и печали!»»9. Стоит
обратить внимание, что с формальной точки зрения это вообще не вопрос. Здесь мы
имеем дело скорее с некой констатацией, поскольку в конце не случайно вместо вопросительного знака, стоит
восклицательный. Учитывая парадоксальность способа постановки исходного
вопроса, можно понять всю специфичность ответа на него. В связи с этим, так же
как и в случае с Введенским, при анализе творчества двух авторов невозможно ограничиваться категориями исключительно
формальной логики. А о способе движения мысли их можно сказать, что это
«сложная взаимосвязь иррациональных переживаний»10.
Кризис современности, согласно Шестову, является результатом отказа от идеи мира как бесконечности возможностей, в котором возможен подлинный опыт переживания абсурда. Кризис этот начался в древнюю эпоху вместе с системами Аристотеля и Платона, которые запустили процесс устранения из области философии всего, что носит признаки случайности и не соответствует причинно-следственным отношениям в мире. Философия абсурда зарождается как реакция на чрезмерную рационализацию и стремление заключить мир в рамки системы научного знания. О философии абсурда сложно говорить как о sensu stricto философии, поскольку главные ее положения зачастую находят свое воплощение не в строгих философских трактатах, а скорее в менее обусловленных формах художественной литературы. У Введенского абсурд находил воплощение в стихотворениях, поэмах и драмах, Шестов в свою очередь открыл новый для русской литературы жанр — жанр афористической философской прозы, в котором постановка серьезных вопросов сочетается с нарочитой парадоксальностью, афористичностью стиля. Афористическая форма изложения восходит к его немецкому учителю — Ф. Ницше. Шестов полагал, что самой большой ценностью литературного творчества является свободная мысль. Но при этом он считал, что более обусловленные формы как, например, роман, искажают ощущения и переживания, поскольку стремятся к последовательности, единству, цельности формы и подчиненности общей идее. Поэтому афоризм стал для Шестова «лучшей литературной формой», которая «освобождает от последовательности и синтеза» и разрушает принцип подчинения всех идей, заключенных в произведении, одной общей. Игра с формой в творчестве Введенского выражается, например, посредством введения в структуру поэмы или драмы в качестве героев абстрактных категорий: вопрос, ответ, душа. Или же абсурдизирующие «несуществующие ответы ласточки» (Сутки) или реплики «бегущего волка» (Факт, теория и Бог). Итак, в критическом переосмыслении формальной стороны творчества интересующих нас авторов мы обнаруживаем общую установку на игровой абсурд.
Основным мотивом экзистенциальных рассуждений Л. Шестова является философия трагедии и противопоставление ее научному знанию, которое берет свое начало в вечных истинах. На начальном этапе творческого пути философия трагедии означает апофеоз беспочвенности, в более поздних работах она становится библейской философией, объединяющей в себе абсурдную веру с концепцией трагического в жизни человека. А. Камю в Мифе о Сизифе (Эссе об абсурде) оценил оригинальный подход Л. И. Шестова к проблеме абсурдности человеческого бытия, но осудил его взгляды по вопросу разума, опыта, которые не оставляют человеку надежды.
Читая последние слова сочинения Добро в учении гр. Толстого, трудно смириться с тем, что оно, заканчивается там, где должна лишь только начаться его основная часть: «Ницше открыл путь. Нужно искать того, что выше сострадания, выше добра. Нужно искать Бога»11. Таким
образом, открывается общая тематика и направление мысли Шестова и Введенского.
«Нужно искать Бога» Л. Шестова можно соотнести с выражением ощущения
богооставленности мира в произведении Суд ушел, в котором состояние
тревоги проявляется в трагическом вопрошании героя Введенского: «БОГ БОГ ГДЕ ЖЕ
ТЫ / БОГ БОГ Я ОДИН»12
Отсутствие этического измерения в творчестве «авторитета бессмыслицы», а также мотивы богооставленности и поиска Бога находят свое выражение в поэме Факт, Теория и Бог. Оно, как уже было указано ранее, написано в строго диалогической форме: вопрос — ответ. В этом произведении обнаруживается точка пересечения философских и творческих установок интересующих нас авторов. «Нужно искать Бога» — данная интуиция становится одним из самых важных импульсов к дальнейшему творчеству обоих писателей.
С поиском Бога связана критика рационализма и научного мировоззрения, что в принципе не создает положительного представления о Боге. Интересующие нас авторы о Боге говорят скорее в категориях апофатической теологии, сущностью которой является выражение Божественного путем последовательного отрицания всех возможных его определений как несоизмеримых ему. Это особый способ познания Бога через понимание того, чем Он не является. Путь к Богу, согласно Введенскому и Шестову, ведет не через рациональное доказательство Его существования. Приход к Богу возможен лишь в отказе от знания, от умозрения. Автор Sola fide не был христианином, поэтому апофатическая концепция Бога из Ветхого Завета была ему ближе. Согласно этой концепции, О Боге известно только то, что Он дал людям и это знание не исходит от разума. Бог понимается как Deus absconditis. Путь к Богу не ведет через рациональные доказательства Его существования, а через абсурдную с точки зрения разума веру. Суть абсурдной веры заключается, согласно Шестову, в том, что она не требует доказательств. Философ полагает, что «человек ищет свободы. Он рвется к богам и божественному, хотя он о богах и божественном ничего «не знает» или, если хотите, — потому что ничего не знает. О богах и знать ничего не нужно»13. Поэтому
автор Potestas clavium избирает путь Авраама: «Авраам пошел, сам не зная, куда
идет. А если бы стал проверять — никогда бы не дошел до обетованной земли.
Стало быть, проверки, оглядки — «свет» знания не всегда ведет к лучшему, как нас учили
и учат думать»14. Таким образом, не знание, а абсурдная вера через
отрицание разума указывает на свойства Бога: беспочвенность, существование вне
законов добра и зла. Польский исследователь считает, что нельзя философию
абсурда Л. Шестова сводить к философии трагедии, отчаяния, безвыходности, поскольку это было бы
непростительным упрощением15.
Применение богословского термина к изучению литературных произведений А. Введенского обусловлено тем, что поэтические «вещи» Введенского, по мнению Я. Друскина, тяготеют к философско-теологическим трактатам в конкретных художественных формах16. Апофатика
— это особый способ ведения разговора о том, что превосходит слово. Такой путь
познания осуществляется только через отрицание, которое предпринимается, чтобы
«неведением и невидением узреть и познать Того, Кто превосходит созерцание и
познание даже в невидении и в неведении»17. Дионисий Ареопагит
описывает странствие Моисея, который, удалившись и отрешившись от всех, «вступает
в глубину мистического Мрака неведения», в котором упраздняется всякое знание и «соединяется с Тем, Кто
недоступен никакому познанию, в совершенном неведении обретает он сверхразумное ведение»18
ВОПРОС
Но кто тебя здесь повстречал
в столичном этом мраке,
где вьются гнёзда надо мной
где нет зелёных листьев,
и страждет человек земной,
спят раки.
Где моря нет?
Где нет значительной величины воды
Скажи кто ты?
Тут мрак палат.
[ПСС, с. 195]
В этом мраке отрицается присутствие жизни, нарочитая архаизация — страждет — намечает бесспорные религиозные коннотации; спящие раки — пример характерной модели бессмыслицы за счет подстановки противоположного по смыслу понятия (вместо очевидного зимуют) усиливают ощущение иной действительности, ведь раки, как известно не спят зимой; завершением становится отрицание «значительной величины воды», а значит, отрицание власти знания и разума. Стоит отметить, что в поэтическом мире Введенского категории меры и числа принадлежат к числу наиболее критикуемых.
В стихотворении Суд ушел «мрак» образует пару рифм с «дурак», что, на наш взгляд, также неслучайно:
но однако не забудьте
что кругом был дикий мрак
быстро ехал на минуте
как уж сказано дурак
[ПСС, с. 128]
По этому поводу стоит напомнить об анализе произведения Очевидец и крыса в предыдущей главе. В связи с этим стихотворением была рассмотрена парадоксальность святости в художественной трактовке А. Введенского. Трагическое состояние, с часто присущей ему противоречивостью, оказывается здесь особого рода парадоксом, настигающим человека и открывающим ему путь к сверхразумному. С апологией вызывающего поведения мистиков и святых у Введенского можно сравнить отношение к ним Шестова. Философ находит защитительные слова в адрес юродивых и кликуш19
В Кончине моря представлено хаотичное безумное движение во мраке:
как звери бегаем во мраке
откинув шпаги мысли фраки
в руке дымится банка света
взгляни могущее на это
[ПСС, с. 127]
Кроме всего, у Введенского познавательное отрицание появляется в образе Бога «без очей без рук без ног»20, который
является принципиальным апофатическим отказом уподобить божественное
человеческому. В Разговорах с Л. Липавским Введенский утверждает, что своей
поэтической практикой «посягнул на понятия, на исходные обобщения»: «Этим я как
бы провел поэтическую критику разума — более основательную, чем та отвлеченная
[И. Канта — прим. А.Р.]»21
Л. Шестов продолжил традицию критики разума С. Кьеркегора, в которой датский философ утверждал, что разуму не суждено постичь внутреннюю сущность человека. Разум с его категориями не способен ни понять, ни выразить существования человека. Приведенные выше примеры показывают, что Введенский несознательно22
Другим важным мотивом в творчестве интересующих нас авторов является библейский мотив грехопадения (как метафизическое обоснование иррационализма). Сказание о грехопадении начало привлекать внимание Л. Шестова уже в начале его творческого пути. Вероятно, самое раннее обращение Шестова к этой теме имеется в конце предисловия к работе Добро в учении гр. Толстого и Ницше (1900). Вот это место: «Хотя мы и не знаем до сих пор, есть ли дерево познания также и дерево жизни, но для нас уже выбора нет. Мы вкусили от плодов первого.»23. Л.
Шестов формулирует мысль, согласно которой грехопадение связано с познанием, с
познанием добра и зла. Человек перестал питаться от древа жизни и начал
питаться от древа познания: «человек поддался искушению, вкусил от
запретных плодов, глаза его открылись, и он стал знающим. Что ему открылось?
Что он узнал? Открылось ему то, что открылось греческим философам и индусским
мудрецам: Божественное «добро зло» не оправдало себя — в сотворенном мире не
все добро, в сотворенном мире — и именно потому, что он сотворен, — не может
не быть зла, притом много зла и зла нестерпимого. Об этом свидетельствует с
непререкаемой очевидностью все, что нас окружает — непосредственные данные сознания; и тот, кто
глядит на мир с «открытыми глазами», тот, кто «знает», иначе об этом судить не
может. С того момента, когда человек стал «знающим», иначе говоря, вместе со «знанием»
вошел в мир грех, а за грехом и зло. Так по Библии»24
Можно предположить, что Введенский исходит из того же представления о сути этого библейского сказания. В Госте на коне появляется образ Бога и грехопадения человека:
Я решил
я согрешил
значит Бог меня лишил
воли, тела и ума.
Ко мне вернулся день вчерашний.
[ПСС, с. 182]
Мотив грехопадения у Введенского в несколько сниженном варианте воплощается в стихотворении Битва. Здесь ведется беседа между «неизвестно кем», «человеком», «малюткой виной» и «ангелом»:
МАЛЮТКА ВИНА.
умираю умираю
и скучаю и скорблю
дней тарелку озираю
боль зловещую терплю
[ПСС, с. 120]
Образ дополняет и проясняет фрагмент из поэмы Кругом возможно Бог:
Вдруг видит Фомин дом
это зданье козла
Но полагает в расчёте седом,
Что это тарелка добра и зла.
[ПСС, с. 143]
В данном случае мы сталкиваемся с характерным приемом Введенского, который производит снижающее остранение и как результат — в образе «дней тарелки» заключены дни жизни, а в «тарелке добра и зла» соединяются жизнь и грехопадение. Я. Друскин считает, что данный образ можно истолковать по Кьеркегору, тогда время начинается с грехопадения, то есть с вкушения плодов древа познания добра и зла25
ФАКТ.
Я вижу всё и говорю
и ничего не говорю.
Я всё узнал. Я понимаю
я мысль из тела вынимаю
кладу на стол сию змею
её ровесницу мою.
[ПСС, с. 115]
В данном фрагменте, кроме характерной апофатики Введенского как одного из определяющих принципов поэтики, мысль отождествляется со змеей, ровесницей Факта, что собственно и наводит на мысль о том, что в этом произведении происходит сложная реконструкция важнейшего для духовной культуры человечества образа грехопадения. Другой любопытной реализацией мотива грехопадения является следующий фрагмент из поэмы Кругом возможно Бог:
НАРОДЫ.
Мы бедняк, мы бедняк
В зеркало глядим.
В этом зеркале земля
Отразилась как змея.
Её мы будем изучать.
При изучении земли
Иных в больницу увезли
В сумасшедший дом.
[ПСС, с. 155]
«Гордые народы» являются потомками первых людей, вкусивших плод познания; зеркало предстает как инструмент для изучения земли, но оно не дает подлинного знания, не позволяет проникнуть вглубь, оно лишь отражает поверхность этого мира. Змей-искуситель появляется в зеркале как напоминание о человеческой дерзости по отношению к Богу. Люди, вооруженные лишь разумом, при попытке изучить землю, понять мир, непременно сходят с ума. В понимании Введенского, всякое деятельное вмешательство в жизнь неизбежно заставляет прибегать к услугам рассудка, увеличивает его (разума) полномочия, а значит, ведет к новому искажению действительности, очередному насилию над ней. Разум не способен создать реальное, он производит только мнимое, иллюзорное.
Поэтому, чтобы «понять мир», надо «перестать отождествляться с мышлением»26
Отрицание познавательной способности человека приводит автора Некоторого количества разговоров к онтологической неуверенности и экзистенциальной тревоге. У Введенского одна из основополагающих тем экзистенциализма — бытие и ничто — выражается неуверенностью в реальности собственного существования:
ОН.
Мы не верим, что мы спим.
Мы не верим, что мы здесь
Мы не верим, что грустим
Мы не верим, что мы есть
(...)
Мы не верим, что мы дышим
Мы не верим, что мы пишем
Мы не верим, что мы слышим,
Мы не верим, что молчим
[ПСС, с. 199, 206]
Данная констатация во многом созвучна провозглашенному Шестовым апофеозу беспочвенности. С приобретением знания человек все более ограничивает пространство своего существования, все более отчуждается от божественного начала.
Согласно Шестову, для того чтобы перейти к подлинной действительности, миру свободы, неограниченных возможностей, необходимо пережить внутреннюю трагедию. Представляется, что Введенский так же исходит из этого положения, поскольку очень частым мотивом его творчества является некое засмертное странствие. Трагедия в виде наступления смерти становится функцией преодоления мира, обусловленного законами разума. Об этой функции смерти было сказано в предыдущей главе при рассмотрении темы с одноименным названием (Человек веселый Франц, Кругом возможно Бог). В основу сюжета Четырех описаний легла беседа таинственных персонажей: Зумира, Кумира, Чумира и Тумира. В определенной очередности они дают описания четырех смертей и предшествовавшей им жизней. Каждый рассказывает о своей смерти — двое из них погибли на войне, один умер от апоплексического удара, а четвертый совершил самоубийство. Смерть во всех ее проявлениях вырывает героев из автоматизма существования, детерминированного разумом. Иными словами, Введенский исследует область «пограничного состояния». Герои Введенского в финале подтверждают наше изначальное предположение:
ЗУМИР
Мы выслушали смерти описанья
Мы обозрели эти сообщенья.
От умирающих умов
Теперь для нашего сознанья,
Нет больше разницы годов
Пространство стало реже,
И все слова паук, беседка, человек, одни и
те же
Кто дед, кто внук,
Кто маргаритка а кто воин,
Мы все исчадия наук,
И нами смертный час усвоен.
[ПСС, с. 192]
Время, бывшее категорией разума, отныне упразднено: «теперь для нашего сознанья, / нет больше разницы годов. В словах Зумира имеется конкретные инфернальные коннотации, связанные с наукой, знанием — «мы все исчадия наук». Исчадие, понимаемое как потомство тьмы, дьявола или ада, вызывает мысль о ужасе или отвращении к себе. В пространстве, находящимся вне разума, слова «паук, беседка, человек» отождествляются. Описание жизни перед смертью и после смерти очерчивают особое пространство размышлений автора Элегии. В связи с широко представленной темой смерти у Введенского важно отметить экзистенциальную составляющую этого аспекта. Шестов по поводу науки говорил, что она не задумывается о сохранении жизни. Она поступает с ней, как с насекомым. Философ-экзистенциалист описывал процесс изучения и понимания жизни ученым: «Он прикалывает его булавкой и, выждав, чтоб оно перестало трепетать и бросаться, рассматривает его и потом рассказывает нам подробно о его строении. Но мертвое насекомое — интересно. Наколотая же на булавку мертвая жизнь — это никому ненужная нелепость»27
В творчестве Введенского отражен взгляд на действительность как на бесконечность разнородных дробящихся частей, которые некогда, до вмешательства разума, составляли мир как одно целое. С того момента, как в сознание человека закралось сомнение в правомерности подобного положения вещей и связей между ними, человек оказался в мире разрушенных причинно-следственных отношений.
Данная констатация отнюдь не лишает мир единства и целостности. Подлинный мир, согласно Введенскому и Шестову, находится за пределами человеческого понимания. Этот мир не подчинен человеческому знанию, он обладает устойчивыми связями и идеальной стройностью. Однако интересующие нас авторы считают, что логика этого мира и отношения в нем установленные непознаваемы разумом и не могут быть описаны языком, не соответствующим миру ни в каком, «ни в элементарном ни в сложном его понимании». Человек является пленником своего разума и человеческого знания. Единственной реальностью этого мира является смерть. И философ, и поэт пытаются описать существование человека, который не приемлет разума, который не верит подлинность содержания, выражаемого языком. Слова, призванные описывать внутреннюю и внешнюю реальность не в состоянии выполнить эту задачу, в результате чего рождается непонимание другого человека. Непонимание в свою очередь ведет к разрушению нормального общения, а значит, и к отчуждению от другого человека и мира в целом. Отчуждение рождает страх и усиление ощущения неизбежности смерти. Таким образом, рассуждения Введенского и Шестова объединяет понятие онтологического (мировоззренческого) абсурда, который выражается как протест против отчуждения от мира. В вопросах онтологии Шестов и Введенский отстаивают позицию, согласно которой бытие постигается в нерационализируемом опыте и в этой нерационализируемости абсолютно противоречащем разуму. Бытие фантастично в своей сути, и даже действие необходимости, невесть откуда ворвавшейся в мир, отнюдь не имеет естественного порядка и также таит необъяснимый, фантастический элемент, который можно сравнить с хаосом как бесконечностью возможностей, абсурдом и Богом. В этом несомненная близость мировидения Введенского, с одной стороны, и Л. Шестова, с другой.
Нами была предпринята попытка рассмотреть концепцию бессмыслицы А. Введенского и ее экзистенциальную составляющую в контексте главных положений философии абсурда Л. Шестова. В самом начале было указано на то, что исходной творческой установкой обоих авторов является игровой абсурд. Он показывает, что собственно философская работа авторов направлена на деконструкцию рационального видения мира. Сущность этих устремлений заключалась в устранении умозрения, неверии в его возможности и стремление к откровению посредством принципов апофатической теологии. Важным аспектом, который стоит особо подчеркнуть, является приверженность Введенского и Шестова мистицизму и иррационализму. Оба автора делают акцент на принципиальной несводимости жизни к мышлению.
3.2. А. И. Введенский и западноевропейский театр абсурда
Литература абсурда — это явление, выходящее далеко за географические границы стран Европы. В этой главе мы выдвигаем тезис о том, что художественная практика Александра Введенского предвосхищает опыт западного театра абсурда и в связи с этим его фамилия и творчество должны рассматриваться в рамках этого художественного явления, а на карте европейской литературы абсурда должен учитываться важный центр, коим в 20-30-е гг. являлся Ленинград.
В предисловии ко второму тому полного собрания произведений Введенского М. Мейлах посвящает проблеме сопоставления художественного опыта Введенского и послевоенного театра абсурда всего несколько строк. Свою краткую характеристику пьесы Введенского он начинает с утверждения правомерности сопоставления театра ОБЭРИУ и французского послевоенного театра абсурда: «Пьеса Елка у Ивановых, — пишет исследователь, — может считаться предвосхищением западного театра абсурда, который она опередила на десятилетие»28
По словам философа, произведения Введенского не имеют ничего общего ни с «литературой подсознания», ни с сюрреализмом29.
Современная западноевропейская литература, — пишет Я. Друскин, — «создала за
последние 15 или 20 лет театр абсурда (Ионеско, Беккет и др.). Он был создан в
России за 20 или 25 лет до этого поэтами и драматургами А. И. Введенским и Д.
И. Хармсом»30
Мартин Эсслин ввел в употребление понятие «театр абсурда» для выделения из широкого художественного потока абсурдистских драм, написанных, главным образом, в 50-х и 60-х годах XX века, в которых разделяется точка зрения на то, что человек живет в разладе с миром, в который он погружен. Данное определение восходит к эссе об абсурде Миф о Сизифе французского философа А. Камю. Философ представляет положение человека как лишенное смысла, абсурдное в своей основе. Человек лишается последних иллюзий о мире и ощущает себя посторонним. Зарождение театра абсурда можно также рассматривать как реакция на устранение религиозного измерения из жизни человека. Театр абсурда стал выражением трагического чувства потери определенности, тем самым, парадоксально обнаружил близость к религиозным исканиям века.
Стоит заметить, что название «театр абсурда», под которым понимаются пьесы драматургов-абсурдистов, не представляет собой никакой самостоятельной школы. М. Эсслин подчеркивает, что театр абсурда не является по своей сути только французским явлением. Он широко использует традиции Англии, Германии, Италии и других стран. Более того, ведущие представители театра абсурда, жившие в Париже и писавшие на французском языке, не были французами31
В пьесах представителей театра абсурда человек поставлен лицом ко времени и пребывает в ожидании между рождением и смертью. Человек в театре абсурда всегда одинок, заключен в рамки своего собственного сознания и языка. Человек, терзаемый сомнениями, занят основными проблемами существования: жизни и смерти, истинного и ложного, изоляции и коммуникации. Театр абсурда констатирует существование мира, в котором отменены всеобъемлющие системы ценностей. Переосмысление основ мироздания и мироощущения приводит театр абсурда к противопоставлению человека сфере религиозной истины. Содержанием нового театра становится страх, сомнение человека в своих знаниях и приобретенном опыте. Подобное содержание определяет форму театра абсурда или, как его еще по-другому называют, театра парадокса. Театр абсурда ставит под сомнение все твердыни предыдущих эпох, поэтому форма становится предельно условной и тем самым противостоит четкой структуре «реалистического» театра. Кроме того, одной из отличительных черт драмы абсурда было её недоверие к языку как средству общения. Слова больше не выражали сущности человеческого опыта. Театр абсурда утвердил несостоятельность дискурсивной логики и языка как средства общения, продемонстрировав зыблемость любой мысли и переживания. В результате утверждения новых установок были отвергнуты традиционные аксиомы, как единство времени, места и действия, логика характера или необходимость сюжета. Отныне сюжет стал производной сложного сплетения вербальных ассоциаций. Драма абсурда отвергла драматический конфликт. Для театра абсурда стала характерной ситуативность в отличие от традиционного театра, в котором события происходят последовательно.
Драма абсурда разрушает любые логические построения. Все алогичное и логически невозможное становится предметом художественного исследования и эксперимента. Пытаясь разрушить ограничения логики и языка, театр абсурда старается достигнуть чистого опыта, необусловленного ложными категориями познания.
В одном из интервью Ионеско дает следующее определение театру абсурда: «Театр абсурда — это театр правды: это то, что мы все постоянно чувствуем. Но «абсурд» в дурном смысле слова — это натуралистический театр, это театр реалистический. Я часто говорю, что реальность нереалистична, что реализм — только школа, такая же условность, как и все остальные»32
По словам Эсслина, упадок религии маскировался до конца Второй мировой войны суррогатом веры в прогресс, коммунизмом, национализмом и прочими тоталитарными заблуждениями35. Чувство метафизического страдания и абсурдности человеческого удела легли в основу главных тем театра абсурда, среди которых, следует выделить тему смерти, Бога и времени. К данной триаде как отдельная тема примыкает вопрос разрушения коммуникации, или, «трагедия языка». Указанные темы были предметом художественного осмысления задолго до появления западноевропейского театра абсурда. А. Введенский, как это было показано в предыдущей главе, в рамках собственных художественных поисков пришел к выводам, которые были озвучены несколько лет спустя Э. Ионеско, С. Беккетом, А. Адамовым и другими представителями театра абсурда. В дальнейшей части работы будет предпринята попытка реконструкции истории формирования довоенного театра абсурда А. Введенского. Для доказательства истинности выдвинутого в начале данного раздела тезиса о художественных опытах «авторитета бессмыслицы», которые опередили и во многом предвосхитили западноевропейский театр абсурда, будет проведен сопоставительный анализ через призму заявленных тем (время, смерть, Бог) пьесы А. Введенского Елка у Ивановых с пьесами, ставшими классикой послевоенного театра абсурда, — Лысой певицей Э. Ионеско и В ожидании Годо С. Беккета. Вопрос художественного воплощения проблемы разрушения акта коммуникации, как одного из главного истоков абсурда у интересующих нас авторов, будет рассмотрен в заключительной части данного раздела. Для этого мы воспользуемся классификацией «Постулатов Нормальной Коммуникации», предложенной О. и И. Ревзиными.
3.2.1. Театр А. И. Введенского и антимиметическая драма
История своеобразного театра А. И. Введенского небогата, тем не менее она заслуживает отдельного и непростого дискурса. Вместе с возвращением читателю наследия А. Введенского, его произведения вновь обретают сценическую жизнь, подтверждая художественную ценность экспериментов автора Елки у Ивановых в области драматургии. В дальнейшей части настоящей работы будут прослежены история формирования концепции театра А. Введенского, а также эволюция театрально-эстетических установок, которые сопровождали данный процесс.
Уже само чтение автором своих произведений на сцене можно с уверенностью назвать обретением ими сценической действительности. В предложенном ракурсе точкой отсчета сценической жизни произведений А. Введенского следует считать первые совместные чтения собственных заумных стихов с режиссером и драматургом Игорем Терентьевым в середине 20-х годов в ГИНХУКе художникам, среди которых были Татлин, Матюшин, Мансуров и Эндер. Следующим событием стал вечер заумников в октябре 1925 года, на котором Введенский выступал с прозой, а Туфанов огласил свой Манифест. Однако первой и самой серьезной попыткой создания своего театра является работа театральной группы «Радикс» при ГИНХУКе при содействии К. Малевича. Театральный коллектив «Радикс» направил свою оригинальную просьбу о разрешении репетировать в помещениях ГИНХУКа основоположнику супрематизма. «Прошение» представляло собой коллаж из двух кусков материала — голубого и желтого цвета, трети пятирублевой банкноты, изящного полукруга, покрытого черной и позолоченной бумагой, в котором были выражены ориентиры и программные установки нового театра: «Организовавшаяся театральная группа «Радикс», экспериментирующая в области внеэмоционального и бессюжетного искусства, ставящая своей целью создание произведений чистого театра, в неподчинении его литературе — все моменты, входящие в композицию представления, РАВНОЦЕННЫ»36. Осенью 1926 года «Радикс» организует постановку пьесы, которую должны были приготовить Введенский с Хармсом, а поставить на сцене — Г. Кацман. Для постановки избирается пьеса Моя мама вся в часах, название которой было взято из заглавия одного из несохранившихся произведений Введенского. По словам Г. Кацмана, «Радикс» ориентировался, прежде всего, не на зрителя или исходный литературный текст, а на переживание самими актерами чистого театрального действия. Тема была вторична37, поэтому главным принципом композиции являлся «монтаж аттракционов»38. «Радикс» объединял в себе различные виды искусства — театральное действие, музыкальные композиции, хореографические фигуры, литературу и живопись. Элемент пародирования и остранения был неотъемлемой частью представления. Несмотря на то, что в спектакль было задействовано большое количество участников, многое, однако, доделывалось, дописывалось и импровизировалось на ходу. Актеры были приглашены из Ленфильма, студии Фореггера «Мастфора» и из полупрофессиональной самодеятельности. И. Бахтерев делал эскизы будущего оформления, Я. Друскин подбирал музыку из раздобытых нот современных французских композиторов — Мийо, Пуленка, Сати39. Занавес был разрисован человеческими глазами, как это было у Введенского в комнате, в которой глазами были разрисованы все стены, а вместо люстры висел портрет.
На репетициях постановщик оговаривал придуманные им сквозные мизансцены, а роль авторов заключалась в попытках нахождения соответствующих средств выражения. По словам Мейлаха, в число замыслов входил «диалог людей двух цветов, составлявших «семейство рыжих» и «семейство голубых», в каждом по девять человек. В «семействе рыжих» выделялся один бородатый человек, этот рыжебородый действовал на протяжении целого акта»40. В результате началом спектакля стало выступление «танцовщицы-каучука» Зины Бородиной, которая выполняла серию номеров — трюков. Во второй сцене второго акта ее убивает возлюбленный, а за ним следует эпизод его кошмаров, написанный, что очень показательно, А. Введенским. Этот эпизод становится одной из первых реализаций установки авторитета бессмыслицы на искусство внеэмоциональное или даже антиэмоциональное. К примеру, Куприянов в драме в стихах Куприянов и Наташа прощается с последним чувством. По словам первой жены Введенского, с 1920 по 1931 гг., Тамары Липавской, в этой вещи Введенский прощался с бытом и с чувством, но, прежде всего, это было прощание с ней. Иными словами, мы имеем дело с попыткой поэтического преодоления чувства. После разрыва с первой женой поэтический интерес Введенского к чувству еще неоднократно возвращался в его позднейших вещах, — Четыре описания, Ковер-гортензия.
Поиск театра до вмешательства в него человека и навязанных им реальности условных связей и создание произведений чистого театра были созвучны более поздней теории «чистой формы» Станислава Виткевича и «чистой драмы» Эужена Ионеско. Синкретичность подхода к театру сводит литературу, а значит и язык, как средство ее выражения, к одной из нескольких составляющих автономного театрального языка. Таким образом можно интерпретировать слова из декларации «Радикса» о том, что «все моменты, входящие в композицию представления, РАВНОЦЕННЫ». Указанные положения поэтики «Радикса» стали также точкой отсчета для театра ОБЭРИУ.
Несмотря на высокие устремления «установить, что такое театр» и значительный творческий потенциал участников, группе «Радикс» не удалось осуществить задуманное. Тем не менее, упомянутые тенденции «Радикса» были развиты в позднейшей драматургии Введенского, в частности, в Елке у Ивановых и во многом предвосхитили послевоенный театр абсурда.
После прекращения многообещающей деятельности театра «Радикс» А. Введенский и остальные обэриуты продолжают использовать и претворять в жизнь его основные теоретические установки, реализациями которых становятся театрализованные представления — концерты. Наиболее значимым событием в деятельности ОБЭРИУ представляется публичный дебют в форме театрализованного вечера «Три левых часа», который состоялся 24 января 1928 года на сцене Дома Печати, культурного центра Ленинграда. Именно на нем обэриуты впервые заявили об образовании группы, представляющей «отряд левого искусства». Программа вечера была дважды заявлена и включена в афиши Дома печати — из них один раз в перевернутом виде, что соответствовало эпатажной эстетике обэриутов. Введенский фигурирует в двух эпизодах этого вечера: в первом часе Введенский читал собственные стихи, во втором — сыграл небольшую роль слуги в спектакле Елизавета Бам. Кроме того, в этот вечер Введенский выступил в роли конферансье. В начале первого часа на «сцену стало выдвигаться нелепое сооружение, непомерных размеров шкаф, — его толкали, тащили, везли, — должны быть какие-то энтузиасты, болельщики обэриутов на шкафу, по-турецки скрестив ноги, сидел человечек. С этого смещения пропорций все и начиналось»41. По
иным свидетельствам, «курящий трубку Хармс сначала ходил на фоне шкафа,
находящегося в середине сцены, и читал длинное стихотворение. При этом он часто
останавливался, чтобы выпустить из трубки кольца дыма. Выступающий пожарник тем
временем призывал публику к рукоплесканиям. Потом выступал Введенский,
державший в руках свернутую бумагу, и развернул ее, чтобы читать текст. Тем
временем Хармс уже поднялся на шкаф сзади и оттуда продолжал пускать кольца
дыма».42
и тут за кончик буквы взяв,
я поднимаю слово шкаф,
теперь я ставлю шкаф на место,
он вещества крутое тесто.
[ПСС, с. 210]
Указанный мотив встречается также в Госте на коне:
Я услышал, дверь и шкап
сказали ясно:
конский храп.
[ПСС, с. 181]
После разгрома ОБЭРИУ и последовавшего ареста его участников, прежде всего, А. Введенского наступает длительный перерыв. К драматургии поэт обращается лишь спустя шесть лет, чтобы в конце своего творческого пути написать драму Елка и Ивановых (1938), которая стала знаковой не только для всего русского довоенного театра, но и для литературных, философских и общекультурных поисков последующих поколений. В Елке и Ивановых Введенский бескомпромиссно отказывается от традиционных драматургических форм и создает антимимитическую драму с элементами буффонады, лубочного театра, мистерии и монодрамы. Тем самым Введенский создает свой театр, в котором торжествует абсурд.
Кроме того, в это время Введенским были написаны последние произведения Потец, Некоторое количество разговоров, Элегия и Где. Когда. Вполне возможно, что их было больше, но эти вещи не дошли до нас.
3.2.2. Антимиметическая драма А. Введенского и театр абсурда
О Боже, как это странно
и какое совпадение!
И. Ионеско, Лысая певица
В русской литературе А. Введенский считается «абсурдным» писателем, в зарубежной — такая роль принадлежит, прежде всего, представителям так называемого «театра абсурда». Ж.-Ф. Жаккар критично относился к идее сравнения творчества Введенского и Хармса, с одной стороны, и С. Беккета и Э. Ионеско — с другой. Тем не менее он не отрицал плодотворности сравнительного анализа произведений перечисленных авторов. Абсурд вытекает из экзистенциализма, поскольку оба направления выражают отсутствие в мире начала, которое могло бы придать смысл происходящему и наполнить жизнь человека содержанием. Человек осознал автоматизм и бездушие повседневного существования. Перед ним обозначились непреодолимые границы собственного тела и разума. Пытаясь преодолеть границы сознания, поведение человека начинает отличаться от поведения других, в этот момент окружающим подобное поведение начинает казаться чем-то лишенным смысла, абсурдным. В такой ситуации рождается антиповедение. Абсурдное поведение становится реакцией на абсурдность мира, в котором человек чувствует себя отверженным.
Э. Ионеско, С. Беккет вслед за Введенским не соглашались с тем, что критики, находя в их творчестве элементы алогизма, сразу же легкомысленно приклеивали этикетку «абсурд». Однажды Введенский в разговоре с Друскиным сказал: «Я не понимаю, почему мои вещи называют заумными, по-моему, передовица в газете заумна»44. Того же
мнения придерживался Ионеско, который говорил, что «абсурд так заполнил собой реальность, ту
самую, которую называют «реалистическая реальность», так вот, абсурд так заполнил собой реальность, что
реальности и реализмы кажутся нам столь же правдивыми, сколь абсурдными, а
абсурд кажется реальностью: оглянемся вокруг себя»45. Беккет вообще
избегал этой темы. Подобное нежелание объясняется тем, что «Беккет придавал той
реальности, которую он описывал в своих текстах, особый смысл: не называя ее
абсурдной, он тем не менее вплотную подошел к абсурду бытия как некой
абсолютной реальности, в которой исчезает всякое противопоставление человека и
мира»46.
Сопоставление имен А. И. Введенского, С. Беккета и Э. Ионеско может показаться неожиданным. С одной стороны, А. Введенский, писавший свои произведения в 20-х — 30-х годах, которые не были опубликованы при жизни, и никогда не выезжавший за рубеж Советского Союза. С другой стороны, расцвет творчества Беккета и Ионеско пришелся на послевоенные годы, в свободном Париже, где власть и издатели не создавали лишних преград для творчества, а литература была крайне востребована. Можно утверждать, что Введенский писал несколькими годами ранее, тем самым литературные опыты Введенского, Ионеско и Беккета никогда не пресекались. Этот факт предопределил невозможность творческих контактов Введенского с французскими литераторами. Введенский вел свои художественные поиски самостоятельно, и какое-либо взаимовлияние в данном случае полностью исключается. Его главное драматическое произведение Елка у Ивановых была написана в 1938 году, Лысая певица была написана Ионеско десятью годами позднее, Беккет в свою очередь завершил работу над пьесой В ожидании Годо в 1949 году. Более того, совокупность затронутых проблем и художественных решений в пьесе Введенского дает основания полагать, что история Театра абсурда должна принимать за точку отсчета не 1948 год, как в 1961 году установил М. Эсслин, а — самое позднее — 1938, то есть год создания Елки у Ивановых, которую можно считать образцом довоенного театра абсурда. Необходимость расширения временных границ истории художественного явления, каковым является театр абсурда, до 1938 года будет аргументирована в дальнейшей части работы. Для этого будет проведен сопоставительный анализ пьес, имеющих определяющее значение для данного художественного феномена.
Сопоставление драмы А. Введенского с программными текстами послевоенного театра абсурда позволяет выявить ряд неслучайных совпадений на уровне поэтики и тематики. Сходства данных произведений обнаруживаются уже в самом заглавии каждой из рассматриваемых пьес.
Как известно, «заглавие художественного текста (как и эпиграф, если таковой имеется) представляет собой один из существеннейших элементов композиции со своей поэтикой»47
Каждая из пьес имеет многозначные, заключающие в себе основные содержательно-формальные аспекты произведения, названия. В названиях указанных пьес заложен парадокс. У Введенского в Елке у Ивановых название исполнено алогизма, поскольку ни один из персонажей не носит эту фамилию: родители — Пузыревы, их дети — Перов, Серова, Петрова, Комаров, Острова, Пестров, Шустрова48
При переходе от названия к персонажам авторов намечается следующая параллель с Введенским. В пьесе обэриута мы имеем дело с обычной русской семьей Пузыревых, состоящей из Перовых, Серовых, Петровых. Стоит, однако, оговориться, что семья эта, с ее разными фамилиями и возрастами детей, не совсем обычна, но она тем не менее символизирует Россию. Неслучайно в заглавие пьесы вынесена такая популярная русская фамилия, как Ивановы. Аналогичный прием использует Ионеско, персонажи которого носят крайне распространенные в англоязычных странах фамилии — Смит и Мартин. У С. Беккета мотивировка имен несколько усложнена. Ирландский драматург преследует ту же цель, что и Введенский, и Ионеско — он стремится к типологическому обобщению персонажей, но избирает обратную стратегию. Автор использует прием остранения, давая своим героям причудливые имена — Эстрагон, Владимир, Лаки, Поццо и Годо. Беккет обнажает этот скрытый прием не сразу. Поставленную цель он достигает посредством Владимира, который восклицает: «Человечество — это мы. Нравится нам это или не нравится. Будем хоть раз представителями подлой природы»51
Одновременно для рассматриваемых произведений характерно пародирование традиционной драматургии. Введенский поделил короткое произведение на четыре действия и девять сцен; все действия сопровождаются авторскими ремарками с точным определением времени; в одной ремарке указано, что действие происходит в конце XIX века. Местом событий, таким образом, является дореволюционная Россия. У Ионеско пьеса поделена на одиннадцать сцен, действие происходит в окрестностях Лондона, а в ремарках биением часов указывается время. Беккет в свою очередь свою драму делит на два действия; что касается пространства и времени, то здесь они остранены: из одного диалога мы узнаем, что 1900-й год — это время, когда «нужно было думать», условно этот год рассекает жизнь героев наполовину. Место действия определяется по отношению к растущему неподалеку дереву. Таким образом, с формальной точки зрения хронотопы драматургических текстов Введенского и Ионеско внешне напоминают классическую структуру, однако в действительности они лишь имитируют ее, в то время как Беккет обращается скорее к доисторической, мифической модели мира.
В сюжетном плане все три пьесы объединяет отсутствие ярко выраженного действия. Сюжетообразующую роль в произведениях Введенского, Ионеско и Беккета выполняет ожидание наступления таинственного события. У Введенского все ждут елки и Ивановых, у Ионеско — лысой певицы, заявленной в заглавии, а у Беккета — пришествия Годо. Ожидание является подчеркнуто недраматической ситуацией, поскольку это ситуация бездействия. В рассматриваемых драмах финал лишен смысла, поскольку ни одно из ожиданий не оправдывается. Тем самым для всех пьес характерным становится проникновение в структуру драмы композиционного абсурда, который лишает данные драматические произведения элемента традиционной драматургии — концовки.
Необходимо отметить, что в соотношении текста драмы и метапоэтических комментариев в виде ремарок, иными словами, соотношения диалогической основы драмы и ее атрибутов, обусловливающих появление драматургии (название, жанровые указания, список действующих лиц, ремарки) произошли существенные изменения.
А. Введенский хронологически опередил Беккета и Ионеско в принципиальном переосмыслении двух начал драматургического произведения.
Введенский, а за ним С. Беккет и Э. Ионеско, усложнил соотношение названия, центрального образа и драматургической ситуации в драматическом произведении. Итак, в названии Елка у Ивановых, Лысая певица и В ожидании Годо — в качестве героев выдвигаются персонажи не только не действующие, но и не существующие в пределах текста. У Введенского мы можем констатировать «смерть героя» в 1938 году. Напомним, что подобное явление в литературе, относящейся к театру абсурда, зафиксировано десятью годами позже и в истории и теории литературы строго ассоциируется с авторами Лысой певицы и В ожидании Годо. В результате отсутствие протагониста привело к серьезным изменениям в области нового драматургического языка. Театр вынужден был создавать новую драматическую структуру.
Как уже известно, главными темами, определяющими абсурдистскую картину мира А. Введенского, являются — Время, Смерть и Бог. Далее будут проанализированы рассматриваемые пьесы в тематическом ключе автора Елки у Ивановых, чтобы обнаружить и аргументировать сходства, которые, на наш взгляд, объединяют авторов и подтверждают важную роль Введенского в формировании литературы абсурда.
3.2.3. Время
В Елке у Ивановых ремарки указывают на определенный период времени. Носителем информации о времени являются часы. Автор на первый взгляд четко придерживается классического требования — драматическое действие должно быть разыграно в течение 24 часов. Действие в Елке у Ивановых протекает с 9 вечера до 7 вечера следующего дня. Из 22 часов 13 тщательно прописаны в ремарках. Однако сценическое действие не совпадает с заданными временными рамками. Как известно, сценическое действие короче, чем время драматического произведения. В Елке у Ивановых временная протяженность сводится к непреходящему настоящему времени. Подобное явление вызвано тем, что Введенский фиксирует остановку времени: «на тех же часах слева от двери те же 9 часов»53
Ж и р а ф а Часы идут.
В о л к Как стада овец.
Л е в Как стада быков.
С в и н о й п о р о с е н о к Как осетровый хрящ54.
[ПСС, с. 245]
Содержание ремарок и комментариев персонажей в пьесе Ионеско Лысая певица, также как и у Введенского, свидетельствует об иллюзорности и субъективности категории времени в художественном пространстве произведений театра абсурда. Для характеристики времени Ионеско активно использует ремарки. В первой же из них драматург указывает, что «английские часы на стене отбивают семнадцать английских ударов», на что миссис Смит заявляет — «вот и девять часов»55
Вечное настоящее или ситуация безвременья характерны также для драматического времени Беккета. В ремарках автор задает ритм течения времени посредством монотонной смены дня и ночи. Циклическая повторяемость и отсутствие событий заставляет воспринимать время как вечное настоящее, не заключающее в себе никакого течения.
Трактовка темы времени персонажами пьесы подтверждает иллюзорность и субъективность данной категории. Так, Поццо, потеряв из виду свои часы, начинает их искать: «…куда это я подевал свои часы? (Копошится.) Ну вот! (Поднимает голову, расстроенный.) Настоящая луковица, господа, с секундной стрелкой. Мне её дедушка подарил»58. Потеряв
надежду найти луковицу с секундной стрелкой, Эстрагон заключает: «Наверное, они
остановились»59
Э. — В какую субботу? И суббота ли сегодня? А может быть, воскресенье. Или понедельник. Или пятница.
В. — (Нервно оглядываясь вокруг, как если бы дата была написана на земле.) Это невозможно.
Э. — Или четверг.
В. — Что же делать?
Э. — Если он все же приходил и не застал нас вчера вечером, так сегодня уж точно не придет.
В. — Но ты говоришь, что мы вчера здесь были.
Э. — Может, я ошибаюсь.
[БВОГ, с. 6]
Нескончаемые праздные вопросы главных героев призваны «убить время», приблизить его окончательную остановку. В Елке у Ивановых это делает Петя Перов, который восклицает: «Умереть до чего хочется, просто страсть»60.
Провоцирование событий лишь ненадолго останавливает время. Настоящая остановка,
как и у Введенского, произойдет в момент смерти. Так, Поццо озлобленно отвечает на
бессмысленные вопросы Владимира и Эстрагона: «Вы не перестаете травить меня
вашими историями про время? Это неслыханно! Когда! Когда! В один прекрасный
день, вам этого достаточно, в один прекрасный день, похожий на другие, он стал
глухим, в один прекрасный день я стал слепым, в один прекрасный день мы станем
глухими, в один прекрасный день мы родились, в один прекрасный день мы умрем, в
один день, в одно мгновение, вам этого недостаточно? (Более спокойно.) Они
рожают верхом на могиле, мгновение сверкает день, потом снова ночь»61.
Здесь невольно вспоминаются слова Введенского о тех, для кого жизнь это
мгновение в сравнении с вечностью: «Я говорю: она вообще мгновенье, даже в
сравнении с мгновением»62
3.2.4. Смерть
Смерть в пьесе Елка у Ивановых, как и в предшествующем творчестве, играет крайне важную роль, начиная с первой фразы, вплоть до финала, когда родители и пятеро из их семи детей умирают, по очереди оповещая, что наступает их смерть. Между убийством в первой картине Сони Островой и смертью всех в последней, в пьесе ничего не происходит. Соня Острова на протяжении всех четырех действий лежит с отрубленной головой. Вокруг нее с поджатым хвостом причитает собака Вера:
СОБАКА ВЕРА
Я хожу вокруг гроба
Я гляжу вокруг в оба
Эта смерть — это проба.
(...)
Жизнь дана в украшенье
Смерть дана в устрашенье.
[ПСС, с. 253-254]
Судьи, которые должны судить няню за убийство, умирают сами:
СУДЬЯ (издыхая).
Не дождавшись Рождества — я умер.
(Его быстро заменяют другим судьей.)
ДРУГОЙ СУДЬЯ.
Мне плохо, мне плохо. Спасите меня.
(Умирает. Его быстро заменяют другим судьей.)
ВСЕ (хором).
Мы напуганы двумя смертями.
Случай редкий — посудите сами.
[ПСС, с. 255-256]
Даже Жирафа с остальным чудным зверьем во время урока рассуждает о смерти:
ЖИРАФА. Где наша смерть?
ВОЛК. В душах овец.
ЛЕВ. В душах быков.
СВИНОЙ ПОРОСЕНОК. В просторных сосудах.
ЖИРАФА. Благодарю вас. Урок окончен.
[ПСС, с. 245]
Смерть становится чем-то нереальным и абсурдным в своей сущности, но в то же время она является чем-то обыденным и постоянно повсюду присутствующим.
У Ионеско тема смерти в его Лысой певице отсутствует. Однако, не стоит забывать, что в пьесе первоначально был совершенно иной финал. Важное изменение произошло во время последних приготовлений к постановке. Первоначально драматург намеревался после последней ссоры супружеских пар оставить сцену пустой. «Подсадные утки» из публики должны были в этот момент начать негодовать и возмущаться. В этот момент на сцену должен был выйти администратор с полицейскими. После выхода они открывали по публике «пулеметный огонь», а администратор и сержант обменивались любезным рукопожатием. Однако для такого финала следовало нанять дополнительно актеров, увеличив тем самым затраты на спектакль. Поэтому вместо торжества смерти в финале пьесы и разрыва цикличности, Ионеско решил, что сюжет пьесы замкнется в круговую композицию и начнется снова.
Смерть является одной из главных ценностей художественного мира Беккета. Персонажи автора Эндшпиль на протяжении всей пьесы пытаются освободиться от пут, удерживающих их в абсурдной жизни. Они не в состоянии отыскать положительные начала в собственном ничтожном существовании, поэтому как выход, преодоление абсурда, перед ними встает альтернатива — самоубийство. Подобные рассуждения созвучны размышлениям героев Введенского, которые утверждают, что нет ни одного действия, которое имело бы вес, кроме убийства и самоубийства. Владимир и Эстрагон неоднократно всерьез рассматривают вопрос умышленного лишения себя жизни:
В. — Посмотри на дерево, говорю, посмотри на дерево.
Эстрагон смотрит на дерево.
Э. — Его вчера здесь не было?
В. — Да нет же. Ты не помнишь. Мы были на волосок от того, чтобы на нем повеситься. (Думает.) Да, правильно. (Раздельно произнося слова.) чтобы-на-нём-повеситься.
[БВОГ, с. 32]
Смерть становится равнозначным «неопределенному нечто», которое когда-нибудь должно случиться, в этом смысле она отождествляется с пришествием Годо, а герои Беккета стоят перед экзистенциальным выбором. Владимир и Эстрагон в смерти видят возможность освободиться от абсурдных отношений, которые их связывают:
В. — С тобой тяжело жить, Гого.
Э. — Нам лучше расстаться.
В. — Ты всегда так говоришь. И каждый раз возвращаешься.
Молчание.
Э. — Чтобы получилось, надо меня убить, как другого.
В. — Какого другого? (Пауза.) Какого другого?
Э. — Как миллионы других.
[БВОГ, с. 33]
Смерть других воспринимается как норма, как событие обыденного порядка, в то время исчезновение себя самого в этой перспективе становится чем-то нелепым, абсурдным. Таким образом, в размышлениях героев появляется очередное ограничение, подтверждающее парадоксальность существования.
Как и в двухступенчатой эсхатологической модели Введенского, герои Беккета ощущают, что первая смерть уже наступила. Они уже мертвы, но продолжают жить до второй, окончательной смерти, которая позволит им вырваться из автоматизма их детерминированного существования, которое можно точно так же определить как несуществование:
Давай, пока ждем, будем разговаривать спокойно; раз уж мы неспособны молчать.
В. — Да, мы неумолчны.
Э. — Все мёртвые голоса.
В. — Как будто шум крыльев.
Э. — Листьев.
В. — Песка.
Э. — Листьев.
Молчание.
В. — Они говорят все вместе.
Э. — Каждый о своём
Молчание.
В. — Скорее шепчут.
Э. — Бормочут.
В. — Шелестят.
Э. — Бормочут.
Молчание.
В. — О чём они говорят?
Э. — О своей жизни.
В. — Им недостаточно просто жить.
Э. — Им нужно говорить.
В. — Им недостаточно быть мертвыми.
Э. — Этого мало.
В. — Ужаснее всего думать.
Э. — Случалось ли это с нами?
В. — Откуда все эти трупы?
Э. — Это скелеты.
В. — Вот.
Э. — Разумеется.
В. — Кажется, мы думали немного.
Э. — Чуть-чуть в начале.
В. — Груда трупов, груда трупов.
Э. — На это нельзя смотреть.
В. — Это притягивает взгляд.
[БВОГ, с. 55]
В финале пьесы жизнь героев сводится к «сложным родам» (из ямы акушеры протягивают щипцы) и абсурдному восседанию «верхом на могиле»63
В. — Мы завтра повесимся. (Пауза.) Если только не придет Годо.
Э. — А если он придет?
В. — Мы будем спасены.
[БВОГ, с. 55]
Такой финал очень напоминает начало пьесы Елка у Ивановых, в которой годовалый мальчик Петя Перов с недоверием и беспокойством в голосе вопрошает: «Будет елка? Будет. А вдруг не будет. Вдруг я умру»64
3.2.5. Бог
Наряду с темой смерти и времени в Елке у Ивановых присутствует и тема Бога. На протяжении всей драмы дети ожидают елки. Все немногочисленные события происходят в сочельник, накануне Рождества Христова. Более того, и здесь, как нам кажется, заключен парадокс Введенского, ель на Руси традиционно связывалась со смертью, погребальным обрядом65
Когда появляется елка, все дети попеременно восхищаются ею и мгновенно умирают. Умирают и родители. В финале пьесы в одной точке сходятся три мотива, объединяемые елкой, — остановки времени, абсурдная смерть и рождение Христа (Богоявление). Можно по-разному истолковывать данную развязку. М. Мейлах считает, что действующие лица не суть индивидуальности в настоящем смысле слова — реальна, кажется, только смерть, всех их уносящая в финале пьесы66.
Исследовательница полагает, что череда нелепых самоубийств это вариант бегства к
Богу, попытка уйти из мира ужаса и бессмыслицы67
мысли бегают отдельно
Всё печально и бесцельно
Боже что за торжество
Прямо смерти рождество
[ПСС, с. 105]
У Ионеско прямого указания на присутствие Бога в пьесе Лысая певица мы не находим. Однако Ионеско вводит понятие пожара как символа. На это указывает одна из реплик Миссис Смит: «Ну вот, значит. Я так стесняюсь, мне трудно говорить с вами откровенно, но ведь в то же время и духовник»68. С
одной стороны, пожарник предстает как исповедник, который гасит пожары в умах и сердцах,
охваченных сомнением. Пожарник, как он говорит, не имеет права тушить пожары «у духовных особ»,
поскольку «епископ против» — «они сами гасят у себя огонь»69. С
другой стороны, пламя вводится как страсть пожарника, пылающего чувством к
Мэри. Мэри становится «его маленьким фонтанчиком». И все же пожаром как
метафорой страсти служанка не ограничивается. Она вопреки всем читает
стихотворение Огонь, в котором обнаруживается мир, охваченный пламенем. Здесь загорается камень, лес,
птицы, рыбы, вода — «все загорелось / загорелось, загорелось»70
Что же он возражает теперь камням. — Ничего — он леденеет.
Рыбы и дубы подарили ему виноградную кисть и небольшое количество последней радости.
Дубы сказали: — Мы растем.
Рыбы сказали: — Мы плывем.
Дубы спросили: — Который час.
Рыбы сказали: — Помилуй и нас.
Что же он скажет рыбам и дубам: — Он не сумеет сказать спасибо.
[ПСС, с. 266]
Наконец, в пьесу, несколько остраненно с помощью абсурдного времени, вводится мотив настоящего пожара, который произойдет ровно «через три четверти часа и шестнадцать минут»71
Религиозный аспект творчества С. Беккета, в частности, библейские аллюзии и присутствие в мире Бога — предмет не только пристального изучения, но и принципиальных споров на протяжении многих десятилетий. Присутствие и значимость библейских мотивов и образов не подлежит сомнению, но их интерпретации простираются от попыток понять автора В ожидании Годо как христианского писателя до утверждения игровой, иронической трактовки религиозной проблематики.
Религиозные отсылки В ожидании Годо заявлены уже на уровне заглавия. Имя таинственного героя, которому подчинено все происходящее в пьесе, созвучно английскому God, хотя это и не единственно допустимое толкование. Герои Беккета рассуждают на религиозные темы достаточно часто, например:
В. — Но ты не можешь идти босиком.
Э. — Иисус мог.
В. — Иисус! Нашёл кого вспомнить! Ты же не будешь себя с ним сравнивать?
Э. — Всю свою жизнь я себя с ним сравнивал.
[БВОГ, с. 29]
В ожидании Годо художественно осмысливается также тема, впервые заявленная еще Блаженным Августином: мотив двух разбойников, распятых одновременно с Христом. Владимир и Эстрагон не могут объяснить противоречий, связанных со спасением разбойника. В числе евангельских аллюзий стоит привести «субботний день», который оговаривался ранее в контексте понимания и воплощения Беккетом концепции времени. В пьесе суббота становится некой точкой отсчета («он сказал, в субботу»). Таким образом, существование главных героев В ожидании Годо символически заключается в рамки между Распятием и Воскресением. Именно в этот единственный день Бога на земле нет — Он умер. В христианской традиции суббота — это день печали и отчаяния, но вместе с тем и ожидания Воскресения. Кроме того, неотъемлемым атрибутом существование героев становится дерево. По отношению к нему они определяют свое место в пространстве, к нему они собираются привязать веревки и прекратить свое жалкое существование — дерево становится организующим началом в этом разряженном мире. Безусловно, в сценическом плане также невозможно без него обойтись. Дерево кроме решения сугубо временных и пространственных проблем выполняет символическую роль, напоминающую о вкушении плода познания человеком и изгнании его из рая. У Введенского мотив грехопадения подвергается многочисленным художественным преломлениям и становится сниженной «тарелкой добра и зла»74
Наконец, стоит отметить, что для всех интересующих нас авторов характерно противопоставление бытийных тем («время, смерть, Бог») физиологическим мотивам, образуя тем самым странное единство грубой телесности и вечности. В пьесе Елка у Ивановых Пузырева-мать отдается Пузыреву отцу у гроба умершей дочери, Сони Островой. Однако комизма в этом сочетании смерти с физиологическими проявлениями жизни (а также с возможным зарождением новой жизни) у Введенского нет. Пузырев-отец, «кончив свое дело, плачет» и говорит: «Господи у нас умерла дочь, а мы тут как звери»75
3.2.6. Театр абсурда в свете Постулатов Нормальной Коммуникации
Любая коммуникация обусловлена четкими правилами, которые следует соблюдать, чтобы цель коммуникации была достигнута. В известной статье78
Первый предложенный постулат — это постулат о детерминизме. Согласно теории исследователей, для осуществления коммуникации необходимо, чтобы собеседники во время диалога имели примерно одинаковую концепцию действительности — чтобы выбор слова одним вызывал соответствующие ассоциации у другого. Для выполнения условий детерминизма определенные следствия должны восходить к определенным причинам. Отсутствие причинно-следственных связей превращает всякое событие в равновероятное, и, следовательно, более ничто не предсказуемо.
Нарушение причинно-следственной связи является систематическим приемом в творчестве А. Введенского. В Елке у Ивановых уже при заявлении действующих лиц, предваряющем начало первого действия, происходит нарушение причинно-следственной связи. Итак, среди главных героев, детей, фигурирует Соня Острова — тридцати-двухлетняя девочка, Миша Пестров — семидесятишестилетний мальчик и восьмидесятидвухлетняя девочка — Дуня Шустрова. Фактический возраст героев предполагает присутствие в пьесе скорее взрослых и стариков, и соответствующие речевые характеристики, но драматург отрицает эту связь и игнорирует возрастные различия, таким образом, в художественном плане предстают практически оксюморонные сочетания. Другим примером пусть послужит собака Вера, наделенная человеческим именем и овладевшая человеческим языком.
В пьесе Лысая певица Ионеско использует этот же прием и в результате причины не ведут к определенным следствиям:
Миссис Смит. (...) Мы сегодня хорошо поужинали. А все потому, что мы живем в окрестностях Лондона и наша фамилия Смит.
[ИЛП, с. 1]
Персонажи живут в окрестностях Лондона, и их фамилия Смит (причина), и потому — они хорошо питаются (следствие). Следствие не вытекает из причины. В дальнейшем этот прием используется Ионеско систематически. Так, к примеру, для пожарника оказывается возможным предсказывать следствия, для которых в настоящем нет причин (пожар через ровно три четверти часа и шестнадцать минут) или часы, непоследовательно отбивающие время.
По сравнению с Введенским и Ионеско, Беккет данный прием использует несколько реже, а появляющийся разрывы причинно-следственных связей не столь очевидны. Тем не менее мы можем найти подобные примеры:
Э. — А что если нам повеселиться?
В. — Вот тогда хорошо встанет.
Э. — (заинтересованно) — Встанет?
В. — Со всем, что из этого вытекает. Там, где оно падает, вырастают мандрагоры. Вот почему они кричат, когда их вырывают. Ты этого не знал?
Э. — Повесимся сейчас же.
[БВОГ, с. 7]
Если рассуждения о самоубийстве и свойствах мандрагоры по отдельности еще имеют какую-то внутреннюю логику, то на уровне диалога они теряют смысл, поскольку появляется неизвестное «оно» и отменяет намеченную причинно-следственную связь между двумя фрагментами.
По словам исследователей, отсутствие жестких причинно-следственных связей приводит к тому, что «каждое событие становится случайным, т.е. все события равновероятны79
Следующим условием «нормальной» коммуникации является постулат о наличии общей памяти. Для коммуникации необходимо, чтобы существовало, по крайней мере, некоторое количество общих фактов в памяти каждого собеседника. Эти факты создают основу для разговора, функцией которого является привнесение новых элементов. Отсутствие общей памяти привело бы к необходимости объяснения контекста каждой фразы, что лишило бы ее информативности.
У Введенского данный постулат нарушается очень часто. Так, в первой картине в первом действии годовалый мальчик Петя Перов высказывает свои сомнения по поводу того, удастся ли ему дожить до елки, на что нянька принуждает его дальше мылить уши и шею и не болтать, потому что он еще не умеет говорить. Петя Перов продолжает диалог и говорит, что умеет говорить мыслями. В данном случае нарушается несколько постулатов коммуникации. Во-первых, нарушается постулат детерминизма: следствие не соответствует причине — нянька не может слышать речи мальчика; во-вторых, годовалый мальчик не может обладать общей памятью с нянькой, поскольку возраст и отсутствие коммуникативного опыта делают невозможным их общение.
Тот же прием мы обнаруживаем в Лысой певице. Мистер и миссис Мартин, несмотря на свою супружескую связь, должны узнать друг друга, прежде чем продолжить разговор. Это процесс длится на протяжении многих страниц. И только когда они логически устанавливают, что спят в одной постели и имеют одного и того же ребенка, мистер Мартин производит индуктивное умозаключение, что они законные супруги. Таким образом, нарушение постулата общей памяти превращает этот диалог в бессмыслицу.
У Беккета данный прием относится к одним из наиболее распространенных. Мотив неузнавания многократно находит свое воплощение в пьесе В ожидании Годо:
В. — Мы их знаем, я тебе говорю. Ты все забываешь. (Пауза.) Если только это они.
Э. — Они нас не узнали, вот доказательство.
В. — Это ничего не значит. Я тоже притворился, что не узнал их. К тому же, нас никто никогда не узнает.
[БВОГ, с. 26]
Исследователи полагают, что память представляет собой хранение совокупности событий, где для каждого следствия может быть восстановлена его причина80
Индетерминизм, который задается авторами анализируемых пьес, ставит под сомнение следующий постулат, предполагающий, что каждое высказывание вносит новую информацию: постулат об информативности. К приемам, нарушающим этот закон можно отнести повторение (тавтология), употребление избитых фраз, самоочевидностей, искаженных мудростей и пословиц, которые зачастую не имеют никакого отношения к высказанным ранее словам. В намеченном контексте любая фраза может повлечь за собой любую другую. Во втором действии в пятой картине Елки у Ивановых сцена, в которой врач стоит перед зеркалом полностью соответствует этому принципу:
ВРАЧ. Господи, до чего страшно. Кругом одни ненормальные. Они преследуют меня. Они поедают мои сны. Они хотят меня застрелить. Вот один из них подкрался и целится в меня. Целится, а сам не стреляет, целится, а сам не стреляет. Не стреляет, не стреляет, не стреляет, а целится. Итого стрелять буду я.
Стреляет. Зеркало разбивается. Входит каменный санитар.
САНИТАР. Кто стрелял из пушки?
ВРАЧ. Я не знаю, кажется, зеркало. А сколько вас?
САНИТАР. Нас много.
ВРАЧ. Ну то-то. А то у меня немного чепуха болит.
[ПСС, с. 250]
Псевдодиалог, подчиненный указанным принципам, без труда можно отыскать у Ионеско, например, в XI сцене:
Миссис Мартин. Я могу купить перочинный ножик своему брату, но вы не можете купить Ирландию своему дедушке.
Мистер Смит. Мы ходим ногами, но обогреваемся электричеством и углем.
Мистер Мартин. Кто взял меч, тот и забил мяч.
Миссис Смит. Жизнь следует наблюдать из окна вагона.
Миссис Мартин. Всякий может сесть на стул, раз у стула никого нет.
Мистер Смит. Семь раз примерь — один отрежь.
[ИЛП, с. 24]
В данном контексте у Беккета особую выразительность приобретает сцена, в которой главные герои заставляют Лаки думать вслух. Он послушно выполняет приказание, но только после того, как ему на голову надевают шляпу. Приведем лишь фрагмент этого пространного рассуждения:
Л. — (монотонно) Дано существование Бога личного, каковым оно представлено в работах Штампа и Ватмана кака-кака седобородого кака вне времени и протяженности что с высот своей божьей апатии своей божьей атамбии своей божьей афазии нас любит за редким исключением неизвестно почему но придет и страдание что подобно божественной Миранде с теми кого неизвестно почему но у нас есть время в муках и огнях что огонь и пламя если это продлится хоть недолго и кто может в этом сомневаться зажгут наконец стропила к сведению вознесут ад к облакам голубым иногда еще тихим спокойным своим спокойствием (…).
[БВОГ, с. 22]
Итак, во всех трех пьесах мы сталкиваемся с трагедией разобщенности. Между героями возможно общение, но невозможно сообщение. Таким образом разрушается постулат информативности.
Другое правило коммуникации — постулат тождества. Он требует, чтобы участвующие в диалоге собеседники представляли себе одну и ту же действительность, т. е. тождество предмета не меняется, пока о нем говорят. Данный принцип опровергается театром абсурда.
У Введенского во все той же сцене общения врача и санитара, очевидно, имеют в виду разные реальности:
ВРАЧ. Как же быть. Мне не нравится этот коврик. (Стреляет в него. Санитар падает замертво). Почему вы упали, я стрелял не в вас, а в коврик.
САНИТАР (поднимается). Мне показалось, что я коврик. Я обознался.
[ПСС, с. 250]
В Лысой певице ведется беседа о семье Уотсонов, всех членов которой (детей, мужчин, женщин) зовут Бобби.
Здесь очень отчетливо происходит нарушение постулата тождества. Приведем отрывок из этого разговора:
Мистер Смит. Ты про какого Бобби Уотсона?
Миссис Смит. Про Бобби Уотсона, сына старого Бобби Уотсона, другого дяди Бобби Уотсона, который умер.
Мистер Смит. Нет, это не он. Это Бобби Уотсон, сын старой Бобби Уотсон, тетки Бобби Уотсона, который умер.
Миссис Смит. То есть это Бобби Уотсон — коммивояжер.
Мистер Смит. Все Бобби Уотсоны — коммивояжеры.
[ИЛП, с. 24]
Беккет широко использует описанный прием. Примером здесь может быть беседа Владимира и Эстрагона с мальчиком. Когда он спрашивает что передать господину Годо, Владимир просит его сказать, что мальчик их видел. Мальчик соглашается исполнить их просьбу. Однако, когда они встречаются в следующий раз, мальчик утверждает, что никогда прежде их не видел, а значит просьба главных героев — это плод их фантазии, который не имеет ничего общего с действительностью. В приведенном примере Беккетом нарушается не только постулат тождества, но и постулат истинности. Сущность данного постулата, заключается в том, что «об одном и том же объекте высказываются два противоположных суждения»81
Таким образом, у Введенского неизвестно, стрелял ли врач в санитара или в коврик, с другой стороны, умер ли санитар или ему только показалось, что он коврик. У Ионеско таким же образом происходит расхождение между текстом и действительностью. В тексте должно быть истинное высказывание о действительности, но в словах, например, пожарника из Лысой певицы, мы его не находим: «Каску я, конечно, сниму, а вот рассиживаться мне некогда. (Садится, не снимая каски)»82
В. — Ну что, идем?
Э. — Идем.
Они не двигаются.
[БВОГ, с. 55]
Во всех приведенных выше примерах слово не соответствует жесту или поступку. Этот прием широко используется писателями-абсурдистами, в частности, Введенским, Ионеско и Беккетом.
Следующий постулат — о неполноте описания. Согласно теории Ревзиных, для достижения цели коммуникации «текст должен описывать действительность с определенной степенью редукции, основываясь на наличии общей памяти и способности более или менее прогнозировать будущее»83.
Наконец, сущность постулата о семантической связности текста заключается в том, что текст должен быть устроен так, чтобы между двумя следующими друг за другом высказываниями, а также в пределах высказывания и словосочетания могла быть установлена содержательная связь84
Следует отметить, что все интересующие нас пьесы как таковые лишены сюжета. В Елке у Ивановых можно найти множество примеров семантически невозможных ситуаций. Примером в данном случае может послужить песня, которую лесорубы поют хором. После того как они ее спели из ремарки мы узнаем, что они не умеют говорить, а то, что они только что пели — это простая случайность, которых так много в жизни. Разрушение происходит также внутри фразы, например, в реплике годовалого Пети Перова:
ПЕТЯ ПЕРОВ. Я самый младший — я просыпаюсь раньше всех. Как сейчас помню, два года тому назад я еще ничего не помнил.
[ПСС, с. 254]
В Лысой певице в свою очередь пожарник, прежде чем приступить к рассказыванию анекдотов, берет обещание с героев о том, что его никто не будет слушать («Только вы обещайте, что не будете слушать»).
Беккет в пьесе В ожидании Годо разрушает семантическую связь через отрицание устами Поццо, что они виделись прежде и что Лакки способен думать вслух. Выясняется, что Лакки немой, «он даже стонать не умеет». Тем самым устраняется семантическая связность текста. Диалоги становится псевдодиалогами, таким образом сам акт общения опровергается. Все произошедшее ранее становится фикцией.
Итак, сходства между интересующими нас пьесами поразительно. Разумеется, в них можно обнаружить и некоторые различия, но это скорее вопрос распределения акцентов. Однако определяющим в рассматриваемых произведениях является то, что в них происходит распад коммуникации и это ставит под сомнение значение главного инструмента коммуникации — языка. Разрушение обнаруживается на всех уровнях: лексическом, морфологическом, синтаксическом и семантическом.
Для А. Крученых был характерен пафос разрушения языка. В 1913, провозглашая Дыр булл щыл, он был твердо убежден, что таким образом получиться реорганизовать и создать более совершенный язык, который по-новому, адекватно назовет вещи в мире. У Введенского разрушение языка неразрывно связано с распадением самого мира, с основным ощущением его бессвязности и раздробленности. Заумь, которую мы слышим в финале Елки у Ивановых:
ПУЗЫРЕВА МАТЬ (поет) А о у е и я
Б Г Р Т (не в силах продолжать пение плачет).
[ПСС, с. 260]
больше не может служить пониманию мира. Она превращает речь в бессмыслицу. Пение матери завершается распадом коммуникации. Если пение гласных от заднего ряда к переднему, — еще можно исполнить, то невозможно себе представить пения взрывных согласных. Для выражения распада коммуникации Э. Ионеско использует аналогичный прием. В финале Лысой певицы, в конечной ее точке, наступает апофеоз разрушения акта коммуникации:
Мистер Мартин. Буза, бурда, бравада!
Миссис Мартин. а, е, и, о, у, э, ю, я!
Миссис Смит. б, в, г, д, ж, з, к, л, м, н, п, р, с, т, ф, х, ц, ч, ш, щ!
Миссис Мартин. Пиф, паф, ой-ой-ой!
Миссис Смит (изображая поезд). Пуф-паф, пуф-паф, пуф-паф, пуф-паф, пуф-паф!
[ИЛП, с. 26]
Система связей, созданная языковым мышлением, уже не воспринимается как истинная, но создать какую-то другую человек не в силах, — соответственно, предметом изображения становится бессвязность, нереальность нашего способа существования. Развивая эту концепцию, мы рассмотрели пьесу Введенского в одном ряду с пьесой Ионеско и Беккета. С некоторыми отличиями, но мы все же утверждаем фундаментальные сходства между «реальным искусством» обэриутов, в частности, А. Введенского и европейским театром абсурда. Общими для пьес Введенского, Ионеско и Беккета становятся не только основные темы — Время, смерть, Бог — и их трактовка, но и принципы воплощения абсурда, понимаемого драматургами как разрушение акта коммуникации. Используя методологическую базу О. Г. и И. И. Ревзиных, нами было указано на общие для интересующих нас драматургов принципы нарушения постулатов нормальной коммуникации. Нарушение постулатов нормальной коммуникации как отражение абсурдности мира привело авторов к новым средствам выражения и новой трактовке сюжета, языка, композиции, характеров в произведении.
Темы времени, смерти и Бога в творчестве А. Введенского, Э. Ионеско и С. Беккета активно взаимодействуют друг с другом, то непримиримо сталкиваясь, то обнаруживая глубинную общность. В пьесах поставлена кроме всего проблема коммуникации людей. Интересующие нас пьесы ставят диагноз эпохе — полная потеря ориентации человеком вследствие разрыва между словом и мыслью, словом и поступком, поступком и мыслью. Все три произведения объединяют общие эстетические и философские установки. Некоммуникабельность является центральной темой пьесы Введенского, столь же центральной, как и в пьесах театра абсурда. Авторы констатируют невозможность восприятия и представления мира во всей его целостности. Как причина такого положения вещей указывается разрушение диалога на самом элементарном уровне. Неспособность донести свою мысль и переживание собеседнику приводит героев к трагическому одиночеству и онтологическому абсурду.
В анализируемых текстах феномен абсурда имеет некоторые отличия, однако можно утверждать, что пьеса Введенского Елка у Ивановых в равной степени может быть отнесена к театру абсурда, как и пьеса Лысая певица Э. Ионеско и В ожидании Годо С. Беккета.
Если связать эти анализируемые произведения с общей психологической ситуацией периодов, в которые они были написаны, мы обнаружим, что они являются отражением разочарования, чувства обреченности и глубокого пессимизма. Пессимизм и трагизм Введенского проистекал из произвола, насилия разыгравшегося террора, предчувствия надвигающейся катастрофы в виде гибели миллионов людей во время Второй мировой войны. Беккет и Ионеско, оглядываясь назад, видели лишь смерть и руины, которые остались после этого ужасающего события, ставшего поражением идеи человечества и доказательством богооставленности мира. Их разочарованность и пессимизм был той же природы, что и мироощущение Введенского. Идеологическая машина и масштаб разрушений превратили всякое творчество в явление внеэстетическое. Поэтому произведения, относящиеся к театру абсурда, исполнены чувства бессмысленности любого творческого акта. По этому поводу Ионеско сказал следующее: «Когда я писал пьесу, боясь, что моя работа превратится в ничто, и я вместе с ней (это становилось своего рода пьесой, или антипьесой, пародией на пьесу, комедией комедии), я заболевал, у меня начинались головокружение и тошнота. Я вынужден был время от времени прерывать работу, задавая себе вопросы, какой чёрт меня попутал, ложился на кушетку в страхе, что моя работа сводится к нулю, и я вместе с
ней»85. А. Введенский подобные ощущения запечатлел в стихотворении ясно, / нежно / и светло (1938-1939). В этой вещи поэт задумывается о том, достойны ли его произведения входа в поэзию и нуждается ли кто-либо в его творчестве.
Для интересующих нас авторов характерны также сходные средства воплощения драматургического абсурда. Опыты Введенского, несколько опережая своих последователей, по сути решают те же проблемы, которые отчетливо сформулировал театр абсурда. Трагедия сознания, отгородившегося от внешнего человеческого мира и не желающего говорить с другими людьми, передана посредством нарушения постулатов нормального общения. Невозможность общения с другими приводит к самоисчерпыванию любой реплики персонажей Введенского, Ионеско и Беккета. Каждый из них замкнут в ему лишь отведенной мнимости.
Во всех рассматриваемых произведениях мир принципиально непонятен, лишен всякой логики. Отношения мысль-слово-поступок рушатся, язык больше не обладает функцией познания. Единственно реальным событием является смерть, кроме всего, происходит релятивизация времени и выдвижение на первый план религиозного аспекта существования. В драме интересующих нас авторов мы сталкиваемся с богооставленностью мира и человека.
На примере драматургии обэриутов Е. Г. Красильникова дает характеристику драмам абсурда: «композиция драм базируется на принципе дисгармонии, случайности, характерен отказ, от единого сюжета, сдвиги в действии, немотивированность событий, монтаж фрагментов, мозаичность, неопределенность, разрушение привычных категорий времени и пространства, антихронотопичность, максимальная деконкретизация места и времени как проявление всеобщего процесса
дереализации»86. На наш взгляд, подобная характеристика вполне справедлива и по отношению к драматургии Введенского, и по отношению к пьесам Беккета и Ионеско.
Пьеса Введенского абсурдна в философском смысле, который сближает ее с духовной атмосферой современного Запада. Драма Введенского заумна семантически: описываемые в репликах и ремарках ситуации невероятны, содержат семантические противоречия. Позиции западного и русского абсурдизма сближает признание отсутствия в мире разумности, его бессмысленности и невозможность коммуникации как экзистенциальная проблема.
3.3. А. И. Введенский: критика языка и поэтическая гносеология87
Попытки описать специфику поэтического языка Введенского приводили к таким различным определениям, как «тайнопись» (Я. С. Друскин), «загадочный язык» (Ю. М. Валиева), «уравнение с многими неизвестными» (А. Герасимова), «мертвый язык» (И. Кулик), «пустой язык» (Э. Стоун-Нахимовски), «эксперимент в семантической афазии» (М. Б. Мейлах), «отказ от языка» (К. Чухров) и т.д. Предложенное многообразие определений говорит о том, что образ и философия языка в поэтике Введенского сложны, неоднозначны, противоречивы и парадоксальны. В дальнейшей части будет произведена попытка определения и описания концепции языка А. Введенского, главной установкой которого является поэтическое исследование и критика свойств языка.
В первой половине XX в. представители самых разных направлений в науке и искусстве и даже политике обращают внимание на языковой фактор как один из главнейших в формировании культуры. Исследования в естественных и гуманитарных науках обнаруживают в это время многие сходные позиции с художественным дискурсом. Период рубежа веков до установления и закрепления 1-м Всесоюзным съездом советских писателей нового соцреалистического метода в искусстве характеризовался небывалым вниманием интеллектуальной элиты к языку, а также огромным количеством самых разнообразных экспериментов. Чего стоит одно возрождение мертвого языка иврита, создание ех пihilo искусственного языка эсперанто или появление новых революционных течений в лингвистике (структурализм), литературоведении (формализм), этнологии (структурализм), психологии (фрейдизм). Появление нового связано с кризисной ситуацией в мировом обществе, быту и художественном миросозерцании и всеохватывающей переоценкой знаний и опыта человечества. Кульминационным моментом в данной последовательности служит осознание кризиса языка как средства общения, носителя мысли и материала художественного творчества. Перечисленные факты повлекли серьезные изменения в области философии. В рамках нового подхода к языку анализировалась взаимосвязь мышления и языка, выявлялась основополагающая роль языка, слова и речи в процессе познания и в структурах сознания, знания и опыта. Главным рычагом «лингвистического переворота», который произошел в начале века и имел непосредственное отношение к критике языка, стала аналитическая философия. Значительное влияние на возникновение аналитической философии оказала философская мысль Лейбница, истоки которой восходят к ХVII-ХVIII вв. Он, в частности, развил идеи Декарта о создании философского языка. Данное направление, связывающее рациональную критику естественного языка с лингвопроектированием, то есть с созданием «истинного» логического языка (или метаязыка), стало основным для философии логического анализа.
В этом контексте творчество А. Введенского предстает как одна из немногочисленных и самобытных попыток провести критику языка своей поэтической практикой. Далее будет рассмотрена глобальная установка Введенского на поэтическое исследование языкового выражения, которая в современном научном дискурсе носит название «поэтической гносеологии», в основу которой легли семантическая бессмыслица и игровой принцип. Примечательно, что и И. Кант, один из первых теоретиков игрового начала в гносеологии, вводит понятие «игра» в своей заключительной критике — Критике способности суждения (1790), призванной объединить, по замыслу философа, две предшествующие работы — Критику чистого разума (1781) и Критику практического разума (1788).
Александр Введенский «посягнул на понятия и исходные обобщения», благодаря чему он «провел поэтическую критику разума — более основательную, чем та (Канта) отвлеченная»88
Введенский анализировал употребление языковых знаков и выражений в качестве источника постановки и решения философских проблем, более того, его поэзия фактически сводится к такой аналитической практике, которая, как и наука, предполагает поиск доказательства: «Я делал это на практике, в поэзии, и тем доказывал»89
Введенский уникален тем, что, к примеру, на вопрос о сущности времени он пытается «ответить искусством». Критическое поэтическое исследование языка приводят Введенского к главным положениям аналитической философии Л. Витгенштейна. Введенский не был знаком с философскими концепциями последнего, их поиски велись самостоятельно, и они лишены взаимовлияний, что в еще большей степени заставляет обратить на себя внимание.
Пристальное внимание, уделяемое гносеологическому потенциалу языка как организующего начала познания, отличают Введенского от поэтов предыдущих поколений и связывают его с таким выдающимся современником, каковым был австрийский философ и логик Л. Витгенштейн. Сопоставлений некоторых положений двух авторов позволяет выявить ряд неслучайных совпадений. «Недоверие к грамматике, — говорит Витгенштейн, — есть первое требование к философствованию»90,
а спустя несколько лет добавляет, что философию следовало бы писать как поэзию.
Именно этим на протяжении всего своего творчества занимался авторитет бессмыслицы. «Я усумнился, что,
например, дом, дача и башня связываются и объединяются понятием четыре. Может быть, плечо надо связывать с четыре»91
Множество обрывов и многоточий в выводах Витгенштейна свидетельствуют о том, что нередко его мысль не находила полного выражения и со временем превратила его в ревнителя поэтического слова и мистика. Одна из главных проблем авангарда, сущность которой заключается в том, что какая-то мысль, упреждающая слово, несомненно, существует, однако любые попытки её высказать, чаще всего оборачиваются профанацией, не обошли стороной и австрийского философа. Согласно Витгенштейну, именно язык преодолевал мысль и расширял ее границы, а не наоборот. Иными словами, язык является главным орудием в поисках смысла. Таким же образом роль языка понималась Введенским.
Рефлексия над языком как средством познания приобщает творчество Введенского к работам мыслителей, совершивших «лингвистический поворот». В истории философии семантическую бессмыслицу принято соотносить с аналитической философией Б. Рассела и Г. Фреге, а также с философией языка Л. Витгенштейна. Суть такого поворота заключалась в переходе от одного объекта исследования к другому: от человека и мира к языку, на котором можно говорить о человеке и мире. В свете подобного подхода основной задачей литературы и философии стало решение прагматических и в результате — семантических проблем языка. Для этого был пересмотрен феномен игры. Данный феномен обладает двойственной природой, воссоздающей двойственность самого человека. Рациональность и иррациональность, закономерность и свобода, порядок и стихия — сохранение диалогического равноправия является условием любой игры. Игра «служит как бы регулятором и коррективом реальности, придавая ей то, чего в ней не достает, внося в природную стихию начала организации, а в социальный порядок — начала импровизации»92
Введенский в поэзии, как и Витгенштейн в философии, убедились в «ложности прежних связей», однако у автора Серой тетради не было ответа на вопрос, какие должны быть новые связи. Более того, он не был уверен, «должна ли быть одна система связей или их много»93. Витгенштейн говорит об этом следующее: «Логика имеет дело с любой Возможностью, и ее Факты суть все Возможности»94. При этом «все Факты принадлежат задаче, а не решению»95, то есть ответ как таковой не имеет значения.
«Перед каждым словом я ставлю вопрос: что оно значит...»96, — писал Введенский в Серой тетради. Постановка вопроса и установление значения являются ключевыми мотивами в поэзии Введенского. Мотивы установления значения, выяснения смысла, понимания-непонимания, пронизывающие такие стихотворения, как Две птички, горе, лев и ночь:
...тут птичка первая сказала
я одного не понимаю
она частицами летала
над пышной колокольней леса
она изображала беса
я одного не понимаю
неясно мне значение игры
которой барыня монашка
со словом племя занялась
и почему игра ведро
спрошу я просто и светло
о птичка медная
сказало горе
игрушка бледная
при разговоре
теряет смысл и бытие
и всё становится несносное питье
о молодая соль
значения и слова...
[ПСС, с. 96-97]
или Значенье моря:
Чтобы было всё понятно
надо жить начать обратно
и ходить гулять в леса
обрывая волоса
[ПСС, с. 121]
или же позднейшее произведение Потец, приобретают сюжетообразующую роль — оно целиком строится на выяснении значения этого слова.
Не иначе рассуждает австрийский философ-логик, который в соответствии со своими взглядами на «значение» слова как его «употребление», строит свою концепцию лингвистической философии как деятельности по прояснению того, что он называет «грамматикой высказывания», то есть того, что реально означают слова в различных «языковых играх». Особенно важным в свете сопоставления с опытами А. Введенского представляется тезис Витгенштейна о том, что грамматическое исследование раскрывает «возможности явлений».
Так, анализируя высказывание Августина «Что есть время?..», Витгенштейн призывает не вдаваться в метафизические и научные перипетии вопроса, а исследовать его чисто грамматически: «Нам представляется, будто мы должны проникнуть вглубь явлений, однако наше исследование направлено не на явления, а, можно сказать, на «возможности» явлений»97.
То есть следует проводить эксперименты и вести наблюдения за тем, как слово
«время» употребляется в языке. В Логико-философском трактате (5.1361) Л.
Витгенштейн объявил, что «события будущего не могут быть выведены из событий настоящего. Вера в
существование причинной связи является суеверием»98. Ощущение
«бессвязности мира и раздробленности времени» было характерно также для Введенского. Кроме того,
«авторитет бессмыслицы», рассуждая о грамматике времени, полагает, что «надо
для начала отменить хотя бы дни, недели и месяцы. Тогда петухи будут
кричать в разное время, равность промежутков не существует, потому что
существующее не сравнить с уже несуществующим, а может быть и несуществовавшим»99.
Подобные противоречия озадачивали Блаженного Августина, когда он писал «что я измеряю время, это я знаю, но я
не могу измерить будущего, ибо его еще нет; не могу измерить настоящего, потому
что в нем нет длительности, не могу измерить прошлого, потому что его уже нет.
Что же я измеряю? Время, которое проходит, но еще не прошло?»100. В
Голубой книге101
Но мир, который существует во времени, и сам есть время, непостижим с помощью мысли и не стоит пытаться проникнуть вглубь явлений, ибо, как утверждает Введенский в неоконченном трактате «Серая тетрадь»: «наша человеческая логика и наш язык не соответствует времени ни в каком, ни в элементарном, ни в сложном его понимании. Наша логика и наш язык скользят по поверхности времени»102
Для Витгенштейна знак — звуковой, письменный, печатный — мертв. Чтобы вдохнуть в него жизнь, нужны различные языковые игры. Жизнь дает знаку его применение. Значение знака — способ его употребления. Витгенштейн пытался перейти к анализу прагматического, деятельностного аспекта языка, то есть языка в его реальном употреблении, отказавшись от анализа его сущностной природы. Данный подход можно было реализовать, только предложив новый, принципиально иной метод. В основу этого подхода и легло то, что стало известным как концепция «языковых игр».
Перечисляя возможности языковых игр, Витгенштейн показывает, что, их количество неисчислимо («бесчисленное множество»). Говоря о неисчислимости типов предложений в реальной языковой практике (в отличие от грамматической исчислимости), Витгенштейн отмечает, что данная множественность неустойчива и демонстрирует постоянную изменчивость. Понятие языковых игр, по замыслу Витгенштейна, универсально, то есть применимо к любому виду языковой деятельности. Особенность метода австрийского логика состоит в том, что он, при рассмотрении той или иной конкретной языковой игры, демонстрирует возможности данного понятия прояснить нечто о языковой деятельности в целом. Идея Витгенштейна о необусловленности функций высказывания грамматическими формами ставит Витгенштейна вне современных ему лингвистических традиций.
В поэтике Введенского можно найти схожие установки. Во-первых, в декларации ОБЭРИУ имеется характеристика творческого метода Введенского, данная Заболоцким: «А. Введенский (крайняя левая нашего объединения) разбрасывает предмет на части, но от этого предмет не теряет своей творческой закономерности. (...) Нужно быть побольше любопытным и не полениться рассмотреть столкновение словесных смыслов»103
Ярким примером воплощения данного художественного принципа является «мистерия-действо» под названием Потец, в основу которого легло драматическое размышление о значении: о соотношениях между словом, определением, миром и сознанием. Кроме этой темы в произведении появляется также тема смерти и наследования, что значительно расширяет область значений первого из трех драматизированных произведений «харьковского периода». Сюжет пьесы достаточно прост: трое сыновей у отеческого смертного одра пытаются добиться от него ответа на волнующий их вопрос: «что такое есть Потец?». В итоге они получают не словесный ответ, как они этого хотели, а ответ в форме отцовской смерти, который они, судя по всему, «уже знали заранее». Вопрос сыновей становится вопросом о значении смерти. О значении смерти мы можем судить только на чужом опыте, а когда смерть касается нас, наш опыт исчезает. Витгенштейн в пункте 6.431 Трактата по этому поводу говорит, что «с наступлением смерти Мир не меняется, а скорее, перестает быть»104
При рассмотрении данной пьесы исследователи неоднократно совершенно справедливо указывали на фольклорную структуру загадки и отгадки. На вопрос «Что такое есть Потец?» в тексте произведения дается ответ-разгадка. «Потец» — это слово выдуманное Введенским, неологизм, который не зафиксирован ни в одном словаре. По словам Мейлаха, «в этом слове, вынесенном в название, заложено парадоксальное несоответствие между глубинным содержанием произведения и снижающим суффиксом (-ец)»105. Введенский
дискредитирует возможность определения слова «потец» с его странным значением
(холодный пот, выступающий на лбу умершего.). В данном случае ответ данный
автором в пьесе не разрешает главного вопроса: его герои, несмотря на
полученный ответ, продолжают свои поиски, изощряясь в очередных тавтологиях,
что наводит на мысль о том, что «загадки нет» и «если вопрос вообще можно
поставить, то на него также можно дать и ответ»106
У Введенского языковой игрой, которая должна преодолевать логическое мышление, видящее реальность вокруг статичной, расчлененной на бинарные структуры, стал принцип «некоторого равновесия с небольшой погрешностью». Данное определение было придумано Я. Друскиным при анализе поэтических установок Введенского. Погрешность в данном случае выступает в качестве нарушения традиционных связей, сложившихся в истории формирования языка. В подтверждение можно привести еще один факт из воспоминаний Я.Друскина: «Введенский раз сказал мне: бывает, что приходит на ум две рифмы, хорошая и плохая, и я выбираю плохую, именно она будет правильной»108
Шёл по небу человек
Быстро шёл шатался
Был как статуя одет
шёл и вдруг остался
ночь бежала ручейком
говорили птички
что погода ни о ком
что они отмычки
[ПСС, с. 127-128]
Здесь первые три строчки еще можно воспринять как две изощренные метафоры, но четвертая разрушает этот образ. В данном случае мы имеем дело с языковой игрой на уровне синтаксиса и стилистики. Глагол «остался» требует обстоятельства места в предложном падеже, сообщающего, где остался человек, но это обстоятельство отсутствует. В результате использования семы (знака) не начатого движения происходит остановка и отрицание движения, начатого ранее. Все предыдущее высказывание замыкается в пустоте неопределенности, лишая читателя возможности истолковать его привычным образом, как сообщение о чем-то. Итак, вместо определенного эстетического переживания, мы остаемся с вопросом, на который ум в принципе не может дать ответа. Такую ситуацию чинари — группа друзей-философов, в которую входил Введенский, и называли иероглифами.
Термин иероглиф в применении к данному контексту был придуман одним из чинарей — Л. Липавским и активно использовался Я. Друскиным в его исследованиях творчества Введенского. Иероглиф обозначает такое явление, которое разум не может поместить в систему собственных понятий, объяснить, и которые, таким образом указывает на путь за пределы мышления. Друскин об этом пишет следующее: «Иероглиф двузначен, он имеет собственное и несобственное значение. Собственное значение иероглифа — его определение как материального явления — физического, биологического, физиологического, психофизиологического. Его несобственное значение не может быть определено точно и однозначно, его можно передать метафорически, поэтически, иногда соединением логически несовместимых понятий, т.е. антиномией, противоречием, бессмыслицей. Иероглиф можно определить как обращенную ко мне косвенную или непрямую речь нематериального, то есть духовного или сверхчувственного, через материальное или чувственное».110
В данном случае можно положительно утверждать, что существует тождество основных философских положений Введенского и Витгенштейна.
Тем не менее, Введенский не ограничивается лишь констатацией фактов, установлением правил «языковых игр» или «столкновения смыслов», он активно включается в процесс семантического эксперимента, ведущего к увеличению семантической емкости слова или «возможности явления». В этом контексте «поэтическую критику разума» Введенского следует воспринимать не как простую констатацию факта абсурдной бессвязности мира и трагического положения, человека в него погруженного, а как способ выйти за пределы языка, мира, трагизма и абсурда. А. Введенский однажды сказал: «о стихах надо говорить: не — красиво или некрасиво, а правильно или ложно»111
Витгенштейн был более скептичен по отношению к бессмыслице или — иероглифам, в номенклатуре чинарей. Он считал, что «лишь закономерные отношения мыслимы»112
Витгенштейн, в последней констатации Трактата... предлагает выбрать молчание: «О чем невозможно говорить, о том должно умолкнуть»114
И лишь в последнем, прощальном произведении он капитулировал, устами своего героя говоря следующее: «Он ничего не понял, но он воздержался»116
3.4. Трагический абсурд как свидетельство эпохи118
Владимир Набоков в своем курсе лекций по русской литературе вслед за Сартром и Камю он утверждал, что абсурд возвращает литературе категорию трагического, а потому первым русским абсурдистом является Н. В. Гоголь, так как он, по мнению Набокова, сумел совместить в себе и абсурдное, и трагическое: «Абсурд был любимой музой Гоголя, но когда я употребляю термин «абсурд», я не имею в виду ни причудливое, ни комическое. У абсурдного столько же оттенков и степеней, сколько у трагического, — более того, у Гоголя оно граничит с трагическим»119
Трагизм — один из способов постижения и художественного воплощения жизненных противоречий. Существенным показателем его присутствия в произведении является трагический герой, а в связи с ним и неразрешимый конфликт, антиномия оптимистического и пессимистического, диалектика случайного и необходимого.
В ХХ веке жанр трагедии претерпевает существенные изменения, в первую очередь, потому, что радикально изменилась концепция личности. Экзистенциально несвободная личность больше не бросает вызова своей судьбе, Богу, космосу и, соответственно, не погибает в неравной борьбе, а, напротив, долго и мучительно переживает этот непримиримый конфликт с миром и с самим собой. Поэтому в ХХ веке следует говорить скорее о трагическом начале, о трагическом пафосе, о категории трагического, в то время как сам жанр приходит в упадок. Новый импульс приобретает драма. Канун Второй мировой войны и послевоенное время ознаменовалось стремительным развитием творчества таких авторов драмы, которым близка эстетика абсурда. А. Введенский и представители западноевропейского театра абсурда основным атрибутом действительности делают абсурд, события, происходящие в жизни, лишаются внутреннего смысла и причинно-следственных связей. Главной установкой поэтики становится трагическое выражение несоответствия и бессмысленности логических категорий и форм (в том числе языковых), в которых протекает повседневная жизнь человека и за которыми скрывается безысходная трагичность бытия с его иррациональной жестокостью и смертью120
Прежде чем попытаться представить некоторые воплощения трагического абсурда в творчестве Введенского, напомним конспективно основные вехи биографии автора Мне жалко что я не зверь. В своём исследовании Материалы к поэтике Введенского Я. С. Друскин подчеркивает, что «творчество Александра Введенского полностью отделимо от его жизни»121
Анализ художественного наследия показывает, что концепция трагического абсурда у Введенского начинает складываться с самого начала творческого пути, т. е. уже в период 1925-27 гг., когда поэт подписывал свои произведения — «чинарь авторитет бессмыслицы». Далее следует знакомство с Д. Хармсом, Н. Заболоцким, Н. Олейниковым и оформление их творческого союза в Объединение Реального Искусства (ОБЭРИУ). Однако «последние левые» довоенного Ленинграда, обэриуты, продержались недолго. В печати появились резкие отклики на их публичные выступления, комсомольская аудитория которых, судя по этим откликам, была скандализирована аполитичностью «непонятных поэтов». Политическая неангажированность и социальная незадействованность («сын врача» в протоколе допроса в рубрике «сословие») стала одной из главных причин ареста.
В конце 1931 года Введенский был арестован. Известно, что автора арестовали в вагоне поезда. С отъездом на поезде будут связаны спустя 10 лет трагические обстоятельства его второго ареста. Надо сказать, что «отъезд» у Введенского обычно выступает знаком, «иероглифом» перемещения в иной мир; так в последнем из сохранившихся текстов Где. Когда о человеке, который перед смертью прощается со всем сущим в мире сказано:
<Он д>олжно быть вздумал куда-нибудь, когда-нибудь уезжать.
[ПСС, с. 264]
Главный удар Ленинградского ГПУ был направлен в детский сектор Госиздата. Введенский был арестован «по подозрению в участии в антисоветской нелегальной группировке литераторов»122
И все ж бегущего орла
Не удалось нам уследить
Из пушек темного жерла
Ворон свободных колотить
[ПСС, с. 75]
Умудренный длительными «литературоведческими штудиями» следователь Бузников в этих строчках обнаружил, что «при всей их внешней монархической определенности нельзя переложить понятным языком, то о ведущей идее этого стихотворения следует сказать прямо: эта ведущая идея заключена в оплакивании прошлого строя, и в таком выражении она и понималась окружающими»124
После первого ареста все последующие произведения начинают отличаться особой заостренностью онтологической проблематики. Вероятно, именно в ссылке Введенский пишет то, что позже было условно названо Серой тетрадью: размышления о времени, смерти, последнем смысле слов и предметов.
С 1936 года, когда поэт, женившись на Г. Викторовой, переехал в Харьков, в котором всё-таки не мог укрыться от террора (а заодно оставшись и без друзей-сотрудников разгромленной в 1937 году детской редакции С. Маршака), в его творчество, вплоть до конца его жизни, резко ворвалась сюжетно обогащенная тема смерти отдельного человека, группы людей и самого поэта, а также тема безоговорочного, порой парадоксального исчезновения (примером пусть послужит Некоторое количество разговоров).
Философская концепция трагического абсурда у Введенского предстает как совершенно самостоятельная и законченная модель. Художник представляет нам трагизм как цепь неразрешимых конфликтов, составляющих логику жизни отдельного человека и истории в целом. «Поэтика бессмыслицы» А. Введенского реально обнаруживает «неукладываемость мира» в рамки обусловленного сознания, и в этом, наряду с её деструктивной функцией, её главное содержание: «Я посягнул на понятия, на исходные обобщения, что до меня никто не делал. Этим я провел как бы поэтическую критику разума — более основательную, чем та, отвлеченная. Я усумнился, что, например, дом, дача и башня связываются и объединяются понятием здание. Может быть, плечо надо связывать с четыре. Я делал это на практике, в поэзии, и тем доказывал»125.
Критика разума Введенского главным образом развенчивает представление о последовательности — порядкового исчисления — в особенности касательно времени всего существующего и происходящего. В Серой тетради Введенский пишет об искусственных наименованиях и измерениях, с помощью которых мы «понимаем» время: «Нельзя сравнивать три прожитых месяца с тремя вновь выросшими деревьями. Деревья присутствуют и тускло сверкают листьями. О месяцах мы с уверенностью сказать того не можем»126
Время существует только в субъективном восприятии; в момент смерти время останавливается. Но мир, который существует во времени, и сам есть время, непостижимым с помощью мысли, ибо, как утверждает Введенский: «Наша человеческая логика и наш язык не соответствуют времени ни в каком, ни в элементарном, ни в сложном его понимании. Наша логика и наш язык скользят по поверхности времени»127
После ареста процесс познания нарочито обращается вспять. Во всем последующем творчестве автора всё начинает происходить в обратном направлении:
Чтобы стало всё понятно
надо жить начать обратно.
[ПСС, с. 121]
В 1933 году, разговаривая с Липавским, Введенский констатировал: «И я убедился в ложности прежних связей, но не могу сказать, какие должны быть новые. Я даже не знаю, должна ли быть одна система связей или их много. И у меня основное ощущение бессвязности мира и раздробленности времени. А так как это противоречит разуму, то значит разум не понимает мира»129.
Проблема значения мира, любого его феномена и понимания с этого момента появляется в поэзии А. И. Введенского. Мотивы установления значения, выяснение смысла, понимания — непонимания приобретают сюжетообразующую роль. Оно целиком строится на выяснении значения этого слова. В Серой тетради мы можем прочесть: «Перед каждым словом я ставлю вопрос: что оно значит, и над каждым словом я ставлю показатель времени»130
Уже с середины 1930-х в искусстве Введенского все сильнее ощутимы трагедийные мотивы. Обратимся к некоторым произведениям Введенского, которые справедливо считаются вершиной творчества писателя.
Мне жалко, что я не зверь... написанное в 1934 — «одновременно и ода природе и чуду жизни, и печальная песнь о бренности жизни и ветхости материи. Стремление к свободе и сожаление из-за невозможности переживания других видов существования»131
Мне жалко, что я не зверь бегающий по синей дорожке говорящий себе поверь а другому себе подожди немножко.
[ПСС, с. 208]
Замкнутый в своём теле, человек только предчувствует свободу неукротимого мира природы, существующего и живущего вне оков рассудка. Сознание невозможности познания нагнетает бессилие. «Свобода представляет собой или полное незнание существ и предметов, упоминаемых лирическим героем, или абсолютное знание, человеком недосягаемое»132
Мироощущение А. Введенского, полное драматических прозрений и неожиданных откровений 30-х, нашло своё концептуальное воплощение в пьесе Ёлка у Ивановых. Данная пьеса, как было доказано, является предвосхищением западного послевоенного театра абсурда, который она опередила на десятилетие. Пусть косвенно, но довольно ощутимо автор присутствует в этой пьесе, где сошлись пародия и карнавальность, трагизм и горькая правда. Трагедия здесь остранена в меньшей степени, чем в западном театре абсурда, и имеет непосредственное отношение к личной жизни писателя. Время написания пьесы — 1938 год, кульминация сталинского террора, что связано с личной судьбой автора. Драматическое напряжение достигает предельных значений — богозабытость, экзистенциальный страх и бессмысленность существования звучат в этом произведении с особой силой.
Композиция Ёлки у Ивановых Введенского выглядит вполне упорядоченной — пьеса состоит из четырёх действий в девяти картинах с точным указанием времени и места действия и по своему внешнему облику напоминает образцы едва ли не античной трагедии или драмы времен Шекспира. Античные мотивы заявлены в пьесе с первой картины первого действия:
ПОЛИЦИЯ
Приятно встретить
Людей культурных
ДЕТИ (хором)
Всегда ль вы ходите в котурнах?
ПОЛИЦИЯ
Всегда. Мы видели труп
Тут человек лежит бесцельно
Сам нецельный Что тут было?
ДЕТИ (хором)
Нянька топором
Сестрёнку нашу зарубила.
[ПСС, с. 242]
Дети играют здесь роль античного хора. Аналогия подкреплена упоминанием котурнов — непременной детали костюма актёров греческого театра133
Таким образом, в Ёлке у Ивановых присутствуют и формальные компоненты трагедии и трагическое как эстетическая категория, проявляющиеся через трагический конфликт и трактовку темы смерти и сложные референции, относящиеся к историческому времени. Однако стройность и упорядоченность в пьесе Введенского, а тем самым некоторое сходство с классической трагедией, фиктивны. Бессмыслица начинается уже с названия пьесы: ни одно из действующих лиц не носит фамилию Ивановы. Несмотря на узнаваемость социально-политических реалий в пьесе Введенского они составляют лишь декорацию, на фоне которой разыгрывается экзистенциальная драма человека. Все эти реалии служат одной цели — цели разоблачения устойчивых механизмов сознания, будь то в эпохе или в семейной жизни, а с ними и самого поверхностного понимания событий и времени.
Эротическая сцена, которая следует за горестным плачем родителей, на первый взгляд может показаться алогичной и необоснованной, однако именно «она открывает важную для экзистенциального сознания идею: истинное бытие — это путь к смерти, человек мечется между Эросом и Танатосом в тщетном стремлении избавиться от тоски и отчаяния»134
Тема кризиса, неадекватности и вообще необходимости пресечения дискурсивного мышления обнаруживается в одном из сквозных мотивов произведения Введенского — мотиве безголовости.
Личность представлена лицом к лицу с онтологическими проблемами жизни и смерти, конечности человеческого существования. Смерть является главным событием пьесы. Как известно, в первой сцене пьесы дети разных возрастов от 8 до 82 лет сидят вместе в одной большой ванне, а рядом в тазу годовалый мальчик Петя Перов, который недоверчиво вопрошает:
Будет ёлка? Будет. А вдруг не будет. Вдруг я умру.
[ПСС, с. 240]
Гибель дочери и последовательное умирание всех членов семьи Пузырёвых составляют фабулу драмы. В сущности, между убийством в первой картине Сони Островой и смертью всех в последней, в пьесе ничего не происходит. Подводя своих героев к последней, роковой черте, художник заставляет их заново осмыслить экзистенциалии жизни. Введенский оказывается художником, прежде всего, трагическим, все творчество которого (по крайней мере, позднее) построено вокруг переживания невозможности найти истинные слова для истинных ощущений. Разрушение акта коммуникации стало одной из главных тем пьесы Елка у Ивановых. В другом месте Введенский пишет: «Я понял, чем я отличаюсь от прочих писателей, да и вообще от людей. Те говорили: жизнь — это мгновение в сравнении с вечностью. Я говорю: она вообще мгновение, даже в сравнении с мгновением»135
В Элегии, как и в следующем — последнем — произведении, написанном в предвидении надвигающейся гибели, более, чем где-либо в остранённом творчестве поэта, ощущается личная нота. Элегия в целом является образцом беспредельного отчаяния поэта, сознания тщетности устремлений, гаснущих в пошлости жизни, а также раскаяния за то, что «я» постыдно принадлежало «мы» и не сумело отстоять свою независимость:
воспели смерть, воспели мерзость
(...)
мы друга предаем бесчестно
И Бог нам не владыка (...)
Я с завистью смотрю на зверя
ни мыслям ни делам не веря
умов произошла потеря
бороться нет причины.
[ПСС, с. 263]
По этой причине довершением становится резко побудительный зов:
На смерть! На смерть! держи равненье
поэт и всадник бедный.
[ПСС, с. 263]
не имеющий прецедентов в трагической истории русской поэзии.
Поэту осталось одно: проститься с миром, который он вынужден покинуть, что и происходит в сохранившихся фрагментах Где. Когда — в предсмертном тексте Введенского. Фрагмент этот уникален, он, возможно, в наибольшей степени толкует ряд черт этого опуса, которым Введенский отличается от всех других поэтов. Это последнее дошедшее до нас произведение поэта, написанное приблизительно в первой половине 1941 года, представляет процесс поэтического переживания процесса умирания. Лирический субъект писателя, о котором говорится в третьем лице, обращает поочередно свои прощальные слова к миру природы, однако в этой цепи прощаний нет места для людей; лишь во фрагменте Когда он вспомнил, что забыл проститься с прочим, причём «прочие» — это могут быть вовсе не люди. По этому поводу уместно будет привести слова проф. О. Г. Ревзиной об отсутствии отношения Человек — Человек в поэтическом пространстве Александра Введенского. Лирическое «Я» устанавливает отношения «не к другим людям, а к объектам других видов, находящихся в том же мире» таким как «небесные светила, солнце, звёзды, горы, камни, море»; оно («Я») определяет себя по отношению к центральным ценностям данного мира — Богу и смерти»136
Причиной гибели Введенского стала трагическая цепь событий: донос — арест — смерть на этапе. Смерть писателя стала символом эпохи, в которой ему пришлось жить. На основании показаний некоего Дворчика, который с чужих слов свидетельствовал, что поэт вел пораженческую агитацию, ему было предъявлено обвинение по статье 54-10 — «в проведении антисоветских разговоров о якобы хорошем отношении немцев с населением на занятых территориях, в отказе эвакуироваться вместе с семьей и побуждений к этому других лиц»137
Эти рассуждения не исчерпывают, конечно, всей сложности и многообразия темы трагического абсурда в творчестве Введенского, хотелось бы только добавить, что трагический ход жизни проник в художественные произведения А. Введенского и нашел своё воплощение в последних дошедших до нас произведениях поэта. В них категория трагического претерпевает переход из области эстетического в область экзистенциального порядка. Бессвязность мира и раздробленность времени, трагическая раздвоенность человека, ответственность личности за каждый свой шаг, метафизическая участь человека в мире, роковые пределы его судьбы; физическая конечность, одиночество, Бог, свобода, «я» и другие — вот те фундаментальные проблемы, которые легли в основу концепции трагического и определили ход мысли автора Элегии.
Остается добавить, что Введенского могла постигнуть «вторая смерть» и память о нем умерла бы вместе с ним и его немногочисленными уцелевшими друзьями, если бы Я. Друскин, который к тому времени страдал дистрофией, не отправился через весь блокадный Ленинград на квартиру Хармса, чтобы спасти то, что еще можно было спасти. Там он встретил М. Малич, вторую жену Хармса, но она уже не проживала в этой квартире, поскольку в дом попала бомба. Кроме того, после ареста Хармса оставаться в этой квартире было крайне небезопасно. М. Малич передала Я. Друскину чемодан, в котором находился архив не только Д. Хармса, но и А. Введенского, рукописи которого «чинарь-взиральник» бережно хранил. Я. Друскин не расставался с этим чемоданом даже во время эвакуации. В течение 15 лет Я. Друскин все еще надеялся на возвращение своих друзей и не прикасался к спасенному архиву. Только в 50-х годах, когда надежд на возвращение уже не оставалось, он начал его разбирать. В течение следующих десяти лет он искал достойных продолжателей его миссии по спасению истории и творческого наследия Введенского от забвения. Теперь можно со всей уверенностью утверждать, что более достойного кандидата, чем филолога и поэта М. Мейлаха, ему вряд ли удалось бы найти.