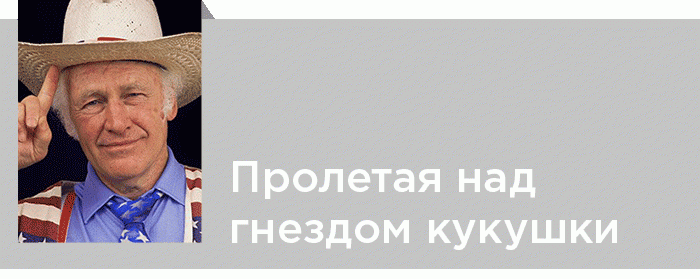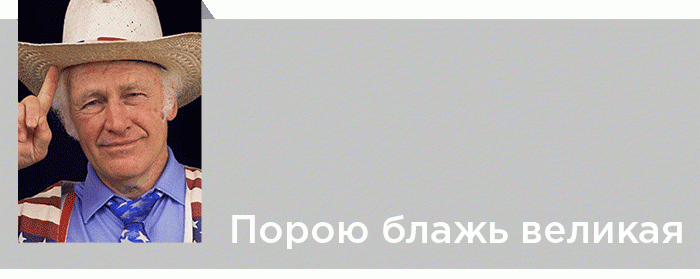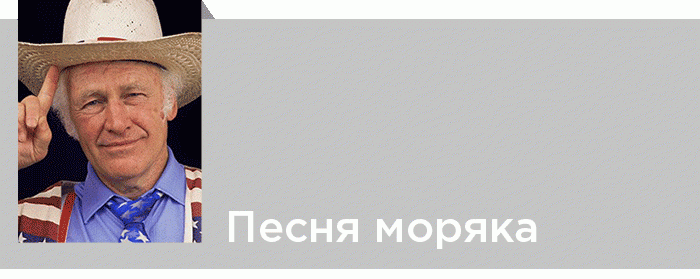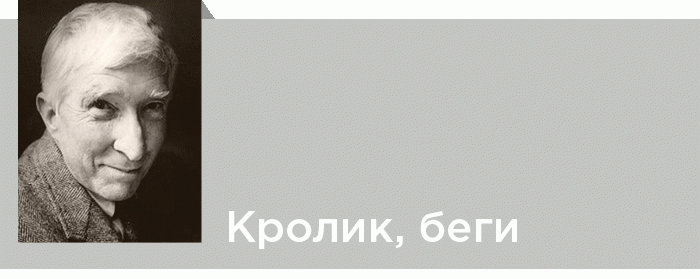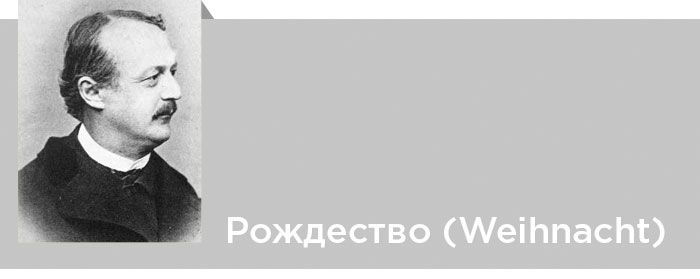Непробужденные души
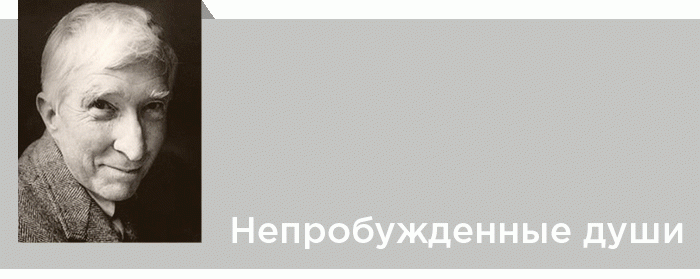
В. Шохина
Прозаик, поэт, драматург и критик, автор 25 книг и множества журнальных публикаций, Джон Хойер Апдайк, которому в 1981 году исполнилось 50 лет, — один из самых пишущих и самых читаемых писателей современной Америки. Дебютировав в 1958 году сборником изысканно-забавных стихов «Деревянная курица», он обратил на себя внимание западной публики по выходе своего второго романа «Кролик, беги» (1960). Наш же читатель до сравнительно недавнего времени (до выхода в 1979 году в издательстве «Художественная литература» однотомника, содержащего романы «Кролик, беги» и «Давай поженимся») воспринимал Апдайка преимущественно под знаком «Кентавра» (1963), ибо появление этого романа в 1965 году на страницах «Иностранной литературы» в переводе В. Хинкиса осталось на долгие годы в нашей литературной памяти как самое значительное событие, связанное с именем писателя. Между тем Джон Апдайк создал еще восемь романов. Из не переводившихся на русский язык следует назвать «Супружеские пары» (1968), где речь идет о людях, живущих активной жизнью плоти и пассивной жизнью духа, «Месяц из выходных» (1974), представляющий собой исповедальные записки гаерствующего циника — священника, на время отстраненного от службы. И, наконец, «Переворот» (1978) — тематически и географически выпадающий из ряда роман, действие которого происходит в вымышленном африканском государстве Куш. Написанный на основе впечатлений от поездки с лекциями по странам Южной Африки, он, с одной стороны, восходит к «Королям и капусте» О.Генри, а с другой — напоминает об имевшем большой успех в США середины 70-х годов романе Г. Гарсиа Маркеса «Осень патриарха».
В конце 1981 года в списках бестселлеров (которые часто оказываются вполне реальными свидетельствами писательского успеха) появился новый роман Апдайка «Кролик разбогатевший». Так после экзотического «Переворота» писатель вновь ступил на хорошо знакомую территорию своей «малой родины» — протестантского городка в штате Пенсильвания. «Кролик разбогатевший», — третья книга цикла, написанного с большим интервалом («Кролик, беги» в 1960 году и «Кролик возвращается» в 1971 году), но объединённого одним героем, некогда незадачливым и незначительным Гарри Энгстромом по кличке «Кролик».
Романы трилогии, как, впрочем, и большая часть произведений Апдайка, посвящены перипетиям приватной жизни и уже в силу того традиционны. Они традиционны и в том смысле, что почти ничем не раздражают читательского восприятия и с достаточной легкостью позволяют прочитывать себя или по меньшей мере создают видимость того (в отличие, например, от «Кентавра»). Он вышел из так называемой школы журнала «Нью-Йоркер», славящейся «канонами завершенности, допускающей различные толкования» (строго говоря, это не столько школа, сколько знак принадлежности литератора к «ложе мастеров». В свое время им были помечены Дж. Сэлинджер и Ф. Рот, Дж. Чивер и Б. Маламуд и др.). Поэтому порой артикулированную обыденность апдайковских романов не стоит принимать за всю правду о них.
Англоязычная, а вслед за ней и отечественная критика часто интерпретировала роман «Кролик, беги» как очередную историю маленького человека или, если воспользоваться популярной и невнятной социологической категорией «среднего американца», сохранившего в себе человечности ровно настолько, чтобы бежать — увы, без ясной цели и позитивной программы — от благополучного, но обездушенного «общества потребления». Сказывалась инерция восприятия, связанного воспоминаниями о романтическом герое начала 50-х годов, классическим воплощением которого был Холден Колфилд (Дж. Сэлинджер «Над пропастью во ржи», 1951, пер. 1960) — рефлектирующий подросток, аутсайдер, не приемлющий пошлости пошлого мира и бунтующий посредством бегства в неведомое, такой несколько подросший, но не утративший симпатичной детскости Гек Финн в условиях послевоенного просперити. К концу 50-х тема убегающего бунтаря-жертвы была, очевидно, пережита американской литературой, что и подтвердил Апдайк, построив свой роман на иронической парафразе сэлинджеровского сюжета.
Апдайк спорит не столько с самим Сэлинджером, сколько с порожденной им аффектированно-сочувственной литературной версией поисков истины необычным индивидом необычными способами — вопреки обычной жизни. Поэтому в его романе вульгарна не жизнь, окружающая Кролика — она обычна, как ей и положено, — вульгарен сам Кролик. (Братец Кролик — трусливый персонаж американского фольклора, знающий один способ борьбы с неприятностями: бегство.) И если герой Сэлинджера бежал от «тьмы вовне», то его литературный потомок и по романному возрасту «старший брат» Гарри Энгстром пытается бежать от «тьмы внутри», от которой нельзя убежать. У Холдена свет в душе, душа Гарри спит. Вряд ли ему захотелось бы, как Холдену, спасать детей, играющих над пропастью во ржи: окажись пропасть рядом и дано было бы выбирать, он скорее предпочел быть спасаемым ребенком.
На новом, пародийном витке освоения темы необычность оборачивается пошлостью, мнящей себя при том необычностью. Роман начинается бегом и кончается бегом. По мере развития действия бег становится и развернутой метафорой, на которой роман держится, и единственной для героя нравственной, психологической, физиологической, какой угодно основой существования, а остальное происходит в промежутках между бегом. Вначале Гарри бежит домой, а бежит просто так, «чтобы дать работу телу, чтобы вытрясти из головы все мысли». В инфантильном сознании 26-летнего Кролика бег тесно связан с его звездными часами: в школьные годы он, суперзвезда команды, любимец тренера Тотеро, бегал так по баскетбольной площадке. Неуютный дом, беременная жена Джанис, отупевшая от виски и телевизора, в общем, расстроенность быта, требующая преодоления, обращает Кролика уже не в бег — в бегство.
Характерный для послевоенной американской литературы образ автострады приобретает у Апдайка свойства какой-то огромной, хитроумной и страшной ловушки. «Форд» выпуска 55 года бессмысленно мечется в хаосе шоссейных лент — Кролик не знает, куда ему надо ехать. Срабатывает инстинкт, приводящий его к старому тренеру, к человеку, который может подтвердить значимость и необычность Энгстрома и тем самым оправдать его. А Гарри нуждается в оправдании, так как действующая сила его рассудка — предрассудок, говорит ему, старавшемуся никогда не нарушать правил, что-то он делает не так, неаккуратно. Инстинктивно безошибочное стремление к наслаждению, снимающему чувство дискомфорта (тот же бег, вытряхивающий из головы неприятные мысли!), кладет начало сожительству Кролика с Рут, полупрофессиональной проституткой, живущей на 15 долларов со свидания. Кролик — «домашнее животное», и его расчетливое естество желает не одноразовых свиданий, а вариант, обставленный семейными атрибутами. Но внешние обстоятельства, выразившиеся в рождении дочери, заставляют Кролика вернуться к жене. О том, что будет с Рут, ожидающей от него ребенка, он не думает. Не думает он и о Джанис. Когда, ослабевшая от тяжелых родов Джанис отказывается ответить на внезапно вспыхнувшую страсть. Кролик приходит в бешенство. Агрессивно похотливый, он не знает ни сочувствия, ни пощады. Джанис нельзя пить — Кролик наливает ей виски. «Не думай про эту пакость», — говорит он про плачущую дочь. И наконец, от того, что удовольствие испорчено, убегает обратно к Рут, от дискомфорта к комфорту.
Здесь начинается самая сильная и страшная сцена романа, его кульминационная точка, от которой в разные стороны лягут векторы возможных этических оценок предшествующих и последующих поступков Гарри Энгстрома. Джанис ждет свою мать, и ей стыдно опять выглядеть брошенной и несчастной. В лихорадочном стремлении обрести почву под ногами она мечется по квартире, беспомощная перед сюрреалистическим ужасом неуправляемых, надвигающихся на нее вещей. Виски помогает создать иллюзию разумно восстанавливаемого порядка, хотя на самом деле к моменту купания ребенка психофизические реакции Джанис притуплены и искажены — и на ее глазах девочка медленно тонет в ванне.
Кролик возвращается. Простейшая, нерефлектирующая и потому жестокая витальность противится малейшей возможности представить себя виновным или хотя бы причастным к вине, а уловки недалекого, но хитрого рассудка тому помогают («Меня там и близко не было. Это все она»). И он опять бежит, зигзагами, петляя, с похорон своей дочери. Не чувство непереносимого горя, а опять же витальность, инстинкт самосохранения ведут Кролика куда-нибудь подальше от зрелища смерти. Инстинкт и предрассудок — вот полюсы его личности, но предрассудок слишком ничтожен, чтобы обуздать инстинкт: он идет в ход, когда спят душа и разум.
На уровне предрассудков реализуется все мировосприятие Гарри. Он очень шокирован тем, что жена преподобного Экклза «не любит собственных детей» — детей положено любить, это ему известно, тем более жене священника. Он тревожится по поводу отношения Джанис к матери — родителей тоже положено любить. Гарри не нравится, что его сестра посещает один малоприличный клуб, хотя сам он проводит там время с такими же, как сестра, молодыми женщинами. Он не понимает, как Джанис может спать накануне похорон — и с удовольствием засыпает.
На уровне предрассудков реализуется и вера Гарри. Ему «претит темная, запутанная нутряная сторона христианства, его свойство претерпевать, входить во внутрь смерти и страдания...». Зато он «ненавидит всех, кто идет по улице в грязной, повседневной одежде... И соответственно любит тех, кто нарядился для церкви». Блеклый, искаженный отсвет веры — моральный догматизм, направленный на других, не на себя. Ведь именно предрассудки (часто и несправедливо смешиваемые с простыми законами нравственности), эти лежащие на поверхности и не затрагивающие глубин сознания стереотипы дозволенного и недозволенного, порождают двойной стандарт при оценке своего и чужого.
Особый интерес вызывает один из неглавных персонажей романа — молодой священник Экклз, тип несвободного от сомнений, но активного моралиста, напоминающий Теофила Норта (Т. Уайлдер «Теофил Норт», 1973, пер. 1976), который старается примирить всех со всеми, восстановить — или создать заново? — гармонию человеческих связей, нарушить разобщенность близких душ, помочь каждому найти свое. Поклонника английских парадоксалистов Беллока и Честертона, Экклза раздражает «узость и усмиренное мещанство», «его слабость — люди, которые не знают, что делают». Но во всех встречах Экклза и Кролика присутствует и недоуменное любопытство изучающего к изучаемому: Гарри непонятен священнику, непонятно его внешне не мотивированное поведение, а по сути — «неусмиренное мещанство». И хотя было бы наивным видеть в Экклзе рупор идей самого Апдайка (да и существуют ли они вообще, эти alter ego автора?), то же самое неудовлетворенное любопытство исследователя на протяжении более 20 лет влечет писателя к Гарри Энгстрому. «Я люблю середину. Ибо в середине таится неопределенность и вспыхивают страсти, — говорит он. — В домах горожан происходит нечто замысловатое и зловещее, что само по себе уже достойно изучения».
«Кролик, беги» американская критика называет «религиозным» романом, а «Кролик возвращается» — «политическим». Несмотря на заведомое упрощение художественной идеи Апдайка, заключенное в этих эпитетах, в первом — социологическом — приближении романы им действительно соответствуют. Если «бегущего» Кролика мы видим на фоне конца «эпохи Эйзенхауэра», то есть в период известной социально-политической стабильности и при еще традиционно сильной роли христианской церкви, то «возвращается» он или «исцеляется» (слово redux в названии романа означает и возвращение и исцеление) на излете 60-х годов, отмеченных духом общей радикализации и «полевения». По сравнению с другими произведениями Апдайка («Переворот» — особая статья) атмосфера напряженной политической жизни присутствует здесь наиболее явственно. И все же эта книга не о «бурном десятилетии», а опять о Гарри Энгстроме и о том, как его образ жизни и образ мысли соотносятся с изменившимися условиями жизни страны.
Отношения нашего героя со временем на дворе парадоксальны. Гарри Энгстром получил квалифицированную рабочую специальность, хорошо зарабатывает, живет в сабурбии и никуда не бежит, тогда как жена ушла к другому и быт разрушен. Эта степенность, начальное «обуржуазивание» и соответствующие им расистские и ура-патриотические взгляды сами по себе противоречат случайно возникшему общению Кролика с иными, выпавшими из лона буржуазной цивилизации беглецами: юной хиппи Джил, воплощающей пассивную любовь ко всем и вся, и агрессивным адептом идеи «черной власти» негром Скиттером. Писатель показывает, как «середина» невольно вступает во взаимодействие с двумя крайностями контркультуры и то «замысловатое и зловещее», что происходит при взаимодействии. Как бы нарочно к по-обывательски правильному сознанию Кролика контркультура поворачивается теми своими сторонами, которые он воспринимает в качестве «клубнички», запретных и необычных развлечений. И когда кто-то поджигает дом Энгстрома, он не предпринимает ни малейшей попытки спасти оставшуюся там Джил, свою возлюбленную. Вместе со сгоревшим домом заканчивается недолгий и неглубокий опыт соприкосновения Гарри с причудливым, чуждым ему миром. Возвращается жена. О'кей? — вопросом заканчивает Апдайк повествование.
Третий — «экономический» — роман о Кролике мог бы начаться утвердительным «О'кей!». Его действие происходит в 1979 году, когда резко поднимаются цены на бензин, автомобильная промышленность не выдерживает конкуренции с Японией, и именно в эти тяжелые для Америки времена Кролик становится богатым, торгуя автомобилями японской марки «Тойота». Он располнел и обрел недостающую ему прежде респектабельность, вступил в местный клуб, обозначив таким образом принадлежность к привилегированному сословию — словом, логично завершил восхождение по лестнице социального успеха: помощник продавца в универмаге, рекламный агент «чудо-терки» в первом романе, линотипист во втором и, наконец, совладелец крупного процветающего предприятия. Получив искомое, Гарри, однако, чувствует «какое-то странное для его возраста спокойствие, как мяч, застывший, на мгновение в высшей точке полета». Эпиграфы к роману проясняют нынешний — и социальный и психологический — статус героя. Один (из «Бэббита» С. Льюиса) говорит об очевидном родстве его с Джорджем Бэббитом, символом благополучного американского филистера: Кролик и Бэббит занимаются одним и тем же бизнесом, одинаково проводят досуг, похоже рассуждают о политике и искусстве, о временах и нравах, даже их имена созвучны BaBBit — RaBBit (Кролик). Бэббит читал только местную газетку, единственное чтение Кролика — журнал «Вестник потребителя», печатающий информацию о новых товарах.
Один из эпиграфов взят Апдайком из стихотворения Уоллеса Стивенса «Кролик, повелитель призраков». Кролика преследуют призраки (преследующие, как известно, тех, кто перед ними виновен): дочь, Джил, старый Тотеро, отец и мать... Внешне стабилизированная жизнь Гарри, выпрямленное, казалось бы, до предела сознание не избавляют его от мучительных и мрачных мыслей, от которых он всегда стремился убежать. Безнадежны отношения Кролика с сыном, не простившим ему смерти сестры и Джил; безнадежны попытки искупить давнюю вину перед Рут и найти своего незаконнорожденного ребенка, и — уже другой образ автострады — возникающие за окном машины давно знакомые городки «бесстрастно демонстрируют ему, что жизнь его была ничтожной, что необычность его — всего лишь иллюзия». Даже бег, один из немногих простых, но истинных моментов его бытия, становится теперь карикатурой на самое себя — бегом трусцой вокруг квартала, чтобы сбросить лишние 30 фунтов веса. И не случайно Холден Колфилд так и остался романтическим подростком, а Гарри Энгстром превратился в то, во что он должен был превратиться.
Трилогия Апдайка — это и глубокое художественное исследование явления, получившего в культурном обиходе США название «кроликовщины» (rabbitness), и единый роман воспитания, построенный по закону гегелевской триады. Неумение и нежелание героя совместиться с миром и бег как способ преодоления их — тезис; основанное на отрицании предыдущего бытия — бега прилаживание Гарри к жизни — антитеза и синтез, которые отбрасывает случайное в прежнем его опыте и сохраняет в себе только основное, но уже в окарикатуренном или мрачно безысходном варианте, своего рода возмездие за отказ заставить душу трудиться. Разумеется, это и история Америки трех последних десятилетий, ибо заявленное кредо Апдайка — показывать общее через частное, отражать жизнь нации через приватную жизнь индивидов, ее составляющих. По словам писателя, события, происходящие в его романах, «столь же свойственны определенному историческому периоду, как те или иные цветы тому или иному периоду лета».
Роман «Давай поженимся» более камерный, ограниченный во времени. Он фиксирован вторым годом президентства Кеннеди и отчасти повторяет проблематику «Супружеских пар», предваряя их в историческом времени (события последнего романа приходятся на год гибели Кеннеди). Это типичный семейно-адюльтерный роман, созданный на материале той социальной среды, которую принято называть среднеинтеллигентской. Его подзаголовок — «романтическая история», то есть очередная, пусть изящно и иронично рассказанная история неудачной любви. Но Апдайк (иногда, правда, балансируя на самой грани банальности) извлекает из привычного жанра новые возможности и если не решает, то ставит важные для него вопросы.
Роман с привкусом водевильности изображает драматическую ситуацию из жизни двух супружеских пар — Конантов и Матиасов. Семьи их похожи — и не только тем, что обе пары имеют материальную возможность жить в пригороде, по двухэтажному коттеджу и по два автомобиля. Эти браки не заключались в небесах, а строились по некоему принципу недостаточности. Джерри учился в художественной школе вместе с Руфью. Он великолепно владел формой, ей удавался цвет. И если их таланты слить воедино, получился бы неплохой художник. Вместо этого получилась семья: не хорошая, не плохая, обычная. «Типичная история двадцатого века» и история брака Матиасов. Салли мечтала вырваться из колледжа, мечтала об обеспеченной жизни, Ричард в компенсацию своему увечью хотел иметь красивую жену — и «сделка была заключена».
В жизни героев романа просматривается эта удручающая симметрия, зеркальность, «наоборотность», напоминая рисунок так называемых греческих танцев, на которые они ездят в Кэннопорт: притоп левой, левую за правую, шаг назад, вот так, ноги вместе, притоп правой. Оранжевое — слева, оранжевое — справа... Каждое позитивное начало их общего существования уравновешивается негативным: если в одном месте что-то есть, то уже непременно, как бы в уплату, в другом оно появится с противоположным знаком. Так Руфь, жена Джерри, порождает Салли, «как негатив порождает отпечаток». У Руфи есть привязанность к мужу и желание сохранить семью, а если рассматривать произведение Апдайка как своеобразную «комедию нравов», есть все данные для амплуа порядочной женщины. И такая вот женщина, согласно парадоксальным законам апдайковской «комедии», идет на измену, чтобы стать лучшей женой. Этот извращенный способ укрепления семьи Руфи действительно необходим, потому что ей недостает собственных запасов любви и тепла, естественности, живой жизни. Мало умея чувствовать и выражать свое, Руфь пользуется чужими, готовыми обозначениями, вынесенными из художественной школы. Ее картина мира производит впечатление жуткой несуразности: ночь, как у Шагала, лицо, как у Гойи, руки, как у Пикассо, листва, как у Моне (или у Писсаро?), чашка, как у Боннара, и даже сын напоминает ей украденный шедевр. Такие оценки, даваемые видимому на уровне обыденного сознания, приобщившегося к искусству и старательно подчеркивающего это, не имеют никакого отношения к видению художника, которым Руфь надеется стать, когда они с Джерри расстанутся. И последняя реплика Руфи в романе — «Посмотрите в мое окно — прямо как на картине» — говорит лишь о том, что если и жил в ней художник, то за давностью времени это не имеет значения.
По той же логике зеркальности женщиной, познавшей любовь и потому изменяющей мужу, оказывается Салли, натура более цельная, живая, «жадная до всего женщина», как язвительно определяет ее соперница. Но жизненность Салли животная, движимая только эгоистическим инстинктом самосохранения. Он погнал ее прочь от страдалицы-матери, и Салли обрела спокойствие, утратив при этом способность сострадания, а с нею и часть души. Она давно уже не знает, верит в бога или нет, раньше «у нее было на этот счет твердое мнение — «да» или «нет», вот только она забыла какое». И опять инстинкт, выражающийся в эгоизме самки, заставляет ее, мать троих детей, сказать Джерри: «Мне не нужны дети». Психология Салли — суть психологии проститутки — срабатывает даже в моменты ее прорыва к настоящему чувству. Обидевшись на возлюбленного, она возмущается тем, что «он смеет брать ее бесплатно, когда она могла бы продать себя за сотни долларов любому достойному человеку на этом проспекте». И в полном соответствии со своей перевернутой системой ценностей, где духовное мерится материальным и к нему же приравнивается, Салли оценивает себя и Джерри со стороны: «Красивая пара... он — в сером, она — в черном, он — с чемоданом, она — с карманным изданием Камю». Ее действительность по-своему гармонична, но от этого не более привлекательна — «золотая брошь солнца» или «солнечный свет драгоценный, как деньги». (Салли, кстати, читает «Постороннего», и в том, как ее притягивает солнце, содержится аллюзия «магической власти солнца» над Мерсо; есть в ее образе и другие намеки на героя Камю: отношение к матери, подчиненность простейшим инстинктам.) И Руфь, предлагая Салли отступиться от Джерри, в самом деле нащупывает ее уязвимое место — активное нежелание оказаться в менее благополучных материальных условиях.
В выборе между этими двумя женщинами, который должен сделать Джерри Конант, и состоит основная коллизия романа. Не имеет значения, кто из них хуже, кто лучше, неважно, кого из них он больше любит, поскольку самое страшное для героя — выбор сам по себе, как нечто, требующее риска, смелости и волевых усилий. Свойственное многим персонажам современной литературы США состояние (типичный пример Боба Слоукома из романа Дж. Хеллера «Что-то случилось», 1974, пер. 1978) усугубляется у Апдайка неснимаемым противоречием между болезненной жаждой выиграть и принципиальным неумением выигрывать в силу чрезмерного страха проиграть. Жизнь Джерри — неизбывный кошмар, порожденный этой боязнью проигрыша. Если уходит Руфь, ему кажется, что он любит Руфь, если уходит Салли, ему кажется, что он любит Салли. В принципе все зависит от центра поля притяжения, в которое волей обстоятельств он попадает. Джерри был бы рад любому знаку свыше, перевесившему чашу весов, пусть это смерть Руфи в автомобильной катастрофе — настолько жестоко его инфантильное сознание, не знающее цены живому. Даже страх смерти не делает Джерри более взрослым, не становится силой, проясняющей смысл жизни. Страх этот скорее вызывает в нем желание подчеркнуть свою необычность хотя бы в этом и — снова очень по-детски — требовать большего внимания к себе. И бога он ищет не там, где потерял, а там, где светло; потому-то и тяготится вмененным самим себе в обязанность посещением церкви. Инфантильный и бесхарактерный, плаксивый и истеричный, а в любви, по собственному выражению, «как бабочка, опустившаяся На цветок», — таков этот герой-любовник. Но главный его грех — грех несвершения: когда-то он, подобно Джону Робинсону из «Фермы» (1965, пер. 1967), испугавшись испытания хлебом, отказался от попыток стать художником и наказан за это вечным повторением самого себя.
Говоря уже цитированными словами Мейлера, существование Джерри Конанта проходит где-то между «изменчивой структурой мира и подспудной неизменностью мечты», в постоянном, но безрезультатном противоборстве реального и идеального. Герой другого романа Апдайка тоже живет в разных измерениях: он одновременно и провинциальный учитель Колдуэл и благородный кентавр Хирон. Однако если Колдуэл (вообще самый светлый образ у писателя) прекрасен не только «в небе», но и вопреки всем своим чудачествам «на земле», то «земля» Конанта не благословлена «небом». В мире он нерешителен, труслив, подл и пошл, в мечтах — благороден, смел, честен. Лишь там, в несуществующем измерении, он сумел подойти к Салли и сказать ей: «Давай поженимся». «Что было правильно», — позволяет себе заметить Апдайк, изменяя общему тону безавторского повествования. Но только в ином измерении его герой может жениться на Салли, стать художником или великим полководцем — неважно, он все может там и ничего не может здесь. Два икса вместо подписи на записке к Руфи означают то, чем он теперь стал, не выдержав и испытания чувством. И время в романе (имеющее, кроме исторической обусловленности, особый внутренний смысл) совершило символическое нисхождений от марта к ноябрю, от весны к осени. А в эпилоге — новый март, в котором Джерри уже один, без Салли, другой март из другой жизни, но напоминающий о прошлой весне и порождающий тоску по несбыточному.
Воспитанный на таких религиозно ориентированных критиках буржуазного общества, как Барт, Тиллих, Марсель, Бердяев, Апдайк вослед им говорит о поражении западного варианта цивилизации. (Любопытно, что одним из эпиграфов к роману «Супружеские пары» была строфа из «Скифов» Блока, оканчивающаяся словами «Виновны ль мы, коль хрустнет ваш скелет В тяжелых, нежных наших лапах?».) Если одна «среда виновата», то что тогда остается человеку? Он же не может быть в чистом виде проекцией обстоятельств, «фортепьянной клавишей», как говорил Достоевский. А когда и оказывается таковой, то обречен, подобно Джерри Конанту или Гарри Энгстрому, на мучительную дисгармонию души и бесконечное пародирование самого себя.
Л-ра: Литературное обозрение. – 1983. – № 4. – С. 102-106.
Произведения
Критика