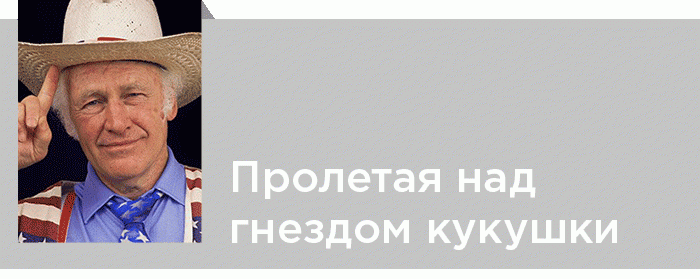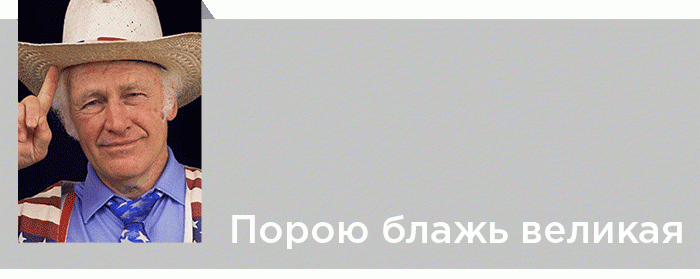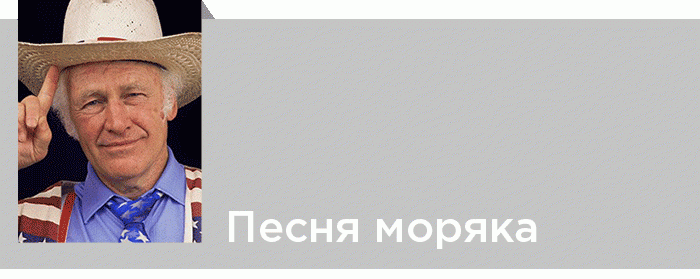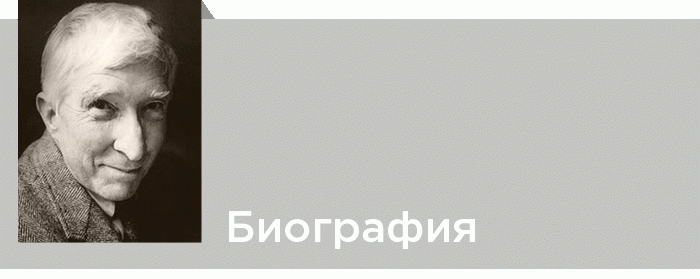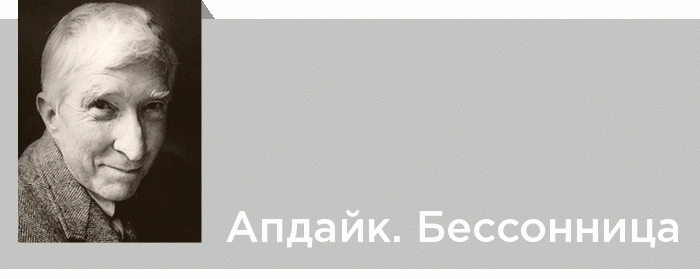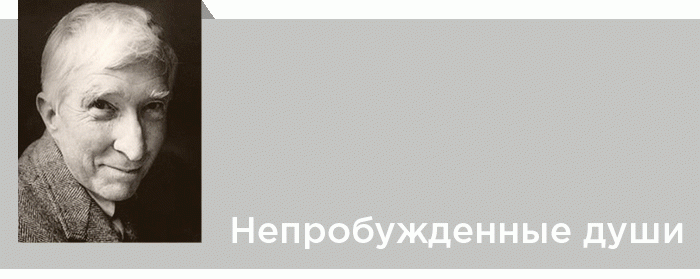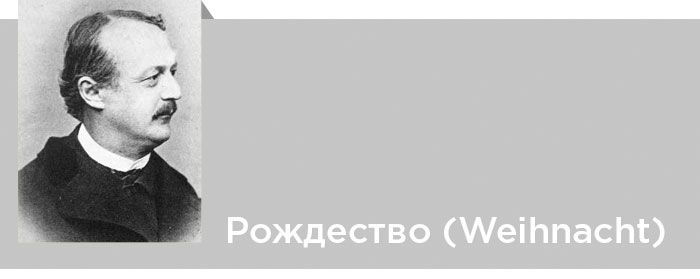Джон Апдайк. Кентавр

(Отрывок)
Небо не стихия человека, стихия его земля. Сам он – существо, стоящее на грани меж землею и небом.
Карл Барт
Но все же кто-то должен был жизнью своей искупить древний грех – похищение огня. И случилось так: Хирон, благороднейший из кентавров (а кентавры – это полукони-полулюди), бродил по свету, невыносимо страдая от раны, полученной по нелепой случайности. Ибо однажды на свадьбе у одного из фессалийских лапифов некий буйный кентавр вздумал похитить невесту. Завязалась яростная борьба, и в общей свалке Хирон, ни в чем не повинный, был ранен отравленной стрелой. Терзаемый неотступной болью, без надежды на исцеление, бессмертный кентавр жаждал умереть и молил богов поразить его вместо Прометея. Боги вняли этой мольбе и избавили его от страданий и от бессмертия. Он окончил свои дни как простой смертный, уставший от жизни, и Зевс вознес его на небо сияющим Стрельцом меж созвездий.
«Мифы Древней Греции в пересказе Джозефины Престон Пибоди», 1897 г.
1
Колдуэлл отвернулся, и в тот же миг лодыжку ему пронзила стрела. Класс разразился смехом. Боль взметнулась по тонкой сердцевине голени, просверлила извилину колена и, разрастаясь, бушуя, хлынула в живот. Он вперил глаза в доску, на которой только что написал мелом 5.000.000.000 предполагаемый возраст Вселенной в годах. Смех класса, сперва раскатившийся удивленным визгливым лаем, перешел в дружное улюлюканье и обложил его со всех сторон, сокрушая желанное уединение, а он так жаждал остаться с болью наедине, измерить ее силу, прислушаться, как она будет замирать, тщательно препарировать ее. Боль запустила щупальце в череп, расправив влажные крылья в груди, и ему, внезапно ослепленному кровавым туманом, почудилось, будто сам он – огромная птица, встрепенувшаяся ото сна. Доска, вымытая с вечера, вся в беловатых подтеках, как пленка, обволокла сознание. Боль мохнатыми лапами теснила сердце и легкие; вот она подобралась к горлу, и ему теперь казалось, будто мозг его – это кусок мяса, который он поднял высоко на тарелке, спасая от хищных зубов. Несколько мальчишек в ярких рубашках всех цветов радуги, вскочив в грязных башмаках на откидные сиденья парт, со сверкающими глазами продолжали травить своего учителя. Невозможно было вынести этот содом. Колдуэлл заковылял к двери и закрыл ее за собой под звериный торжествующий рев.
Он брел по коридору, и оперенный хвост стрелы при каждом его шаге скреб по полу. Металлический скрежет и жесткое шуршание сливались в противном шарканье. В животе перекатывалась тошнота. Длинные тускло-желтые стены коридора качались перед глазами; двери с квадратными матовыми стеклами и с номерами классов казались пластинами какой-то опытной установки, погруженными в радиоактивную жидкость и излучавшими детские голоса, которые мелодично выговаривали французские слова, пели религиозные гимны, разбирали вопросы из учебника социологии. Auez-vous une maison jolie? Oui, j'ai une maison tres jolie <У вас красивый дом? Да, у меня очень красивый дом (франц.)>, за золото хлебов в полях, за горы в солнечных лучах, за зелень щедрую равнин в ходе нашей истории, дети (это голос Фола), авторитет федерального правительства, его власть и влияние возросли, но мы не должны забывать, дети, что наша страна была создана как союз суверенных республик, Соединенные, господь благослови мой край и братства свет благой, над праведной землей... – Красивое песнопение продолжало неотвязно звучать в ушах Колдуэлла. – Над морем воссияй. Слышал он этот вздор, и не раз. Впервые еще в Пассейике. Как поразительно он переменился с тех пор! Ему казалось, что верхняя его половина уходит в звездную твердь и плывет среди вечных сущностей, среди поющих юных голосов, а нижняя все глубже увязает в трясине, которая в конце концов его поглотит. Стрела, задевая об пол, всякий раз бередила рану. Он старался не наступать на больную ногу, но неровное цоканье остальных трех его копыт было таким громким, что он боялся, вдруг какая-нибудь из дверей распахнется, выйдет учитель и остановит его. В эту отчаянную минуту другие учителя казались ему пастырями ужаса, они грозили снова загнать его в класс, к ученикам. Живот сводила медленная судорога; и возле стеклянного шкафа со спортивными призами, смотревшего на него сотней серебряных глаз, на блестящем натертом полу он, не замедлив шага, оставил темную парную расползающуюся кучу. Его широкие пегие бока дрогнули от отвращения, но голова и грудь, как носовая фигура тонущего судна, были упорно устремлены вперед.
Его влекло бледное, водянистое пятно над боковой дверью. Там, в дальнем конце коридора, сквозь окна, зарешеченные снаружи для защиты от дикарей, в школу просачивался дневной свет и, увязая в плотном маслянистом сумраке, вздувался пузырем, как вода в резервуаре с нефтью. К этому голубоватому пузырю света и толкал инстинкт мотылька высокое, красивое, двуединое тело Колдуэлла. Внутренности его корчились от боли; шероховатые щупальца шарили по небу. Но он уже предвкушал первый глоток свежего воздуха. Стало светлей. Он толчком распахнул двойные застекленные двери, грязное стекло которых было забрано металлической сеткой. Когда он сбегал вниз по короткой лестнице на бетонную площадку, стрела, взвихривая боль, билась о стальные стойки перил. Кто-то из учеников мимоходом нацарапал карандашом на поблескивавшей в полумраке глянцевитой стене ругательство. Колдуэлл, решительно сжав зубы и в страхе зажмурившись, ухватился за латунную ручку двери и протиснулся наружу.
Из ноздрей у него вырвались две пушистые струи пара. Стоял январь. Ясное, синее небо сияло над головой, неотвратимое и все же таинственное. Огромная, ровно подстриженная лужайка за школой, обсаженная по углам соснами, зеленела в разгар зимы. Но зелень была мерзлая, жухлая, отжившая, ненастоящая. За школьной оградой, погромыхивая на рельсах, полз в Эли трамвай. Почти пустой – было одиннадцать утра, и все ехали в другую сторону, в Олтон, за покупками, – он слегка раскачивался, и плетеные соломенные сиденья рассыпали сквозь окна золотые искры. Здесь, среди беспредельного и величественного простора, боль присмирела. Съежившись, она уползла теперь в лодыжку, угрюмая, злобная, уязвленная. Причудливая фигура Колдуэлла исполнилась достоинства: его плечи – узковатые для такого большого существа – расправились, и он шел пусть не величественным шагом, но со сдержанной стоической грацией, отчего хромота словно вливалась в его поступь. Он свернул на мощеную дорожку меж заиндевелой лужайкой и смежной с ней автомобильной стоянкой. У его брюха, сверкая под белым зимним солнцем, скалились радиаторы автомобилей; царапины на хромированном металле переливались, как бриллианты. От холода у него перехватывало дыхание. Позади, в оранжево-красном кирпичном здании школы, зазвенел звонок, распуская учеников, которых он бросил. Школьники с ленивым утробным гулом переходили из класса в класс.
Гараж Гаммела примыкал к территории олинджерской школы, отделенный от нее лишь узким, неровным асфальтовым ручейком. И это было не просто случайное соседство. Прежде Гаммел много лет подряд был членом школьного совета, а его молодая рыжеволосая жена Вера и теперь преподавала физкультуру девочкам. Многие ученики и учителя были клиентами гаража. Старшеклассники ставили сюда на ремонт свои потрепанные машины, а младшие ребятишки бесплатно накачивали баскетбольные мячи. Сразу же за дверью, в большой комнате, где у Гаммела хранились счета и кучами громоздились закопченные каталоги запасных частей, а на двух деревянных столах, сдвинутых вплотную, в беспорядке были разбросаны старые потрепанные газеты, бумаги и пухлые пачки розовых квитанций на ржавых наколках, стоял ящик из тусклого стекла с зигзагообразной трещиной на крышке, заклеенной пластырем для шин, полный сластей в хрустящих обертках, и дожидался монеток из детских карманов. Здесь, на нескольких замасленных складных стульях, расставленных в ряд возле цементной ямы глубиной в пять футов, куда машина могла въехать прямо с улицы, учителя порой – правда, в последнее время все реже – сиживали в полдень, покуривали, жевали карамели, орехи в шоколаде, сосали драже от кашля с фабрики Эссика и, поставив туго зашнурованные, начищенные до блеска ботинки на загородку вокруг ямы, давали отдых своим истерзанным нервам, пока внизу, в трехстенной яме, темнолицые помощники Гаммела заботливо обмывали автомобиль, как огромного металлического ребенка.
К главному и самому большому помещению гаража вела покатая асфальтированная дорога, асфальт был разбитый, растресканный, весь в колдобинах и пятнах, вспученный, как застывший поток лавы. В широких зеленых воротах, куда въезжали автомобили, была дверь в человеческий рост, а на ней, под щеколдой вкривь и вкось было наляпано синей краской: «ЗАКРЫВАЙТЕ ДВЕРЬ». Колдуэлл поднял щеколду и вошел. Пришлось повернуться, чтобы закрыть дверь, и раненую ногу ожгло болью.
В теплой глубокой темноте вспыхивали искры. Пол мрачной пещеры был скользкий и черный от машинного масла. В конце длинного инструментального стола две бесформенные фигуры в защитных очках осторожно направляли куда-то вниз веерообразный огненный каскад, рассыпавший сухие брызги. Третья проползла на спине, сверкая круглыми белками глаз на черном лице, и исчезла под автомобилем. Когда глаза Колдуэлла освоились с темнотой, он увидел вокруг себя сваленные в кучи автомобильные части, которые казались хрупкими и призрачными: крылья, словно панцири мертвых черепах, ощерившиеся моторы, будто вырванные сердца. Шипение и сердитый стук порхали в сизом воздухе. Неподалеку от Колдуэлла старая пузатая печка сверкала сквозь разошедшиеся швы ослепительно-красным жаром. Ему не хотелось удаляться от ее тепла, хотя стрела, засевшая в ноге, начала отогреваться и по животу прошла беспокойная дрожь.
В дверях появился сам Гаммел. Когда они шли друг другу навстречу, у Колдуэлла мелькнуло забавное чувство, будто он идет к зеркалу, потому что Гаммел тоже прихрамывал. В детстве он упал и сломал ногу, она теперь была короче другой. Он был сутулый, бледный, измотанный; трудные времена сломили искусного механика. Филиалы «Эссо» и «Мобилгэс» открыли у въезда в город, в нескольких кварталах от его гаража, свои станции технического обслуживания, и к тому же после войны, когда всякий мог купить новый автомобиль на деньги, нажитые в военное время, заказы на ремонт почтя иссякли.
– Джордж! У вас что, уже перерыв на завтрак?
Голос Гаммела, негромкий, но высокий, привычно перекрывал шум мастерской.
Колдуэлл ответил, но особенно резкие и частые удары по металлу заглушили его слова; он сам не слышал своего тонкого, напряженного голоса.
– Да нет же, у меня как раз сейчас урок.
– Так в чем же дело?
На сером, мягком лице Гаммела, усеянном белыми точками седой щетины, появилось тревожное ожидание, как будто всякая неожиданность непременно должна была причинить ему боль. Колдуэлл знал, что к этому его приучила жена.
– Вот, – сказал Колдуэлл, – полюбуйтесь, что сделал со мной один из этих чертовых мальчишек.
Он поставил раненую ногу на валявшееся рядом крыло и поднял штанину.
Механик наклонился к стреле и осторожно коснулся ее хвоста. В пальцы его глубоко въелась грязь, прикосновение их было мягким от машинного масла.
– Стальная, – сказал он. – Ваше счастье, что насквозь прошла.
Он подал знак, и небольшой треножник на колесиках сам собой с дребезжанием подкатился к ним по неровному черному полу. Гаммел взял резаки с локтевым упором, чтобы рычаг был побольше. От страха Колдуэлл почувствовал необычайную легкость, вся тяжесть его тела улетучилась, как улетает воздушный шарик из рук зазевавшегося ребенка. Из своей ошеломляющей невесомости Колдуэлл попытался представить себе диаграмму сил для этих ножниц: выигрыш в силе равен приложенному усилию минус сила трения, помноженная на отношение плеча рычага АО (где О – ось ножниц) к плечу ОБ (Б – точка соприкосновения сверкающих изогнутых лезвий со стрелой), помноженная на выигрыш в силе от вспомогательного рычага в механике ножниц и на выигрыш в силе от нажима уверенной черной руки Гаммела, складывающийся из усилии пружинистых мышц и пяти крепких пальцев: Вс x Вс x 5Вс = мощь титана. Гаммел нагнулся, и Колдуэлл мог бы теперь опереться на его плечо. Но, не зная, как на это посмотрит механик, он не решился и стоял прямо, подняв глаза кверху. Сырые доски потолка были бархатистые от дыма и паутины. Коленом Колдуэлл почувствовал, как согнутая спина Гаммела дрожит вместе с инструментом; сквозь носок он ощутил прикосновение металла. Шаткое крыло качнулось. Плечи Гаммела напряглись, и Колдуэлл стиснул зубы, удерживая крик, – ему показалось, что резаки вонзились не в металл, а в торчащий из его тела нерв. Серповидные челюсти заскрежетали; боль пронзила Колдуэлла, коротким броском взметнулась вверх по его телу, блеснула молнией; и тут плечи Гаммела расслабились.
– Не выйдет, – сказал механик. – Я думал, она полая, да не тут-то было. Джордж, делать нечего, пойдемте к инструментальному столу.
Колдуэлл, едва волоча дрожащие ноги, которые подгибались и казались тонкими, как велосипедные спицы, пошел за Гаммелом и послушно поставил ногу на ящик из-под кока-колы, который механик вытащил из кучи всякого хлама под длинным столом. Стараясь не видеть стрелы, которая мешала ему смотреть вниз, как бельмо на глазу, Колдуэлл стал пристально рассматривать большую корзину, полную испорченных бензонасосов. Гаммел подтянул к себе за цепочку электрическую лампу без колпачка. Оконные стекла были закрашены снаружи; на стенах между окнами висели подобранные по размерам гаечные ключи, круглоголовые молотки с обрезиненными рукоятками, электрические дрели, отвертки в ярд длиной, какие-то сложные зубчатые, коленчатые инструменты, названия и назначения которых ему никогда не понять, аккуратные мотки старой проволоки, калибромеры, плоскогубцы и всюду, наклеенные где только можно, заткнутые краями во все щели рекламные плакаты, пожелтевшие, истрепанные, давнишние. На одном была изображена кошка с поднятой лапой, на другом – великан, тщетно силящийся разорвать патентованный приводной ремень. Один плакат гласил: «БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО», другой, наклеенный на оконное стекло, предупреждал: «БЕРЕГИ ГЛАЗА – ЗАПАСНЫХ НЕ ВСТАВИШЬ».
Грубой хвалой, возносимой грубому творению, на столе громоздились резиновые шланги, медные трубки, графитовые стержни, железные колена с резьбой, масленки, деревянные планки, тряпки, всевозможные пыльные осколки и обломки. Этот хаос материалов вперемешку с инструментами озаряли ослепительные вспышки света с дальнего конца стола, где возились двое механиков. Они прилаживали что-то, похожее на узорный бронзовый пояс для женщины с тонкой талией и широкими бедрами. Гаммел надел на левую руку асбестовую перчатку и вытащил из груды хлама широкую полосу жести. Надрезав ее, он ловким движением согнул ее наподобие щита и надел на стрелу, торчавшую из ноги Колдуэлла.
– Чтобы вас не обжечь, – объяснил он и щелкнул пальцами свободной руки. – Арчи, дай-ка на минуту горелку.
Один из его помощников, осторожно ступая, чтобы не споткнуться о волочащийся шланг, подал ацетиленовую горелку. Маленький черный кувшин изрыгал белое, зеленоватое по краям пламя. У самого носика была прозрачная пустота. Колдуэлл, стиснув зубы, подавил в себе страх. Стрела уже давно казалась ему живым нервом. Он весь подобрался, готовясь к неизбежной боли.
Но боли не было. Произошло чудо – его словно окружил огромный непроницаемый ореол. От пламени на столе и на стенах родились резкие треугольные тени. Придерживая рукой в перчатке жестяной щиток, Гаммел прищурился и без защитных очков поглядел на раскаленную шипящим пламенем сердцевину лодыжки Колдуэлла. Его мертвенно-бледное лицо решительно сморщилось, одержимо сверкали колючие глаза. Колдуэлл посмотрел вниз и увидел, как тонкая прядка седых волос упала Гаммелу на лоб, поредела и исчезла, словно растаяла в струе дыма. Механики молча смотрели. Казалось, этому не будет конца. Теперь Колдуэлл почувствовал, что ему горячо: раскаленная жесть жгла ногу. Но, закрыв глаза, он представил себе мысленно, как стрела сгибается, плавится, ее молекулы расползаются. Что-то маленькое, металлическое звякнуло об пол. Тиски, сжимавшие ногу, ослабли. Он открыл глаза и увидел, что горелка погасла. Желтый электрический свет казался коричневым.
– Ронни, намочи, пожалуйста, тряпку, – сказал Гаммел и объяснил Колдуэллу:
– Остудим эту штуку и тогда вытащим.
– У вас золотые руки, – сказал Колдуэлл. Голос его прозвучал неожиданно слабо, и похвала вышла какая-то бескровная.
Он видел, как Ронни, одноглазый плечистый малый, взял промасленную тряпку и окунул ее в ведерко с черной водой, стоявшее поодаль, под второй лампой. Блики света заметались и запрыгали в возмущенной воде, словно рвались на волю. Ронни подал тряпку Гамеллу, тот присел на корточки и приложил ее к стержню стрелы. Холодные струйки потекли в ботинок, раздалось шипение, и ноздри защекотал слабый приятный запах.
– Ну вот, теперь обождем минутку, – сказал Гаммел и остался сидеть на корточках, бережно придерживая штанину Колдуэлла над раной. Колдуэлл посмотрел на троих его помощников – третий вылез из-под автомобиля – и жалко улыбнулся. Теперь, когда страдать осталось недолго, он снова способен был чувствовать смущение. В ответ на его улыбку они нахмурились. Для них это было все равно, как если бы автомобиль вдруг попытался заговорить. Колдуэлл отвел глаза и стал думать о далеком: о зеленых полях, о Харикло, некогда стройной и юной, о Питере, – когда мальчик был совсем еще маленьким, он сажал его в стульчик на колесиках, к которому был приделан руль, и, подталкивая раздвоенной палкой, катал по улицам под каштанами. Они были бедны и не могли купить коляску; сынишка научился рулить, не рано ли? Он беспокоился о сынишке, когда не был слишком занят.
– Ну, Джордж, теперь держитесь, – сказал Гаммел. Стрела подалась назад и выскользнула из раны, полоснув по ноге болью. Гаммел выпрямился, красный не то от жара горелки, не то от удовлетворения. Трое его тупоголовых помощников сгрудились вокруг и смотрели на серебристый стержень с окровавленным кончиком. Лодыжка Колдуэлла, наконец-то освобожденная, сразу обмякла, расслабла: ботинок как будто медленно наполнялся теплой жидкостью. Боль окрасилась в другой цвет, ее спектр сулил исцеление. Его тело это понимало. Боль, ритмично пульсируя, подступала к сердцу – дыхание природы.
Гаммел нагнулся и поднял что-то с полу. Поднес к носу, понюхал. Потом протянул Колдуэллу. Это был еще не остывший наконечник стрелы. Трехгранный, отточенный до того, что ребра изгибались плавными дугами, он казался слишком изящным, чтобы нанести такую рану. Колдуэлл заметил, что ладони Гаммела в пятнах от напряжения и усилий; лоб тонкой пленкой покрыла испарина. Он спросил:
– Зачем вы ее нюхали?
– Думал, вдруг она отравленная.
– Ну и как?
– Не знаю, от нынешних детей всего ждать можно, – ответил Гаммел и добавил:
– Ничем не пахнет.
– Вряд ли они это сделали, – убежденно сказал Колдуэлл, вспоминая лица Ахилла и Геракла, Ясона и Асклепия, благоговейно ловивших каждое его слово.
– И откуда только у детей деньги, хотел бы я знать, – сказал Гаммел, словно стараясь отвлечь Колдуэлла от мрачных раздумий. Он поднял стальной стержень и обтер кровь перчаткой. – Хорошая сталь, – сказал он. – Такая штука стоит недешево.
– Отцы дают деньги паршивцам, – сказал Колдуэлл. Теперь он чувствовал себя крепче, мысли прояснились. Надо идти в школу, на урок.
– Слишком много завелось у людей денег, – сказал старый механик с усталой злобой. – Вся дрянь, какую в Детройте делают, нарасхват.
Его лицо снова стало серым от ацетиленового загара; морщинистое и дряблое, как смятый листок фольги, оно казалось почти женственным в тихой печали, и Колдуэлл забеспокоился.
– Эл, сколько с меня? Я должен идти. Зиммерман с меня голову снимет.
– Ничего не надо, Джордж. Бросьте. Я рад был вам помочь. – Он засмеялся. – Не каждый день приходится перерезать стрелу в ноге.
– Но мне, право, совестно. Я вас попросил как мастера, как специалиста...
И он сунул руку в карман, будто полез за бумажником.
– Бросьте, Джордж. Все дело заняло не больше минуты. Будьте великодушны, примите это одолжение. Вера говорит, что вы один из немногих, кто не отравляет ей жизнь.
Колдуэлл почувствовал, что лицо у него словно каменеет; интересно, много ли Гаммел знает о том, что отравляет Вере жизнь... Надо идти.
– Эл, я вам от души благодарен, поверьте.
Вот так всегда, не умеет он поблагодарить человека по-настоящему. Всю жизнь прожил в этом городе, привязался к здешним людям, а сказать не осмеливается.
– Постойте, – окликнул его Гаммел. – Может, возьмете? – И он протянул блестящую стрелу. Наконечник Колдуэлл еще раньше машинально сунул в карман.
– Ну ее к дьяволу. Оставьте себе.
– Да на что она мне? В мастерской и так полно хлама. А вы ее Зиммерману покажите. Нельзя, чтобы в наших школах так измывались над учителем.
– Ладно, Эл, будь по-вашему. Спасибо. Большое спасибо.
Серебристый прут был длинный, он торчал из бокового кармана, как автомобильная антенна.
– Учителя надо защищать от таких учеников. Пожалуйтесь Зиммерману.
– Сами пожалуйтесь. Может, вас он послушает.
– Что ж, может, и послушает. Я серьезно. Вполне может послушать.
– А я и не думал шутить.
– Вы же знаете, я был в школьном совете, когда его взяли на работу.
– Знаю, Эл.
– Я потом часто жалел об этом.
– И напрасно.
– Разве?
– Он человек неглупый.
– Да... конечно... но чего-то ему не хватает.
– Зиммерман умеет пользоваться властью, но дисциплину он не наладил.
Боль снова захлестнула ногу. Колдуэллу казалось, что он теперь видит Зиммермана насквозь и никогда не судил о нем так здраво, но Гаммел с досадным упорством только повторил:
– Чего-то ему не хватает.
Колдуэлл чувствовал, что опаздывает, и от беспокойства у него засосало под ложечкой.
– Мне пора, – сказал он.
– Ну, счастливо. Передайте Хэсси, что мы в городе скучаем без нее.
– Господи, да ей там хорошо, она веселая, как жаворонок. Всю жизнь только об этом и мечтала.
– А папаша Крамер как?
– Здоров как бык. До ста лет доживет.
– И вам не надоело ездить каждый день туда и обратно?
– Нет, честно сказать, я даже рад. Хоть с сынишкой могу поговорить. Когда мы жили в городе, я его почти не сидел.
– Вера говорит, у него светлая голова.
– Это от матери. Дай только бог, чтобы он не унаследовал мою уродливую внешность.
– Джордж, можно мне сказать вам одну вещь?
– Выкладывайте, Эл. Мы ведь друзья.
– Знаете, в чем ваша беда?
– Я глуп и упрям.
– Нет, правда.
«Моя беда в том, – подумал Колдуэлл, – что нога у меня болит, спасенья нет».
– В чем же?
– Вы слишком скромны.
– Эл, вы попали в самую точку, – сказал Колдуэлл и повернулся, чтобы уйти.
Но Гаммел его не отпускал.
– А как машина, в порядке?
Колдуэллы, пока не переехали на ферму в десяти милях от города, обходились без автомобиля. В Олинджоре куда угодно можно было добраться пешком, а до Олтона ходил трамвай. Но когда они снова откупили дом папаши Крамера, автомобиль стал необходим. Гаммел подыскал им «бьюик» тридцать шестого года всего за триста семьдесят пять долларов.
– Замечательно. Превосходная машина. Простить себе не могу, что разбил решетку.
– Ее невозможно сварить, Джордж. Но мотор работает хорошо?
– Лучше некуда. Вы не думайте, Эл, я вам очень благодарен.
– Мотор должен быть в порядке: прежний хозяин никогда не ездил со скоростью больше сорока миль. У него похоронное бюро было.
Гаммел повторял это уже в тысячный раз. Видно, мысль эта ему нравилась.
– Меня это не смущает, – сказал Колдуэлл, догадываясь, что в воображении Гаммела машина полна призраков. А ведь это был обыкновенный легковой автомобиль с четырьмя дверцами; покойника туда и не втиснуть. Правда, он был такой черный, каких Колдуэлл больше нигде не видал. Да, на старые «бьюики» шеллака не жалели.
Разговаривая с Гаммелом, Колдуэлл нервничал. В ушах у него тикали часы; школа властно требовала его. Осунувшееся лицо Гаммела плясало в диком вихре звуков. Разрозненные автомобильные детали, зигзаги сорванной резьбы, угольные пласты, куски искореженного металла проступали на этом лице сквозь давно знакомые черты. Неужели мы разваливаемся на части? А в мозгу все стучало: «Шеллак на „бьюики“, шеллак, шеллак».
– Эл, – сказал он. – Мне пора. Значит, вы не возьмете денег?
– Джордж, хватит об этом.
Эти олинджерские аристократы всегда так. Денег ни за что не примут, зато любят принимать высокомерный тон. Навяжут одолжение и чувствуют себя богами.
Он двинулся к двери, и Гаммел, прихрамывая, пошел за ним. Три циклопа так загоготали, что они обернулись. Арчи, изрыгая пронзительное кудахтанье, словно поднятое сотней недорезанных кур, указывал на пол. На грязном цементе остались мокрые следы. Колдуэлл посмотрел на раненую ногу: ботинок был пропитан кровью. Черная в тусклом скупом свете, она сочилась над пяткой.
– Джордж, идите-ка лучше к доктору, – сказал Гаммел.
– Схожу во время перерыва. Пускай пока кровоточит. – Мысль о яде не оставляла его. – Рана очистится.
Он открыл дверь, и сразу же их обволокло холодным воздухом. Выходя, Колдуэлл слишком резко наступил на раненую ногу и подпрыгнул от неожиданной боли.
– Скажите Зиммерману, – настаивал Гаммел.
– Скажу.
– Нет, правда, Джордж, скажите ему.
– Все равно он ничего не может поделать, Эл. Дети теперь не те, что раньше; да он и сам рад, когда они нас живьем едят.
Гаммел вздохнул. Серый комбинезон висел на нем, как пустой мешок; из его волос брызнули металлические опилки.
– Скверные времена, Джордж.
Длинное, осунувшееся лицо Колдуэлла сморщилось: редкий случай – ему вздумалось пошутить. Чувство юмора в общепринятом смысле не было ему свойственно.
– Да уж что и говорить, не Золотой век.
Жаль Гаммела, подумал Колдуэлл уходя. Одинокий, бедняга, не с кем словом перекинуться, вот и продержал его столько времени. Такие механики теперь никому не нужны; всюду массовое производство. Вещь свое отслужила покупай новую. Р-раз – и готово! А рухлядь – па слом. Только одноглазые болваны и соглашаются у пего работать, жена спит чуть не с каждым мужчиной в городе, «Мобилгэс» все прибирает к рукам, да и «Тексейко», говорят, не отстает, а Гаммелу хоть в петлю. И наконечник понюхал, всерьез испугался, не отравленный ли, бр-р-р.
Но пока Колдуэлл ковылял к школе и холод пробирал его сквозь потертый коричневый костюм, сердце его забилось в ином ритме. В гараже было тепло. Этот человек хорошо относился к нему. С давних пор. Гаммел приходился племянником жене папаши Крамера. Это он замолвил за Колдуэлла словечко в школьном совете и устроил его на работу в разгар депрессии, когда все оливковые деревья засохли и Деметра бродила по земле, оплакивая свою похищенную дочь. Там, где падала ее слеза, трава никогда уж не зеленела. Ее венок источал отраву, и ядовитый плющ вырос у каждого жилища. До тех пор все в природе было благосклонно к человеку. Всякая ягода будила нежную чувственность, и, спускаясь галопом с Пелиона, он увидел юную Харикло, собиравшую нежную зелень.
Огромная оранжевая стена приближалась. Звуки из классов осыпали его, словно снежные хлопья. По хрупкому оконному стеклу забарабанили чем-то металлическим. В окне показался Фол с палкой, которой задергивают шторы, и в недоумении посмотрел на своего коллегу. Его большие старомодные очки удивленно блестели под волосами, аккуратно расчесанными на прямой пробор. Фол когда-то был профессиональным игроком в бейсбол, и над ушами у него все еще сохранился след от шлема, хотя он уже не молод и широкий лоб избороздили морщины. Колдуэлл выразительно махнул приятелю и нарочно захромал еще сильнее, показывая, почему он не в классе. Он прыгал, как десятицентовая заводная игрушка, но притворяться почти не приходилось: после горячей помощи Гаммела нога обиженно ныла. С каждым шагом она словно все глубже проваливалась в раскаленную землю. Колдуэлл добрел до боковой двери и сжал латунную ручку. Прежде чем войти, он набрал полную грудь свежего воздуха и запрокинул голову, словно услышал зов сверху. Над стеной в несокрушимом синем небе неумолчно звучало односложное "я".
За дверью на резиновом половике он остановился перевести дух. С желтой глянцевитой стены на него по-прежнему смотрело ругательство. Боясь, как бы директор не услышал его шаги, Колдуэлл не пошел через первый этаж, мимо кабинета Зиммермана, а избрал путь через подземный ход. Он спустился вниз и прошел мимо раздевалки для мальчиков. Дверь была открыта; одежда валялась где попало, в воздухе еще не рассеялись облачка дыма. Колдуэлл толкнул стеклянную дверь с проволочной сеткой и вошел в зал для самостоятельных занятий. Здесь царила необычная тишина, ряды учеников замерли. Медуза, поддерживавшая такую идеальную дисциплину, сидела на учительском месте. Она подняла голову. Желтые карандаши торчали из ее спутанных волос. Колдуэлл избегал ее взгляда. Подняв голову, глядя прямо перед собой, строго и решительно сжав губы, он прошел вдоль правой стены. Из мастерской, где обучали ручному труду, в дальнем конце этой стены, вдруг раздался визг терзаемого дерева: «Д-з-з! У-и-и-и!» Слева от него ученики зашуршали, как галька под набегающей на берег волной. Он не смотрел по сторонам, пока не добрался благополучно до дальней двери. Здесь он обернулся – взглянуть, не осталось ли на полу следов. Так и есть: цепочка красных полумесяцев, отпечатанных каблуком, тянулась за ним. Он смущенно поджал губы: придется объяснить все уборщикам и извиниться.
В школьном кафетерии суетились женщины в зеленых халатах – расставляли восьмицентовые стаканчики с молочным шоколадом, разносили подносы с бутербродами, завернутыми в целлофан, помешивали суп в котлах. Суп сегодня томатный. Тошнотворно острый запах плавал меж кафельных стен. Мать местного зубного врача, толстая тетушка Шройер, в фартуке, засаленном оттого, что она целые дни возилась у печей, махнула ему деревянным половником. Обрадовавшись, как ребенок, Колдуэлл с улыбкой помахал в ответ. Он всегда чувствовал себя легко и уверенно среди обслуживающего персонала школы, среди истопников, уборщиков и поварих. Они напоминали ему реальных людей, людей его детства в Пассейике, штат Нью-Джерси, где его отец был бедным священником в бедном приходе. На их улице профессию каждого можно было назвать простым словом – молочник, слесарь, печатник, каменщик, и каждый дом, с его неповторимыми трещинами, занавесками и цветочными горшками, Колдуэлл знал в лицо. Скромный от природы, он чувствовал себя лучше всего в школьном подвале. Здесь было тепло, трубы отопления пели; разговоры были бесхитростные и понятные.
Большое здание было симметрично. Он вышел из кафетерия, поднялся на несколько ступенек и очутился около женской раздевалки. Запретное место; но по беспорядку в мальчишеской раздевалке он знал, что урок физкультуры сейчас у мальчиков, и он не рискует совершить кощунство. Храм пуст. Массивная зеленая дверь была приоткрыта, сквозь щель виднелась полоса цементного пола, край коричневой скамьи, ряд высоких закрытых шкафов и над ними матовые окна.
Стой!
Да, это было здесь. Забыв обо всем от усталости, он поднимался в свой класс, и глаза у него болели, потому что, греясь в котельной, он проверил целую кучу контрольных работ, а в школе сгущались сумерки, ученики разошлись, часы дружно тикали в темных классах, и ноги его словно приросли к шероховатому цементу, когда вот здесь, на этом самом месте, он застиг врасплох Веру Гаммел: эти самые зеленые двери были приоткрыты, и она стояла на виду, в клубах пара, – голубое полотенце не скрывало ее ослепительной наготы, золотистый треугольник волос побелел от росы.
– Почему брат мой Хирон глазеет на меня, как сатир? Ведь боги не чужие ему.
– Госпожа моя Венера. – Он склонил свою прекрасную голову. – Твоя красота так восхитила меня, что я забыл о нашем родстве.
Она засмеялась и, отжав над плечом золотистые волосы, лениво провела по ним полотенцем.
– Скажи лучше, ты стыдишься этого родства из гордости. Ведь тебя отец Крон в конском обличье зачал с Филирою в расцвете сил, а я родилась, когда он, как мусор, швырнул Уранову плоть в морскую пену.
Повернув голову, она еще туже скрутила волосы небрежным жгутом. Быстрая струйка воды скользнула по ее ключице. Ее шея казалась прозрачной на фоне сырого красноватого облака, волосы разметались гривой. Опустив глаза, она повернулась к нему в профиль. У Хирона перехватило дух; каждая жилка в нем зазвенела, как струна арфы. И хотя она явно притворялась, будто огорчена дикой нелепостью своего появления на свет, он все же попытался ее утешить.
– Но ведь моя мать сама была дочерью Океана, – сказал он и сразу же понял, что даже тень серьезности в ответ на ее легкомысленное самоуничижение прозвучала непростительно дерзко.
Ее карие глаза так сверкнули, что он забыл о красоте ее тела; эта сияющая фигура была теперь лишь сосудом божественного гнева.
– Верно, – сказала она, – и Филира испытывала такое отвращение к чудовищу, которое родила на свет, что умолила богов превратить ее в липу, лишь бы не кормить тебя грудью.
Он сразу замкнулся в себе: своим ограниченным женским умом она нащупала самое больное его место. Но, напомнив о женщине, которую он не мог простить, Венера укрепила его в презрении к самой себе. Раздумывая над легендой о том, как на островке, совсем крошечном, едва видимом сквозь зыбкие толщи воды, дрожал мохнатый и скользкий комок, покинутый, раздираемый страхом, и этим комком был он в младенчестве, – размышляя над этой историей, так похожей на многие другие, с той лишь разницей, что здесь кто-то незнаемый носил его имя, взрослый Хирон, умудренный знанием жизни и истории, жалел Филиру, дочь Океана и Тефии, прекрасную, но недалекую, которой овладел неистовый Крон, а когда его захватила врасплох бдительная Рея, преобразился в коня и ускакал, а в лоне непорочной дочери Океана осталось изверженное до срока семя, из которого вырос уродливый плод. Бедная Филира! Его мать. Мудрый Хирон почти видел ее лицо, огромное, залитое слезами, обращенное к небу, чей первозданный облик теперь бесследно исчез, в мольбе избавить ее от предначертания, которое древнее даже Сторуких и восходит к тем временам, когда сознание было лишь пыльцой, рассеянной во мраке, предначертания, повелевающего женщине зачинать и рожать детей, молила жестокое небо не гневаться на нее за уродливый плод насилия, смутно предчувствуемый и стыдливо желанный; именно в тот миг, перед самым ее превращением, Хирон всего яснее представлял себе свою мать; и юношей, когда он, в печальной задумчивости, пришел взглянуть на липы, сильный и мудрый, с едва отросшей гривой волос и лоснящейся шкурой, уже тогда вооруженный сознательным достоинством, под которым он прятал свою боль, и кроткой решимостью, сделавшей его потом покровителем стольких сирот, не знавших материнской любви, Хирон, стоя в легкой тени раскидистого дерева, поверил, что в несмелом прикосновении поникших веток, в трепетании сердцевидных листьев был какой-то ропот, надежда на возвращение человеческого облика и даже радость видеть сына совсем взрослым; и это вместе с кропотливыми, точными исследованиями состава нектара в цветах липы придало образу его матери вкус, запах и бесконечную трогательную нежность, промелькнувшую в те короткие, исступленные мгновения, когда дерево подарило ему свою ласку, которая, сохрани Филира человеческий облик, исходила бы от его матери и претворилась в незначащие слова, робкую заботу и любовь. Прижавшись липом к стволу, он прошептал ее имя. Но как ни старался он примириться с нею, все же, вспоминая легенду о своем рождении, Хирон не раз чувствовал, что детская обида снова оживает в его теперь уже зрелых раздумьях о прошлом; он был незаслуженно отравлен жгучей жаждой с первых дней своей жизни; и крохотный островок, не больше сотни шагов в длину, где он, первый из племени, которое природа укрыла в пещерах, лежал под открытым небом, был для него воплощением всего женского естества, столь зыбкого, столь неверного и эгоистичного. Да, именно эгоистичного. Слишком легко их совратить, слишком легко отвергнуть, их волю опутывает паутина чувств, и они, потворствуя собственной слабости, оставляют своего отпрыска гнить на берегу только потому, что он обрастает конским волосом. И теперь сквозь одну грань призмы, в которую претворилась для него легенда, тонколикая богиня, насмехавшаяся над ним, представлялась ему достойной жалости, а сквозь другую – ненавистной. Но так или иначе, он торжествовал над ней. Он сказал сдержанно:
– У липы немало целебных свойств.
Почтительный упрек, если она соблаговолит его принять, а если нет всего только безобидный и неоспоримый медицинский факт. За свою долгую жизнь он научился придворной учтивости.
Она смотрела на него, обтираясь полотенцем; кожу ее усеивали прозрачные капли. Плечи были тронуты веснушками.
– Ты, я вижу, не любишь женщин, – сказала она.
Казалось, это открытие ее нисколько не опечалило.
Он не ответил.
Она засмеялась; сияние ее глаз, из которых щедро струился неземной мир, сменил тусклый звериный блеск, и она, небрежно придерживая полотенце закинутой за спину рукой, вышла на берег и пальцем свободной руки коснулась его груди. Позади нее по возмущенной воде побежали, расходясь, широкие круги. Вода лизала низкий берег, покрытый тростниками, нарциссами и напряженной плотью нераспустившихся ирисов; земля под ее узкими, в голубых прожилках, ступнями стелилась ковром, сотканным из мхов и нежных трав, в узор которого вплетались фиалки и бледные лесные анемоны, выросшие там, где на землю упали капли крови Адониса.
– На ее месте, – сказала она голосом, пронизавшим каждую извилину его мозга, и кончиками пальцев легонько закрутила бронзовое руно на его груди, – я была бы счастлива вскормить существо, в котором благородство и ум человека сочетаются с... – Она потупила глаза, золотистые ресницы коснулись щек; при этом она едва уловимо повернула голову, и он поймал взгляд, скользнувший по его крупу:
– ...с могучей силой коня.
Нижняя его половина, не покорная воле, приосанилась, задние копыта выбили еще два полумесяца на топком травянистом берегу.
– В сочетании, госпожа моя, составные части нередко теряют самое ценное.
На ее лице появилась глупая улыбка, и она стала похожа на обыкновенную молодую кокетку.
– Это было бы справедливо, брат, будь у тебя голова и плечи коня, а туловище и ноги мужчины.
Хирон, один из немногих кентавров, часто общавшийся с просвещенными людьми, не раз слышал это; но ее близость так неотразимо действовала на него, что это опять показалось ему смешным. Его смех взвился пронзительным ржанием, отнюдь не подобавшим сдержанному тону, который он усвоил с этой девчонкой по праву старшинства и родственных уз.
– Боги не допустили бы такой нелепости, – заявил он.
Богиня задумалась.
– Твоя вера в нас поистине трогательна. Чем заслужили мы такое поклонение?
– Мы чтим богов не за их дела, – сказал он, – а просто потому, что они боги.
И сам себе удивляясь, украдкой выпятил грудь, чтобы рука богини плотнее прильнула к ней. С внезапной досадой она ущипнула его.
– О Хирон, – сказала она, – если б ты знал их, как я! Расскажи мне про богов. Я так забывчива. Назови их. Эти имена так величественно звучат в твоих устах.
Покорный ее красоте, охваченный надеждой, что вот сейчас она сбросит полотенце, Хирон произнес нараспев:
– Зевс, владыка небес, тучегонитель и громовержец.
– Грязный развратник.
– Его супруга Гера, покровительница священного брака.
– В последний раз, когда я ее видела, она с досады, что Зевс уже целый год не восходит к ней на ложе, била свою прислужницу. А знаешь, как он в первый раз овладел ею? Обернувшись кукушкой.
– Удодом, – поправил Хирон.
– Нет, глупой кукушкой, какие выскакивают из часов. Ну, назови еще богов. Они такие смешные.
– Посейдон, властитель белогривого моря.
– Старый полоумный матрос. Он красит волосы в синий цвет. От его бороды воняет тухлой рыбой. У него целый сундук африканских порнографических картинок. Мать его была негритянка – белки глаз его выдают. Ну, дальше.
Хирон чувствовал, что пора остановиться, но злословие втайне доставляло ему удовольствие, в нем самом было что-то от шута.
– Пресветлый Аполлон, – возгласил он, – всевидящий властитель солнца, чьи дельфийские прорицания направляют нашу политическую жизнь, а всепроникающий дух приобщает нас к искусствам и законам.
– А, этот хвастун. Сладкоголосый хвастун, который вечно болтает только о себе; меня тошнит от его тщеславия. Ведь он неграмотный.
– Ну нет, это уж ты слишком.
– Верь моему слову. Возьмет свиток и сидит, уставившись без толку в одно место.
– А его близнец Артемида, прекрасная охотница, которую обожают даже звери, умирающие от ее руки?
– Ха! Она никогда не попадает в цель, вот в чем секрет. Хихикает в лесу со сворой вассаровских <"Вассар" – известный в Америке женский колледж> девиц, чью хваленую девственность ни один лекарь в Аркадии...
– Тсс, дитя!
Кентавр протянул руку, словно хотел зажать ей рот, и в страхе действительно едва не коснулся ее губ. Он услышал у себя за спиной приглушенный громовой раскат.
Она отступила, удивленная его дерзостью. Потом взглянула в небо поверх его плеча и, поняв, в чем дело, рассмеялась; это был невеселый смех, нестерпимо накаленный и вызывающе протяжный; ее совершенные черты, обезображенные смехом, заострились, от женственности не осталось и следа. Щеки, лоб, шея побагровели, и она закричала прямо в небо:
– Да, брат, да, я богохульствую! Вот они, твои боги, слушай: синий чулок, болтливая сорока, грязная карга, от которой воняет самогонкой, разбойник с большой дороги, пьяный псих и презренный, жалкий, вонючий, седой, хромоногий, чумазый рогоносец...
– Но ведь он твой муж! – возразил Хирон, надеясь умилостивить небо. Его положение было не из легких. Он знал, что снисходительный Зевс никогда не причинит зла его юной тетке. Но в гневе он мог поразить громом неповинного слушателя, чье положение на Олимпе шатко и двусмысленно. Хирон знал, что Зевс завидует его близости к людям, потому что сам он является смертным, лишь чтобы совершить насилие, да и то в птичьих перьях или звериной шкуре. И действительно ходил слух, что Зевс считает кентавров опасным племенем, из-за которого боги могут стать никому не нужными. Но небо хоть и потемнело, все же безмолвствовало. Хирон, преисполненный благодарности, решился продолжать и сказал Венере:
– Ты не ценишь мужа. Гефест знает свое дело, и он добрый. Ведь каждая наковальня, каждый гончарный круг – его алтарь, а он всегда скромен. После злополучного падения на Лемнос сердце его очистилось от всякой гордыни, и хотя плечи его сутулы, душа у него благородная.
Она вздохнула.
– Знаю. Но как могу я любить этого слюнтяя? По мне, уж лучше грубая душа. Ты думаешь, – сказала она недоверчиво и слегка снисходительно, как ученица, которую не часто удается заинтересовать, – меня тянет к грубым мужчинам, потому что во мне говорит комплекс вины из-за отцовского увечья? Думаешь, я чувствую себя виноватой и сама ищу наказания?
Хирон улыбнулся: он не был поклонником этих новомодных теорий. Тучи над ними рассеялись. Чувствуя себя в безопасности, он осмелился на дерзость и заметил:
– Есть одно божество, о котором ты умолчала.
Он намекал на Арея, самого злобного из всех.
Она тряхнула головой, и ее рыжие волосы взметнулись.
– Я знаю, что ты хочешь сказать. Что я не лучше других. Как же ты назовешь меня, благородный Хирон? Подсознательной нимфоманкой? Или попросту шлюхой?
– Нет, нет, ты меня не поняла. Я говорил не про тебя.
Но она, не слушая его, воскликнула:
– Ведь это несправедливо! – Она порывисто стянула на себе полотенце. – Почему мы должны отказываться от единственного наслаждения, которое судьба забыла у нас отнять? У смертных есть счастье борьбы, радость сострадания, удовлетворение мужества, но боги совершенны.
Хирон кивнул: старый царедворец знал, как часто эти аристократы на все лады превозносят тех, кого только что хулили. Понимала ли она, что, пустив в ход свой маленький арсенал насмешек над богами, она была близка к ужасной истине? Но приходилось смиряться; он всегда будет ниже их.
Она поправилась:
– Мы совершенны лишь в своем бессмертии. Меня безжалостно лишили отца. Зевс обращается со мной, как с любимой кошкой. Родственные чувства он бережет для Артемиды и Афины, своих дочерей. К ним он благоволит; им не приходится снова и снова выдерживать наскоки гиганта, эту жалкую замену страсти. Что такое Приап, как не воплощение Его силы без отцовской любви? Приап – самый безобразный из моих детей, достойный своего зачатия. Дионис обошелся со мной так, будто я – очередной юноша.
Произведения
Критика