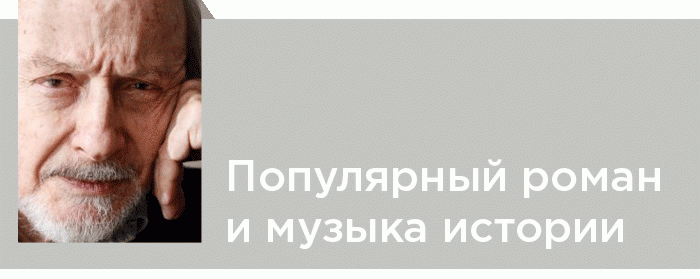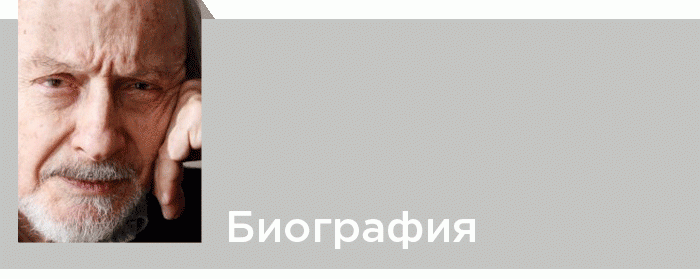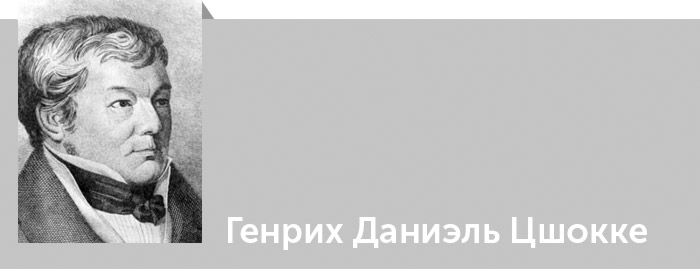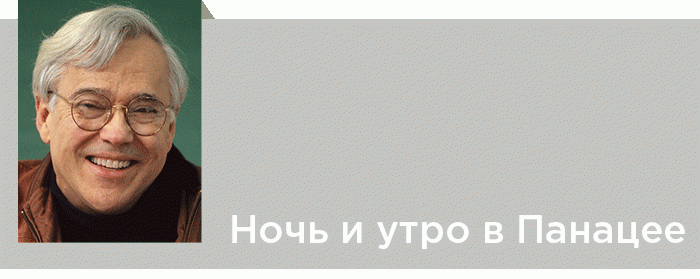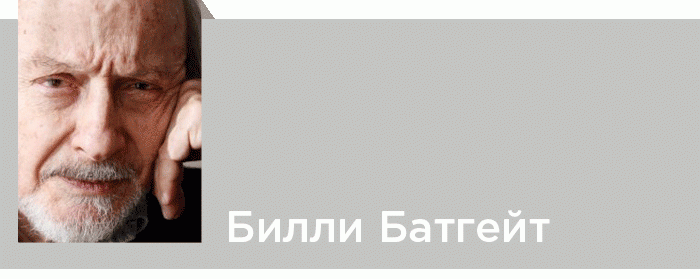Эдгар Лоренс Доктороу. Гагачье озеро

А. Зверев
«Каждый, кто хоть пять минут смотрел телепрограмму, поймет, как надо читать эту книгу», — заметил Доктороу в интервью по выходе своего нового романа. Типичная американская телепрограмма — это коллаж новостей, перебиваемых рекламными объявлениями, эстрадными номерами, мультипликационными короткометражками и т. п. В ней нет очевидной целостности композиции. Наоборот, внешне это какой-то хаотичный поток, в котором, однако, ключевые сюжеты выделены с такой настойчивостью, что начинают преследовать неотвязно — идет ли речь о подлинно значительном событии или всего лишь о новой электробритве, с особым упорством навязываемой будущему покупателю.
Чем оправдан — да и вообще правомерен ли — эксперимент перенесения подобной техники в прозу? На этот вопрос едва ли можно ответить однозначно; недаром критики, пишущие о Доктороу, полемизируют по данному поводу еще со времен «Рэгтайма» (1975).
Стоит, впрочем, заметить, что для американского романа все это не так уж ново. Сразу вспоминается Дос Пассос, и особенно «Большие деньги», где был взят тот же реальный материал: движущаяся американская история на переломе от 20-х к 30-м годам. Дос Пассоса увлекал язык кинематографа; Доктороу, судя по его автокомментарию, увлекла емкая широта поэтической метафоры, определившей композицию книги: «Я старался, чтобы сам стиль все время напоминал об озере, о том, как в нем, расплываясь и поблескивая, отражаются световые пятна, как воспроизводятся и тут же раскалываются на мелкие куски образы внешнего мира».
Холодное озеро в горах — овеянное жестокими легендами, посещаемое призраками индейцев, истребленных по его берегам, и реальными гагарами, прилетающими за рыбой, — не случайно дало заглавие книге Доктороу. Это символ — ясный и многозначный одновременно. На берегу Гагачьего озера автомобильный магнат Беннет воздвиг особняк, где неделями не утихает разгульный и жалкий пир нуворишей, пока толпы голодных осаждают ворота беннетовских заводов по всей Америке. Здесь, в поместье, оберегаемом от нежелательных посетителей вооруженной охраной, изолированном от мира безлюдными горами и высокими ограждениями, пересекутся пути центральных персонажей романа. Здесь разыграются драмы по-своему глубокие и безысходные, хотя все они замешаны или на бездонном цинизме, или на таком непреодолимом чувстве опустошенности и бесцельности существования, когда парализуется всякая воля к нравственному самоопределению и притупляется сознание ответственности хотя бы за собственную судьбу.
Однако с Гагачьим озером, постоянно присутствующим в атмосфере повествования Доктороу, сопрягается не только символический образ ледяного холода, жестокости и пустоты, неотъемлемых от бытия «очень богатых». В романе Доктороу, как в тронутом порывом ветра отражении на водной глади, дробится сама действительность. И осколочность ее отблесков, схваченных на книжной странице, призвана усилить то главное ощущение, которое писатель стремится передать всей художественной организацией романа: мир фрагментарен и алогичен, реальность хаотична и лишена внутренней логики, отношения людей случайны, непоследовательны, бессвязны.
Целостный образ времени, едва намеченный «общим планом», тут же разрушается микроструктурой бесчисленных фрагментов рассказа, будто Доктороу сам не верит, что у изображаемой им эпохи была своя целостность, своя историческая завершенность.
Дос Пассос, чей опыт для Доктороу особенно важен, в «Больших деньгах» создал социальный эпос, воссоздающий 20-е годы. Обращаясь в «Гагачьем озере» к «красным 30-м», Доктороу тоже стремится к подобной эпике. Но в фокусе внимания романиста оказываются не столько «центростремительные», сколько «центробежные» силы и порождаемая ими отчужденность в человеческих отношениях. Завязывается внутренний конфликт, остающийся в книге Доктороу по большому счету незавершенным.
Ее «общий план» — это и обобщенная метафора Гагачьего озера, и мотив «дороги», на которой в годы мирового экономического кризиса оказываются многие тысячи обездоленных и разоренных, и написанные с репортажной точностью сцены стачек, полицейского насилия, полуживотного быта рабочей окраины, где властвуют нищета, голод и отчаяние.
В этих эпизодах отчетливо прослушивается пульс времени. Судьбы основных героев сверены по этому камертону, и в них ощутим четкий, порою даже несколько прямолинейный социальный детерминизм, сразу же заставляющий вспомнить пролетарский роман 30-х годов.
Однако подобным детерминизмом вовсе не исчерпывается повествовательная гамма Доктороу, для которой ничуть не менее существенным оказывается и совсем иной «ключ» — поток сознания, изолированного от реальных взаимосвязей с социальным космосом. Здесь вспоминается Джойс, а порою возникает перекличка — вполне закономерная, если учесть объективное сходство идейно-мировоззренческих задач, — с новейшей авангардистской прозой, в которой самыми различными способами читателю внушается представление о тотальной бессистемности и бессвязности мира.
К литературным сопоставлениям располагает само повествование Доктороу; в нем предостаточно явных или скрытых «цитат», свидетельствующих, пожалуй, не об одной лишь стилистической эклектике, но о серьезных противоречиях Доктороу, как раз и побуждающих его к попыткам примирить антагонистичные системы мироощущения, как и разнородные поэтические системы. Своеобразие повествования Доктороу, конечно, не утрачивается до конца, и все же подобное обилие литературных реминисценций, к тому же разнонаправленных и порою чужеродных природе социально-аналитической литературы, не может не встревожить: возникает ощущение распутья, на котором оказался сегодня Доктороу, слишком тяготеющий к некой совершенно условной модели «современного стиля», связанного лишь с модернистским экспериментом. Даже имя главного героя — Джозеф Коженевский — символично: внимательный читатель вспомнит, что это настоящая фамилия Джозефа Конрада, которого на Западе упорно стараются изобразить предтечей всего модернистского направления в англоязычной прозе XX века.
Сочетать повествовательные потоки, столь друг от друга далекие, оказывается трудно, как ни изобретателен Доктороу в ритмических перебивах, монтажных стыках и даже переходах от прозы к верлибру, то выделенному, то не выделенному графически. Характер, ясно намеченный «общим планом», распадается в мельтешащих фрагментах, и намеренно неясных и отрывочных бликах «внешнего мира». И в итоге писатель оказывается вынужден прибегнуть к своего рода служебной анкете, помещенной на последней странице и как-то систематизирующей сведения о герое.
Из нее мы узнаем, что Джо, сын нищих польских эмигрантов, выросший в трущобах Патерсона, в 1941 году был усыновлен Беннетом и сделал ошеломительную карьеру. Он стал крупным чиновником ЦРУ, президентом беннетовской корпорации, наследником «Гагачьего озера». В конце концов он проделал свой путь наверх, расплатившись глубоким нравственным падением. И в этом смысле он вполне типичен как один из многочисленных послевоенных конформистов, которым странно оглянуться на «красные тридцатые», когда и они были не чужды духа бунтарства.
Тогда (и тут мы возвращаемся от завершающей роман анкеты ко времени «непосредственного» действия «Гагачьего озера») он и привлек Беннета своей колючей, независимой натурой, ломать которую было по-своему интересно, а главное, не так уж трудно — в этом магнат не ошибся. Джо Коженевский с детства узнал, что такое нужда и бездомность, и решающим, глубинным его побуждением был страх перед такой судьбой. В «Гагачье озеро» он попал, случайно наткнувшись на узкоколейку, ведущую в этот райский уголок, и был избит охранниками, но хозяину приглянулся — настолько, что тот не стал его преследовать, когда Джо сбежал, похитив наложницу миллионера Клару Лукач. Беннет, впрочем, знал, что нарушитель спокойствия вернется с повинной. Так и произошло: Джо не выдержал суровой прозаичности «тяжелых времен», столкнувшись с нею впрямую на автозаводе, где его ожидала потогонная система труда, вечная угроза безработицы и кабала лавочников да продажных профсоюзных боссов. Один из них был осведомителем компании — и обманутые им рабочие рассчитались с ним ударом ножа, а на подозрении по иронии судьбы оказался Джо, и перспектива тюрьмы сломила его окончательно. Все последующее только закономерно: холуйство и угодничество перед Беннетом, богатство и полная утрата личности.
Сложнее и трагичнее судьба второго центрального персонажа романа — Уоррена Пенфилда. Он тоже выходец из пролетариата, сын шахтера, ставший поэтом и пополнивший ряды «потерянного поколения» — лишь для того, чтобы пережить банкротство в своем громогласном, но очень поверхностном бунте и кончить дни чем-то наподобие придворного шута в «Гагачьем озере», забавляя собирающихся у Беннета самодовольных невежд «из общества» и мстя им злыми, гротескными стихами, сочиняемыми тайно от подслушивателей и подглядывателей. История опять же типичная, в которой нашли обобщение судьбы многих молодых бунтарей, и в 30-е, и в 60-е годы оказывавшихся беспомощными перед логикой законов действительности, требовавших серьезного идейного выбора и жестоко развенчивавших иллюзии освобождения на путях чисто эмоционального неприятия буржуазных принципов и норм. Однако, как и история Коженевского, она требует от читателя самостоятельной реконструкции по фрагментам и осколкам, в которых теряется объективный смысл описываемых Доктороу человеческих драм.
Один из рецензентов «Гагачьего озера» писал, что Доктороу «предъявляет горький счет атмосфере 30-х годов, изувечившей поколение, которое тогда выходило на общественную сцену». Это неверно: созданная в романе картина лишена тенденциозной идейно-эстетической одноплановости. Скорее она контрастна, и, хотя мощное демократическое движение, в ту пору втянувшее в свою орбиту миллионы еще вчера очень далеких от политики людей, показано Доктороу лишь эпизодически, реальность того грозного времени все же непосредственно чувствуется на страницах романа, напоминая читателю и о голоде, униженности, бесправии, и о грозно накаляющемся гневе угнетенных, и о мучительном переломе в самосознании рядовых американцев, многим из которых довелось тогда впервые ощутить себя не просто жертвами, но участниками истории.
По судьбам Пенфилда и Коженевского эта ломающаяся история прокатывается тяжелым, давящим колесом. Такой ракурс изображения 30-х годов, думается, тоже правомерен — разумеется, при условии, что из поля зрения автора и читателя не исчезает масштабность социальных процессов, развернувшихся в ту эпоху и определивших ее своеобразие. К сожалению, Доктороу не удалось найти такого художественного решения, которое позволило бы воплотить эти процессы во всей их полноте.
Л-ра: Современная художественная литература за рубежом. – Москва, 1982. – Вып. 1. – С. 69-72.
Произведения
Критика